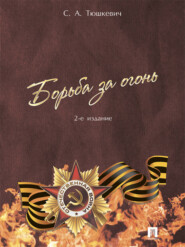
Полная версия:
Борьба за огонь. 2-е издание
Фукидид (ок. 460–400 гг. до н. э.) – крупный военный деятель и историк античного мира – положил начало формированию системы научных военно-исторических знаний, главную задачу которой полагал в «отыскании истины»6 и сам старался решать ее сознательно и последовательно. Он отверг попытки объяснения событий общественной жизни, причин героизма и подвигов указанием на вмешательство сверхъестественных сил. Фукидид был первым из ученых, кто избрал принцип поиска естественных причин исторических событий. Он придавал огромное значение методам критической проверки исторических сведений в интересах объективного и достоверного изложения событий.
В отличие от некоторых современных фальсификаторов военной истории Фукидид обладал глубокими знаниями военного дела и хорошим образованием, был знаком с современными ему философскими и естественно-научными теориями. Фукидид был близок к выдающемуся политическому деятелю Афин Периклу и его окружению, которое составляли философы Сократ и Зенон, трагик Софокл, архитектор Гипподам, убежденные в совместимости коллективной морали демократического Афинского государства с интересами отдельного гражданина. И хотя Фукидид был современником Геродота, его творчество несравненно выше творчества «отца истории», так как пронизано философскими воззрениями эпохи античного просвещения, а не религиозной идеологией.
Трудами Ксенофонта (около 430 г. до н. э. – не ранее 356 г. до н. э.) заканчивается классический период развития греческой историографии, в том числе военной, содержащей в себе описание и объяснение военных подвигов.
Важную роль в дальнейшем накоплении военно-исторических знаний о героизме и подвигах сыграл древнегреческий историк Полибий (около 200 – около 120 г. до н. э.), который в 40 книгах своей «Всеобщей истории» (из них полностью сохранились лишь первые пять) предпринял первую попытку изложения во взаимной связи истории Греции, Македонии, Малой Азии, Сирии, Египта, Карфагена и Рима. Он пытался «дать людям любознательным непреходящие уроки и наставления правдивою записью деяний и речей… принести пользу любознательным читателям правдою повествования»7. Считая историю наставницей жизни, он полагал, что описывать военные события, героические деяния вправе лишь тот, кто имеет личный военный опыт и обладает знанием военных и государственных дел, географии и т. д.
В отмеченной Полибием взаимосвязи событий он видел естественный, закономерный процесс исторического развития и полагал, что «особенность нашей истории и достойная удивления черта нашего времени состоит в следующем: почти все события мира судьба направила насильственно в одну сторону и подчинила их одной и той же цели»8.
Одним из выдающихся историков Древнего Рима был Саллюстий (86–34 гг. до н. э.), видный общественный деятель, сторонник Цезаря. В его исторических сочинениях большое место занимают военные подвиги и героические поступки известных государственных и военных деятелей Рима. Такой же подход присущ трудам самого Юлия Цезаря (102 или 100–44 гг. до н. э.) – выдающегося римского политика, полководца и военного писателя. Особенно ценными в этом отношении являются его «Записки о галльской войне» и «Записки о гражданской войне», представляющие собой яркий и достаточно правдивый, особенно в отношении к галльским воинам, рассказ непосредственного участника событий.
Для военной истории, ее героических страниц значительный интерес представляют также «Сравнительные жизнеописания» Плутарха (около 46–около 127 г.), в которых изложены биографии многих исторических лиц, главным образом периода полисной Греции и Римской республики: Гракхов, Мария, Суллы, Сертория, Лукуллов, так называемого первого триумвирата в лице Красса, Помпея, Цезаря и его противников – Цицерона, Катона Младшего, Брута. Он идеализирует своих героев, опускает многие важные исторические факты или касается их мельком и в то же время нередко акцентирует внимание на мелких обстоятельствах и даже анекдотах, если они содержат материал, позволяющий обрисовать характер героя.
Следующий этап становления и развития военно-исторических знаний относится к Средним векам. Тогда они сосредотачивались главным образом в церковных (монастырских) хрониках и составили хотя и обильный, но сырой материал для военной истории того времени и в военном отношении зачастую неудовлетворительный. К тому же события военной истории в них объяснялись чаще всего с позиций провиденциализма и мистики.
Что же касается военно-исторических знаний на Руси в XII–XVIII вв., то и здесь они существовали в виде летописей при монастырях и княжеских дворах. В начале XII в. была создана «Повесть временных лет», в которой широко освещается история Руси с древнейших времен и до конца XI в. В ней важное место занимают вопросы военной истории, особенно походы князей Олега, Игоря и Святослава против хазар, печенегов и византийцев. Как утверждает летопись, эти походы имели по существу одну и ту же цель – обеспечить независимость Русского государства в политическом и экономическом отношениях.
В связи с усилением феодальной раздробленности на Руси, образованием ряда отдельных княжеств, междоусобной борьбой за политическое главенство и великокняжеский престол, появились местные летописи: новгородские, владимирские, суздальские, ростовские, московские, галицко-волынские и др. В них сохранились сведения о многих событиях военной истории, связанных с борьбой русского народа против иноземных захватчиков – немцев, шведов, поляков.
Военно-политические вопросы нашли широкое освещение в «Слове о полку Игореве», «Житии Александра Невского» и «Задонщине». В них, например, говорится о необходимости единства русского народа и объединения отдельных княжеств с укреплением власти великого князя. Идея единодержавия нашла отражение в «Сказании о князях Владимирских» и в «Степенной книге». Последняя преследовала цель доказать, что история Русского государства неразрывно связана с историей дома Рюриковичей.
Затем появляются летописные своды, в которых предпринимаются попытки осмыслить историю всего Русского государства и показать ее связь со всемирным историческим процессом. Например, «История о Казанском ханстве» излагает ход борьбы Русского государства с казанским ханством, раскрывает значение возвращенных исконно русских земель. Ливонская война освещена в «Повести о прихожении Стефана Батория под град Псков», а взятие Азова – в исторических повестях. Это был важный этап как в накоплении и развитии исторических знаний, так и в освещении героических страниц истории Руси.
В целом западноевропейские средневековые хроники и русские летописи в известном смысле явились шагом назад по сравнению с античной общей и военной историографией. Военно-исторические и другие события общественной жизни объяснялись главным образом с позиции провиденциализма. События в большинстве случаев рассматривались как проявление извечной борьбы бога и дьявола, неба и ада. Войны и стихийные бедствия объяснялись «божьей волей», «карой за грехи» или же «кознями дьявола», приближением «конца света». И хроники, и летописи выражали интересы духовных и светских властителей.
Вместе с тем в работах отдельных средневековых мыслителей встречаются попытки вскрыть «земные» причины конкретных войн.
Коренной поворот в развитии исторической мысли в целом, военно-исторической в частности, наступил с созданием гуманистической историографии эпохи Возрождения, связанной с появлением раннекапиталистических отношений.
Наиболее видным представителем этой эпохи был Никколо Макиавелли (1469–1527 гг.), один из первых крупных мыслителей нового времени. Исходя из признания исторической закономерности в описываемых событиях общей и военной истории, он стремился показать деятельность людей, в том числе героическую, много внимания уделяя истории и теории военного искусства. Этим вопросам он посвятил специальную работу «О военном искусстве», пробудив у общественности интерес к изучению истории войн и военного дела9.
Глубоко мыслящие историки и философы эпохи Возрождения нанесли ощутимые удары богословскому провиденциализму и подвергли критике примитивные теологические концепции, из которых исходили авторы средневековых хроник. Они выдвинули и обосновали рационалистическое понимание истории, вели борьбу против примитивного описательства, характерного для средневековых хроник.
Развитие военного дела настойчиво ставило перед историками задачу обобщения и анализа военно-исторического опыта для развития военной теории тех дней, которая находилась на низком уровне и явно отставала от военной практики, особенно в эпоху, когда резко возросла численность армий, войны получили больший размах, а огнестрельное оружие стало важным фактором вооруженной борьбы.
В центре внимания военных историков эпохи Возрождения находились военные походы Александра Македонского, Ганнибала, Юлия Цезаря. Так, например, военные деятели буржуазной революции в Нидерландах и освободительной войны голландцев против испанской феодальной монархии (1565–1609 гг.) придавали первостепенное значение полководческому искусству античности, всемерно поощряли исследования опыта древних и использование его в разработке новых способов вооруженной борьбы, соответствовавших духу времени. В трудах и мемуарах самих военных деятелей ход и исход войн, причины побед и поражений зачастую виделись лишь в талантах или бесталанности полководцев и правителей.
Для понимания истоков героизма и военных подвигов немало сделали английские философы Фрэнсис Бэкон (1561–1626 гг.) и Томас Гоббс (1588–1679 гг.). Бэкон рассматривал войну как необходимое упражнение «политического тела», т. е. государства, считая, что мирное время приводит к упадку мужества и порче нравов. Природу и причины войн Гоббс видел в «злой» природе людей. Английский философ Джон Локк (1632–1704 гг.) осуждал несправедливую войну, под какой бы личиной она ни выступала. Справедливой он признавал лишь войну в ответ на агрессию, а также восстание народа против монарха-узурпатора, не соблюдающего принципы «естественного права» и тем самым нарушающего «общественный договор», будто бы лежащий в основе происхождения государственной власти.
Французские просветители XVIII в. пошли дальше своих предшественников в осуждении феодально-династических войн, причины которых они усматривали главным образом в невежестве, заблуждениях, религиозном фанатизме людей, считая, что устранение пороков феодального общества и развитие просвещения позволит людям избежать ужасов взаимного истребления. На этом основании военные историки все чаще пытались дать не теологическое, а земное, «естественное» объяснение причин и характера войн, действий в них людей, в первую очередь героических.
Для понимания характера деятельности людей во время войны, их поступков, как героических, так и панических, предательских, большое значение имели выдвинутые французскими просветителями идеи исторических закономерностей и исторического прогресса. На них все больше опирались военные историки при рассмотрении вопросов возникновения конкретных войн, их характера, места и роли среди других общественных явлений, побед и поражений, а также вопросов истории армий, военного искусства и других проблем.
Не случайно в первой половине XVIII в. появились зрелые военно-исторические труды, оказавшие заметное влияние на практику военного дела. Так, прусский король Фридрих II в своих трудах использовал идеи и теории французских и английских просветителей, но главным образом тех, которые стояли на позициях «просвещенного абсолютизма». Он приложил много сил для развития идеологии и практики милитаризма в Пруссии и превратил это сравнительно небольшое государство в одну из крупных военных держав с самой мощной в 1750–1780-е гг. армией в Западной Европе.
Значительное влияние на понимание поведения людей в ходе войны и изучение деятельности полководцев оказал англичанин Генрих Ллойд (1729–1783 гг.). Он впервые употребил понятие «философия войны», относя к нему все то, что связано с моральным состоянием войск. «Философию войны» он считал высшей и труднейшей частью военного искусства, ибо она предполагает глубокое знание природы человека, источников его страстей и должна разрабатывать для полководца способы воздействия на морально-психологическое состояние личного состава.
Французская буржуазная революция 1789–1793 гг. привела к глубоким преобразованиям в военном деле и дала мощный импульс для развития всех отраслей военного знания. Более высокий уровень военного дела позволил по-новому взглянуть на победы и поражения, деятельность войск и полководцев в них. Наибольшее отражение это нашло в работах немецкого военного историка и теоретика К. Клаузевица (1780–1831 гг.), основной военно-теоретический труд которого «О войне» стал своеобразным итогом работы автора в области военной истории и теории10. В трудах Клаузевица видное место занимали проблемы взаимосвязи войны и политики, роли войск и полководцев в войне, их военных подвигов и т. п. Подобные мысли можно найти и у других военных историков и теоретиков того времени: австрийского эрцгерцога Карла (1771–1847 гг.), французского, а с 1813 г. русского генерала Г. Жомини (1779–1869 гг.), а также Наполеона Бонапарта, Б. Бюлова, Г. Шарнхорста и др.
Труды этих и многих других военных историков, написанные в конце XVIII – начале XIX в., по своему научному уровню стоят значительно выше военно-исторических трудов предшествующего времени11.
В конце XVIII – первой половине XIX в. произошло выделение военной истории в самостоятельную науку, причем если во Франции, Пруссии, России, Англии, Австро-Венгрии этот процесс происходил почти одновременно, то в США он начался и завершился позже.
В ХХ в. отечественная военная история стала уже зрелой научной дисциплиной и достаточно эффективно выполняла познавательную, просветительную, образовательную, воспитательную и другие функции. В советском обществе она наполнилась новым, более глубоким содержанием, сыграла большую роль в творческом развитии военной науки, в подготовке страны, народа, Красной Армии к отражению агрессии и в победе над фашизмом12.
Военно-историческая наука была и остается неиссякаемым кладезем знаний об Огне истории, о том, как Россия, Советский Союз обеспечивали свою безопасность в непростых и меняющихся геополитических условиях.
* * *В настоящей книге речь идет о борьбе за сбережение Огня истории и использовании его созидательной силы в интересах народов России. В центре внимания автора находится широкий круг вопросов общественного и государственного развития, обеспечения безопасности России, роста ее могущества.
Второе издание работы существенно дополнено новыми материалами, частично изменена структура труда.
Автор выражает глубокую благодарность Н. Н. Ефимову, В. А. Золотареву, Н. В. Илиевскому, А. Н. Каньшину, В. Г. Кикнадзе, В. Н. Ксенофонтову, В. И. Лутовинову, А. М. Соколову, Б. П. Уткину, высказавшим свои замечания и предложения по содержанию книги и ее совершенствованию.
I
Cпасительный огонь
Глава 1
Россия в войнах
История нашего Отечества чрезвычайно насыщена драматическими и трагическими событиями, непосредственно связанными с войнами. В народной памяти запечатлены многие из них, при этом особое место принадлежит ратным подвигам, совершенным в справедливых и национально-освободительных войнах, ибо именно они обеспечили возможность самостоятельного и независимого развития страны. Славные победы над иноземными захватчиками, вторгавшимися в пределы нашего Отечества с запада, востока, севера и юга, одержанные благодаря самоотверженному ратному труду, мужеству и героизму нашего народа, по праву являются предметом национальной гордости россиян, важнейшим фактором формирования их самосознания.
Начиная с глубокой древности наши предки сражались с врагами за свою жизнь и свободу. С появлением государственности боевые действия в войнах приобретают масштабный и организованный характер. Русь закалялась, отражая частые нападения внешних врагов, отстаивая в войнах свое право на достойное существование и независимое развитие. Случались также войны внутренние, междоусобные, особенно частые в XI–XIV вв., в так называемые удельные времена.
В эпоху образования централизованного Московского государства (XIV–XV вв.) собирание русских земель велось не только мирным, но нередко и военным путем.
В ХVI–XVII вв. Русское царство сражалось за свой державный статус в многочисленных войнах с сильными внешними врагами, стремившимися помешать его выходу к морям и пытавшимися при каждом удобном случае захватить его земли.
Российская империя (XVIII – начало ХХ в.), став важнейшим фактором сначала европейской, а затем и мировой политики, самым активным образом участвовала в ее вооруженных конфликтах как самостоятельно, так и в составе коалиций.
После победы Октябрьской революции новая социалистическая Россия отстояла право на сделанный ее народом исторический выбор в Гражданской войне и в борьбе с иностранными интервентами. В эпоху СССР главным военным событием стала Великая Отечественная война, Победа в которой имеет не только национальное, но и всемирно-историческое значение.
Войны в защиту свободы и независимости нашей страны дали особенно много примеров ратных и трудовых подвигов. Память о них бережно сохраняется и обогащается усилиями исторической науки, отражается в произведениях литературы и искусства13.
1. Испытания войнами
Первые войны на территории нынешней Центральной части России предположительно датируются серединой первого тысячелетия до н. э., но точных сведений о них практически нет. Относительно войн первого тысячелетия н. э. данных значительно больше, хотя и они не отличаются большой точностью. В результате одни исследователи полагают, что Россия за свою историю участвовала в 1500 войнах, а другие – примерно в 700. Но почти все сходятся во мнении, что число войн, в которых она была вовлечена, увеличивалось от века к веку, а наиболее «урожайными» в этом отношении были XVI и XIX вв. Самым же «жарким» оказался XX в., когда Россия участвовала в двух мировых войнах и значительном числе локальных.
Всего во втором тысячелетии н. э. Россия сражалась в войнах без малого 600 лет (называют даже точную цифру – 592 года), т. е. около 60 % этого временного отрезка. Для сравнения: у Англии аналогичный показатель составляет 72 %, у Франции – 80 %, у Греции – 63 %.
В VIII–IX вв. на территории Древней Руси оформились два крупных государственных образования с центрами в Новгороде и Киеве. В IX в. некогда платившие дань варягам племена, населявшие северо-западную часть Восточно-Европейской равнины (Новгородские земли), как гласит одна из летописей, силой своего оружия освободились от даннической зависимости. Начинает складываться первое древнерусское государственное феодальное объединение племен со столицей в Новгороде.
Затем кривичи, словени, меря и чудь избирают, причем добровольно и самостоятельно, русского князя в правители: «…и от тех словет Русская земля, и суть Новгородстии людии и до Днешнего дни».
В 882 г. князь Олег со сформированным им войском из Новгорода и Смоленска берет Киев. Образуется Русь из двух княжеств – Новгородского и Киевского. Столицей становится Киев. В 883–884 гг. Олег подчиняет своей власти племена, жившие западнее и северо-восточнее Киева, и запрещает им платить дань хазарам.
Подчинение княжеской власти происходило на основе договоров, но с помощью вооруженной силы. Объединение северных и южных земель, присоединение к ним других племенных территорий и народов, на них проживающих, заметно усилили Русское государство в военном отношении. Первое упоминание о фактах, как мы сказали бы сегодня, организованного военного строительства, относится к 904 г., и связано оно с походом на Византию. После трехлетней подготовки под стягом князя Олега в 907 г. было собрано огромное войско. Оно состояло из вооруженных формирований, имевших дружинную форму организации и управления. Наемную дружину формировали из варягов, а племенные вооруженные ополчения – из коренного населения Руси – словен, чудей, кривичей, мери, полян, северян, древлян, радимичей, хорват, дулебов, тиверцев и др. из «воев» или «ратников». Для переброски этого войска морем к Константинополю были использованы две тысячи ладей.
В результате данного военного похода Олег добился укрепления позиций Руси на Черном море и ее международного признания. Был заключен первый мирный договор с Византией.
В 915 г. Русь впервые столкнулась с печенегами, вторгшимися в ее пределы. Спустя пять лет русский князь Игорь совершил первый военный поход на печенегов.
После смерти князя Святослава I (убит печенегами в 972 г.) натиск печенегов на Русь усилился. Не раз приходили они в русские пределы и в союзе с другими захватчиками. Последний раз печенеги напали на Русь в 1036 г. и были разбиты у стен Киева новгородско-киевской дружиной князя Ярослава I. В дальнейшем часть печенегов влилась в половецкие орды, другие были приняты Русью для охраны степных рубежей, а основная масса ушла в Придунайские земли и Венгрию.
Важным этапом становления Руси стала борьба с многочисленными половецкими племенами (кипчаками), кочевавшими на огромных территориях от Дуная до Иртыша. Они совершали набеги на Русь, Болгарию, Византию, а также принимали участие в междоусобицах русских князей.
Первое масштабное нашествие половцы совершили в 1061 г. и нанесли поражение князю переяславскому Всеволоду Ярославичу. Их натиск усиливался при каждой смене княжеской власти. Русь была вынуждена укреплять свои южные порубежья крепостями. Мирные отношения с ними пытались строить и путем династических браков: многие русские князья брали в жены дочерей половецких ханов. Несмотря на это, угроза половецких набегов была постоянной.
Как самостоятельная политическая сила (Половецкая степь) половцы последний раз напали на Русь на востоке (Рязанское княжество) в 1219 г., а на западе (Галицкое княжество) – в 1228 и 1235 гг.
На их набеги Русь отвечала походами в Половецкую степь. Наиболее действенными стали походы русского войска в 1103–1202 гг.
В 1103 г. половцы в очередной раз нарушили мир. Великий князь Святополк II Изяславич Киевский (1050–1113 гг.) и князь переяславский Владимир Всеволодович Мономах (1053–1125 гг.) договорились о совместном походе на половцев. Под началом великого князя было образовано общерусское дружинное войско, сформированное из семи основных отрядов.
Пройдя ладьями по Днепру ниже порогов, дружинники сошли на берег у острова Хортица. Далее «на конях и пешие пошли полем». Двигаясь навстречу русским войскам, половцы послали во главе авангарда хана Алтунопу. Однако русские подстерегли отряд и, окружив, перебили всех его воинов. В бою погиб и сам Алтунопа. Этот успех позволил русским полкам внезапно встать на пути основных сил половцев, которые «растерялись и страх напал на них, и оцепенели сами, а у коней их не было быстроты в ногах». Как пишет летописец, «обрушилось русское воинство с веселием на конях и пешие на врага». Половцы не выдержали натиск и побежали.
В 1111 г. русские князья решили организовать новый поход на половцев. Объединенное войско на сей раз уже состояло из одиннадцати дружинных войск русских князей.
В сражении, которое произошло 24 марта на потоке Дегея («на поле салне реце» – в Сальских степях), победила Русь. Однако 27 марта половцы войском в «тысячу тысяч» обступили русские полки и завязали «рать лютую». Большой полк Святослава II первым вступил в бой. И когда с обеих сторон было уже много убитых, во фланги половцам ударили сводные полки князя Владимира и полки князя Давыда. Сражение завершилось полным разгромом на реке Сальнице. Полувековая борьба Руси с половцами была увенчана военным триумфом, и вплоть до 1128 г. половцы не совершали крупных набегов.
Вскоре для Руси появились новые угрозы. После завоевания Волжско-Камской Болгарии монголо-татарские полчища, в состав которых входили воины многочисленных народов, покоренных Чингисханом и его потомками, двинулись на Русь. Первым подверглось нападению и разграблению Рязанское княжество. В 1238 г. монголо-татары пошли на Владимиро-Суздальское княжество, захватили и разрушили Коломну, Москву, Тверь, престольный Владимир и Суздаль. В 1240 г. хан Батый разгромил Южную Русь, включая Киев, Галич и Чернигов. Успехам завоевателей способствовала разобщенность сил русских князей. На Руси было установлено монголо-татарское иго.
В это же время появилась угроза с запада. Три феодально-католические силы на северо-востоке Европы – Тевтонский (Немецкий) орден, датчане и шведы при поддержке католического Рима договорились о совместном выступлении против Новгорода, чтобы завоевать северо-западные русские земли и насадить там католицизм. Они надеялись на легкий успех, считая, что обескровленная и разграбленная Русь не сможет оказать какого-либо сопротивления. Но получилось иначе!

