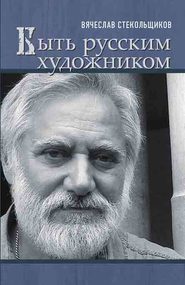
Полная версия:
Быть русским художником
Если бы фильм был плодом творческой фантазии, то, по закону жанра, массовка и не должна выходить на передний план, но уж коли обратились к этой теме, то надо помнить, что гибель тысяч людей – это правда, а истинная трагедия все же в гордыне цивилизации.
Впрочем, вполне вероятно, что это только мое восприятие. А цивилизованный мир выразил свое отношение рекордной суммой долларов, уже вырученных от проката этого фильма и превосходящей во много раз затраты. Увы, для большинства людей деньги являются единственным аргументом успеха.
Если бы это относилось только к киноиндустрии, вряд ли меня волновало, но в том и беда, что на коммерческой основе построена система ценностей мира сего. Деньги превращают искусство в товар, деньги формируют общественное мнение, оттесняя художника от этого процесса. И эта дистанция делает общественное мнение враждебным для художника, потому что коллективное мнение, возможно, самое опасное явление для искусства.
Нам только кажется, что с уходом однопартийной системы мы освободились от необходимости одинаково думать. Потребность в коллективном мышлении так устойчива, что толпа готова принять за истину любую внушаемую ей идею или навязываемый вкус. Опасность усугубляется еще и удивительной способностью общества, легко меняющего одно мнение на другое, доводить все до абсурда. Так, едва освободившись от коммунистического конформизма, общественное мнение готово стать жертвой конформизма демократического.
Для меня не важно в данном случае – какое из двух зол меньшее. Здесь трудно переоценить значение собственного мнения и способности художника плыть против течения.
Личность чаще оказывается права в споре с обществом, потому что только творческая личность обладает способностью опережать свое время. Возможно, в этом и заключается драма художника?
Конечно же, нет. Более того, нет, слава Богу, в огромном количестве двух одинаковых одаренных людей. Субъективная природа таланта подразумевает многообразие творческих выражений. Но есть все же невидимая граница, разделяющая художников на два несовместимых сообщества. Одни верят в Божественное происхождение человека и бессмертие души, другие уверены в своем происхождении от обезьяны и материалистическом мироустройстве.
Таким образом, по моему мнению, для всех художников существуют два союза: союз верующих в Бога и союз безбожников. Осознание этого многое ставит на свои места, позволяя судить о творчестве тех и других по абсолютно разным критериям. У этих союзов противоположные цели. Однако ошибка теоретиков, да и художников, в том, что они главное внимание уделяют анализу формы выражения – языку. Здесь легко впасть в ошибку хотя бы потому, что реалистическим языком можно выражать не только праведные, но и сатанинские убеждения; что же касается нетрадиционной формы, то и она может выражать как разрушение, так и созидание.
Впрочем, может быть, кто-то, вовсе не задумываясь над этим, творит себе в удовольствие, наслаждаясь самим процессом. Возможно, даже слишком много таких художников, которые не ведают, что творят.
Но сегодня, в эту светлую ночь, я в плену своих собственных размышлений и стремлюсь воспользоваться этим сеансом, чтобы отыскать в хитросплетении времени свое место и свою правду.
Господь создал нас свободными в выборе пути к истине. Эта свобода и стала самым серьезным испытанием, которое не выдержали даже некоторые ангелы, проявившие своеволие и гордыню. За падшими ангелами – бесами, во главе с сатаной, конечно же, последовали и люди. И было бы наивным полагать, что дьявольские искушения обошли художников. Вот уж кому трудно преодолеть соблазн ничем не ограниченного «творческого» поиска ради самоутверждения и самовыражения.
Еще Достоевский заметил постоянное стремление культурного человечества устроиться без Бога. Он же говорил о том, что русскому человеку легче сделаться атеистом, чем всем остальным – «он непременно уверует в атеизм, как в новую веру». Об этом думали многие русские мыслители. У Сергия Булгакова я нашел подтверждение моих опасений в беспримерных усилиях нашей эпохи «свести человека на землю и опустошить небо». Эти самоубийственные усилия лишают человека высшей духовной природы, его Богоподобия и бессмертия души.
Для того, кто убежден в своем происхождении от обезьяны, вряд ли эти рассуждения покажутся убедительными. Ведь цивилизация готова привести массу привлекательных аргументов в пользу достижений человека в строительстве царства земного. Но цивилизация и культура совершенно разные вещи. Культура обращена к душе, а цивилизация к телу. И если культура в своем развитии устремлена в вертикаль, то цивилизация развивается в горизонтальном направлении. Когда я говорил о двух творческих союзах, то имел в виду вертикаль художников, идущих к Богу, и разбегающуюся в разные стороны горизонталь самовыражения атеистов.
Здесь может показаться, что я слишком высоко забрался и предъявляю к художнику религиозные требования. Только самое время уточнить, что мои рассуждения распространяются только на светское искусство, и я полностью разделяю определение Флоренского, обозначившего это различие: «Светское искусство, – писал он, – это взгляд из нашего мира в горний, а иконопись – это взгляд из горнего мира в наш».
Меня же интересует не просто светское искусство, а современная русская живопись.
Волею провидения я родился в Москве, теперь уже в далеком 1938 году и свои первые двадцать лет прожил в Третьем Троицком переулке в двухэтажном деревянном доме напротив сказочного терема, который принадлежал Виктору Михайловичу Васнецову. Как замечательно, что этой бессонной ночью, хоть на некоторое время, я могу вернуться в волшебный мир детства.
На экране возник старый московский переулок, покрытый булыжником и весь засаженный высокими тополями, придававшими этому уголку Москвы особый аромат.
А вот наш уютный двор, за каждым окном которого так хорошо знакомые и знавшие меня люди. Велик соблазн задержаться здесь хотя бы еще на мгновение, но оставлю это на другой раз, а пока не исчезла картинка, поспешу вспомнить, что первая в моей жизни встреча с изобразительным искусством произошла в доме Васнецова.
Эта встреча решила мою судьбу.
Не знаю, пришла бы мне в голову мысль стать художником, если бы в то время я увидел самый популярный в среде интеллектуалов «Черный квадрат» Малевича. Конечно, я не много понимал в свои семь лет отроду, но сердце не ошиблось, и на склоне лет, в сонме случайных и неслучайных встреч, я отмечаю ту, судьбоносную, которую могу назвать сретением. Сам облик Виктора Михайловича был для меня, отрока, загадочным видением. Я подолгу задерживался возле его автопортрета, всматривался в это спокойное, доброе и мудрое лицо, так не похожее на те, что меня окружали; и ощущал на себе такую благодать, которую значительно позже испытывал при общении с батюшкой в сельском храме.
Ни с кем не хотелось мне делиться своими новыми ощущениями, да и сам-то я осознал тайный промысел той встречи не сразу. Но когда пришло время выбирать дорогу, я уже смотрел на мир духовным зрением.
Нельзя забывать, что все это происходило в условиях жесткого атеистического воспитания, имевшего целью освободить небо от Бога. Поэтому я так трепетно отношусь к тем духовным источникам, которые встречались на моем пути.
А вторым источником была, да и остается по сей день, Третьяковская галерея.
В конце сороковых годов я поступил в самое главное для меня художественное заведение – Московскую среднюю художественную школу, знаменитую МСХШ, что располагалась в ту пору прямо напротив Третьяковки.
В случайных совпадениях скрыта тайная закономерность Провидения. Васнецовский фасад Третьяковки был для меня символическим продолжением и входом в большой мир Русской живописи.
Первое впечатление было ошеломляющим!
Я не был готов воспринять такое количество шедевров. Это было трудно даже физически. И здесь я находил поддержку знакомого уже и близкого мне Васнецова.
Обойдя несколько залов, возвращался я в полном смятении к Виктору Михайловичу. Сидя в его зале на бархатном малиновом диванчике, я приходил в себя и затем только отправлялся в новые залы, впервые открывая уже известные миру имена.
Знакомясь с великими русскими художниками, я неожиданно открыл для себя новый мир – мир искусства. Он очень отличался от того, что было вокруг, но в то же время он был полон живыми образами людей, природы и предметов. Это странное существование картин в отсутствие авторов, переворачивало во мне представление о жизни и смерти. Оказывается, творение художника способно пережить его. Более того, это и есть высшая цель искусства!
Может быть, в этом параллельном мире нам приоткрывается тайна бессмертия души художника, воплощенная в картине. Как бы то ни было, но изображенный мир оказывается способен остановить мгновение, увековечить время.
Магия Третьяковки оказывала сильное влияние на творческие судьбы многих поколений учившихся в МСХШ. Постоянное присутствие большого количества выдающихся мастеров излучало такую энергию, которая могла сжечь любого, кто приближался слишком близко или подолгу находился в плену этой энергии.
В отличие от искусствоведа, художнику нужно знать столько, сколько он способен реализовать. Поэтому немногие из нас выдержали сильную дозу излучения кумиров и смогли продолжить творческий путь, сохранив при этом свое лицо.
Предвижу ехидную реакцию моих оппонентов: заколодило его на Третьяковке – слаще моркови, похоже, ничего не ел.
Вовсе нет!
Конечно же, я открывал для себя и мировое искусство. Но в открытый мир я уже выходил из своего дома, и мне необходимо было всякий раз туда возвращаться. Таким домом для меня является Третьяковская галерея, которая привлекает не только высокими камертонами, но и загадочной личностью Павла Михайловича Третьякова.
Удивительно не то, что состоятельный человек вдруг решил заняться коллекционированием живописи и сделал это смыслом своей жизни. До сих пор я не могу понять – откуда могла появиться интуиция у человека, далекого от искусства, позволившая ему значительно глубже искушенных в этом людей, ориентироваться в самом сложном, с моей точки зрения, виде творчества. Что помогало этому человеку безошибочно определять национальное значение приобретаемых картин. Ведь задача усложнялась пристрастным отношением к художникам, с которыми приходилось общаться. Значительно легче формировать коллекцию из картин умерших авторов.
Наконец, чем руководствовался Третьяков, соединяя в своей коллекции разнообразные жанры, так не похожих друг на друга художников.
Когда ходишь в очередной раз по галерее, я имею в виду ту ее часть, которую приобретал сам Третьяков, и всматриваешься в полотна, то поражаешься цельности и гармоничности собрания. В то же время из воспоминаний самих художников мы знаем, что они по-разному относились к творчеству друг друга, а порой высказывали Павлу Михайловичу отрицательное отношение к некоторым приобретаемым картинам. Однако Третьяков упрямо двигался к видимой ему одному цели.
Я давно задумывался над тем, что общего в творчестве столь разных художников, составляющих коллекцию, и только недавно понял: всех их объединяет Православное мировосприятие. Именно это восприятие мира определяет русское искусство и только это делает Третьяковскую галерею национальной!
Так же как не существует одного типа художника, не существует и обобщенного, однотипного зрителя. Я никогда не соглашусь с общепринятым мнением о том, что зритель развивается. Скорее он меняется. Ведь когда говорят «развивается», то предполагают, что в результате накапливается информация, происходят позитивные изменения, а мне думается, что именно поэтому зритель лишь меняет эстетические пристрастия. И этот процесс может иметь как положительное, так и отрицательное значение.
Как правило, изменения происходят под воздействием формирования массового вкуса. Психологи знают, что легче ввести в гипнотическое состояние огромную аудиторию, чем одного человека. Мне вспомнился любопытный научный эксперимент, в котором приглашались восемь человек в кабинет, где лежали на столе черный и белый шары. По предварительной договоренности с экспериментатором, семь человек из восьми должны были ввести в заблуждение ничего не подозревавшего восьмого, назвав черный шар белым, а белый – черным. Поразительно, но на вопрос – какого цвета шары, следом за всеми, восьмой назвал белое черным.
Не этой ли потребностью слепо доверять мнению большинства определяется, чаще всего, оценка зрителя того или иного явления в искусстве?
Похоже, искусствоведы, выстраивающие по своему усмотрению иерархию ценностей, используют это странное свойство человека. А учитывая, что между художником и зрителем постоянно находится искусствовед, легко представить, как можно корректировать или менять эстетический вкус общества.
Только тем из любителей искусства, кому посчастливилось избежать этого посредничества, и удалось испытать подлинные чувства.
Да и кому нужна эта любовь на троих?
Помнится, мы беседовали на эту тему с моим старым другом, замечательным русским художником Владимиром Никитовичем Телиным в его мастерской. Нас обоих волновала способность зрителей воспринимать живопись адекватно художнику. Похоже, мы сходились на том, что очень редко случается так, что замысел и исполнение одного до конца могут быть прочувствованы другим. Телин, наделенный тонкой интуицией и образным мышлением, назвал это редкое состояние между тем, кто создает произведение и тем, кто воспринимает «вольтовой дугой». Ведь и в самом деле существует некое силовое поле, которое может зарегистрировать только самый чувствительный прибор – душа человека, посвященного в мир искусства. И роль одаренного зрителя в этом явлении трудно переоценить.
Существование художника без зрителя бессмысленно! Убери одного из двух, и не произойдет «вольтова дуга» искусства, как не бывать ей между верующим художником и неверующим зрителем.
Что же происходит со зрителем, не имеющим духовной опоры, в это смутное время, в оккупированной долларом, разворованной и униженной нашей стране?
Вот уж где раздолье сатане! Все можно!
Свобода! Беспредел! – И он спешит завладеть как можно большим количеством душ. Верным помощником в этом деле является свой «творческий союз».
Художник, поддавшийся сатанинскому искушению, обретает бесовскую жажду искушать зрителя. Чем талантливее художник-антихрист, тем изощреннее способы соблазна.
Я уже говорил, что эффект разрушения притягателен. И вот уже все средства информации, опережая друг друга, превращают этот гибельный процесс в цепную реакцию.
…Мчатся бесы рой зароемВ беспредельной вышине,Визгом жалобным и воемНадрывая сердце мне…Видать, давнее это наваждение, коли тревожило оно душу Александра Сергеевича Пушкина.
Вы, наверное, заметили, что члены союза антихриста, дабы продемонстрировать сплоченность рядов, свои сборища предпочитают называть не выставками, а акциями.
Недавно показали по телевидению очередную такую акцию. Собравшиеся на нее с жадностью поедали труп Ленина вместе с гробом. Правда, это блюдо было приготовлено из кексов в натуральную величину, а с помощью цветного крема художникам удалось добиться убедительного сходства с мумией. Вот, кстати, пример лукавого реализма.
Я-то думаю, что эта творческая акция мало чем отличается от того, чем увлекался, тоже показанный по телевизору, печально известный вождь одного из африканских государств – каннибал Бокасса. Поедая своих подчиненных, он не страдал желудочными коликами. Когда арестовали этого гурмана, то в его холодильнике обнаружили останки недавно пропавшего министра из его же правительства.
Есть в этом что-то общее, хотя в одном случае трупоедение – это творческая концепция, а в другом – факт жизни; правда, есть и различия – людоед это делал тайно, а авангардисты – на тусовке. А в остальном дело вкуса: кто любит кекс, кто любит мясо… Хотя и с мясом у бесов уже была акция – резали публично и ритуально на своем сборище поросенка.
Ладно бы все это происходило в кошмарном сне, так нет же, явилась ко мне эта реальность в бессонную ночь – теперь лежи, мучайся…
Вот уж что не хотелось бы мне сегодня ночью видеть, так это политические сюжеты. Это слишком неподходящее для бессонницы зрелище, и я тороплюсь убрать со своего экрана все, что связано с политикой.
Я даже открыл для себя формулу: там, где начинается политика – кончается искусство. Хотя, с моей точки зрения, существует определенная связь искусства с политической обстановкой в государстве. История – наука строгая, поэтому я не буду глубоко забираться, а ограничусь нашим столетием.
Но прежде чем я приведу примеры, замечу, что независимо от нашего отношения к традиционному и авангардному искусству, можно отметить определенную закономерность: как только одно направление начинает доминировать, другое превращается в андеграунд и уходит в оппозицию.
А теперь возьмем начало XX века, до Первой мировой войны. Когда Россия находилась на высоком уровне государственного развития, в искусстве царил реализм. Как только в результате поражения в войне и октябрьского переворота 1917 года государство пришло в упадок, ведущее место в искусстве занимает воспевающий революционные перемены авангард 1920-1930-х годов, а реализм изгоняется не только из выставочных залов, но и из художественных учебных заведений.
Сороковые и пятидесятые годы, отмеченные индустриальным строительством и победой во Второй мировой войне, несомненно следует отнести к периоду укрепления государства. Это время связано с доминированием реализма и бескомпромиссной борьбой с формализмом, особый вклад в которую принадлежит искусствоведам.
В шестидесятые началось раскачивание государства, появились диссиденты, закладывается бомба под территориальную целостность: Крым передается Украине и, наконец, происходит переворот во власти. Западники, естественно, называют это время «оттепелью». И этот период отмечается в искусстве многочисленными авангардными выставками, несущими общую концепцию инакомыслия. Еще можно вспомнить чахлое, оттого и недолговечное, хотя и любимое дитя искусствоведов – «суровый стиль».
Шестидесятники с гордостью вспоминают сегодня это время, понимая, что именно оно было прологом к тщательно подготавливаемому крушению государства.
Но, почувствовав опасность, власть делает попытку в семидесятые, восьмидесятые годы укрепить государство. Несмотря на то, что это время упорно называют застоем, следует отметить государственную стабильность, которая исключала его разрушение любыми силовыми методами. В эти годы реалистическое искусство, поддерживаемое государством, еще сохраняло свое привилегированное положение перед многоликим авангардом, уже выходящим из подполья.
Наконец, в девяностые годы – поражение в холодной войне. Распад государства, цинично называемый перестройкой, гражданская война, беженцы, безработица…
Как только рухнуло государство – из всех щелей вылезли наружу и захватили телевидение, радио, театры, кино, выставочные залы такие беспредельные авангардисты, что их «бездарные» предшественники выглядят шалунами. В униженном и разрушенном государстве и реализм стал андеграундом.
Выходит, что приоритет реалистического направления в нашем искусстве приходится на период подъема и стабильности государства. А я верю в возрождение России, которой еще понадобится реализм.
Если эти мои расчеты и предчувствия верны, то произойдет это в первое десятилетие XXI века. Кому-то эти предчувствия не покажутся убедительными. Меня это вовсе не огорчит.
Мы все одинаково далеки от истины – она недоступна миру сему. А доступная нам правда у каждого своя.
Как это ни покажется странным, но я не вижу ничего драматичного в том, что реалистическое искусство осталось невостребованным и не сделалось выразителем всего того, что происходит сегодня в стране. Во-первых, нынешнее общественное сознание замешано на антисоциалистических идеях и аллергия к соцреализму распространяется и на реализм. Во-вторых, парадоксальный язык авангарда точнее и органичнее передает противоречивые и болезненные события наших дней. Что же касается восприятия авангарда, то эстетика, свободная от этики, легко превращая творчество в дьявольскую изобретательность, быстро распространяется по горизонтали, по поверхности сознания и легко усваивается. Но безнравственная эстетика может быть востребована только безнравственным обществом.
Может показаться, что я слишком настойчиво задерживаю внимание на двух противоположных формах выражения. Но для меня это не теоретические рассуждения, а скорее попытка объяснить словами то, что я делаю кистью и почему я это делаю. Для этого мне придется на некоторое время вернуться к реалистическому языку.
Настойчивые попытки многих теоретиков похоронить реализм под обломками соцреализма, безусловно, лукавы. Соцреализм просуществовал ровно столько, сколько и сам социализм. И на самом деле, вряд ли кому сегодня придет в голову писать картину «Ленин в Разливе» или «На III съезде РСДРП».
Но реализм был до социализма и, безусловно, останется после него. А временное изгнание, скорее, пойдет ему на пользу. Потому хотя бы, что реализм наконец вырвался из политических объятий и социальной зависимости; он освободился от принудительного сожительства со зрителем. Это дает возможность реализму стать элитарным.
В выборе между этикой и эстетикой художники православного мировосприятия всегда ставили на первое место этику. Это ничуть не умаляет значения художественной формы. Напротив, именно в русском реалистическом искусстве мы находим очевидные примеры эстетических высот.
Справедливости ради надо сказать, что и соцреализм в лучших своих авторах демонстрировал высокое мастерство. Это, с одной стороны, было возможно благодаря старой школе, а с другой стороны ее сохраняло.
Мало кто из теоретиков отмечает, что наряду с атеистическим искусством соцреализма существовало искусство православного мировосприятия. Теснимый потоком социальных полотен, этот далеко не всеми замечаемый чистый источник жил и в самые суровые времена богоборчества.
Когда искусствоведы клялись в бескорыстной любви к высокоидейному соцреализму, так же как и сейчас к раскрепощенному авангарду, работали художники, исповедующие другую творческую веру, которая требовала не политической смелости, а духовной стойкости.
Оказывается, имитируя искреннюю любовь и преданность к соцреализму на протяжении семидесяти лет, наше искусствоведение тайно питало истинные чувства лишь к авангарду 1920-1930-х годов.
Эти смелые признания, правда, сделанные уже после смерти соцреализма, достигли такого экстаза, что авангард 1920-1930-х годов они называют русским. Выпущено большое количество альбомов под названием «Русский авангард».
Но позвольте, если уж реализм после 1917 года стал именоваться социалистическим, то, конечно же, революционный, богоборческий авангард, смело крушивший национальные традиции, должен называться советским, на худой конец – социалистическим авангардом, но уж никак не русским.
Какое кощунство – присваивать ему имя жертвы.
Да – именно жертвы! Потому, что как раз в 1920-1930-е годы национальная русская культура подверглась самому жестокому разрушению. Ее отрывали от православия, и авангард принимал в этом активное участие.
Это было время суровых испытаний для тех художников, которые интуитивно почувствовали, что спасение русской живописи в сохранении православного мировосприятия.
Когда говорят о жертвах тоталитарного прошлого, то почему-то пытаются внушить, что больше всех в искусстве пострадал авангард. Тут же появляется очередной красочный альбом «Спасенный авангард». А наш доверчивый сердобольный народ, привыкший верить всему напечатанному, а тем более сказанному с экрана телевизора, и впрямь поверил и принял богоборцев за великомучеников. Разве это не напоминает лукавую попытку преподнести Троцкого, Бухарина, Радека, Тухачевского, Зиновьева главными жертвами революции.
Такими же революционными комиссарами от культуры, призванными разрушить традиции русской культуры, были идеологи авангарда. С этой миссией они рассылались по всем городам и весям, по всем художественным заведениям России.
Как тут было выжить искусству, воспитанному еще в императорской академии, искусству с дворянским прошлым?
Поэтому я считаю, что подлинной жертвой, преследуемой с одной стороны авангардом, с другой – соцреализмом, была русская живопись, оберегавшая вековые традиции и служившая не временному, а вечному.
Но русская живопись выжила, потому что спасла ее вера православная и то обстоятельство, что два хищника не хотели делить добычу и так увлеклись схваткой, что забыли о жертве.
А может, все это так видится мне только ночью, а днем окажется по-другому?
– Странная ночь.
– Где уж тут уснуть?
– Такие страсти, как бы кого не разбудить!



