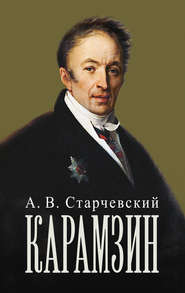
Полная версия:
Николай Михайлович Карамзин
Мы уже назвали литературу внешним организмом целого миросозерцания. В этом смысле она есть замкнутое выражение такой производительности, в которой познающий дух является вместе и творческим. С нашей точки зрения, мы не можем разделять их в литературе. Наше дело – показать один и другой в том единстве и в той связи, по которым литература является истинным телом всемирной мысли, принимающей на себя образы народности. Это главнейший пункт, в котором полное ученое изложение литературы разнится от того описания истории литературы, которое видит в ней исключительно одни явления поэтически-производящего духа, собирает его дела, оценивает их эстетически, располагает в историческом порядке, и считается историей литературы по преимуществу. Литература каждого народа есть выработанная форма духовного его образования; она принимает в себя всю сущность народности, которая должна объясняться в ней во всех отношениях.
Дух человеческий естественно должен был позаботиться об оценке всего своего прошедшего, и усиленная ученая деятельность его, увлекшая испытующий ум далеко за пределы времени и пространства, положила для всех познаний гораздо обширнейшие и прочные основания.
* * *Изложив наше мнение о литературе вообще, скажем несколько слов о характере русской литературы и о значении в ней Карамзина.
До Карамзина в России не было литературы в том смысле, как ее понимают в новейшее время. До Петра Великого мы встречаем хронографы, летописи, духовные поучения и несколько книг духовного содержания. В них заключалась вся наша древняя грамотность, но все эти памятники не могут назваться представителями русской литературы. Кто отважится сказать, что в них выразилось наше общество, что в них выразился русский народ, со всеми его мнениями, верованиями, страстями и оттенками? Из летописей можно узнать только степень грамотности древнего нашего духовенства, которую так хорошо обрисовал Пушкин в «Борисе Годунове»; в духовных поучениях тоже выразилось наше духовенство и влияние его на народ; но из этих памятников нельзя узнать ни частной, ни общественной жизни русского народа. Со времен Петра Великого у нас начала водворяться наука; но могла ли она, построенная схоластически, проникнуть в живое общество, когда излагалась языком варварским, когда наша ученость, ограниченная тесным кружком переводчиков и нескольких учителей, жила только в своей сфере? Нам недоставало живого проводника истин науки в жизнь общественную – недоставало литературы.
Наплыв образованных иностранцев, вступавших в русскую службу, и распространение наших связей с Европой, имели следствием введение у нас французского языка, который вскоре сделался языком высшего общества, как французский покрой платья и светская утонченность маркизов сделались необходимым условием каждого благовоспитанного русского дворянина. Потому, чтобы иметь доступ к высшему кругу, нужно было прежде всего научиться по-французски.
В таком положении находилось дело литературы до императрицы Екатерины II.
Явившиеся в это время некоторые таланты не могли действовать самостоятельно, не имея твердой опоры. В какие формы они могли облачить истины науки и мораль, чтобы действовать на общество? Высший круг не нуждался в них; он имел все иностранное и пользовался им. Первые наши таланты были приведены к некоторым литературным предприятиям, рабским подражаниям французскому, совершенно инстинктивно, а не вследствие глубокого сознания необходимости.
Высший круг читал французские книги, средний нуждался в переводе того, что читал высший, но выбор наших переводчиков был большею частью не совсем удачен. Теперь спрашиваем, могли ли действовать на наш средний класс такие случайные и произвольные явления?
Императрица Екатерина II первая заметила, что в России нет ни общества, ни литературы в собственном смысле. Екатерина видела, что окружающие ее образуют круг, находящийся под влиянием французской литературы, что между высшим кругом и средним классом стояла непроницаемая стена, не допускавшая никакого обмена идей; высшее общество говорило французским языком, средний класс говорил языком народным, русским. Екатерине предстояло образовать русское общество и положить начало литературе. Чтобы достигнуть этой цели, она обратилась к народности, стала заботиться о распространении всеобщего просвещения и поощрять дарования. Но все эти меры не вдруг могли произвести желаемый успех.
В беспредельной России просвещение не могло распространиться в несколько лет, тем более, что должно было водворяться исключительно в виде одной науки. Высший круг тоже медленно действовал на средний; наша народность пришла в столкновение с французскими понятиями, которые, превозмогая первую на половину, селились в русском обществе без представления на то своего права, и общество наше стало приближаться к европейскому, то есть подражать ему по мере возможности; так что все хорошее народное уступило место влиянию иностранному.
Поощрение талантов повело к исключительному внесению в наше общество легкой французской литературы без всякого применения ее к русскому быту Между тем ни один из тогдашних наших литераторов не сознавал необходимости действовать самостоятельно. При таком брожении русского общества явился Карамзин. Главное и самое важное значение Карамзина в русской литературе состоит в том, что он первый стал действовать вследствие убеждения, действовать сознательно.
Запасшись предварительно необходимыми средствами для того, чтобы изучить европейское общество и иметь возможность познакомиться с его литературою, он отправился заграницу. Возвратившись, он видел в каком отношении находилось наше общество по отношению к иностранному. Сделать вывод ему было нетрудно. Он нашел, что главное – необходимо иметь орган, посредством которого можно бы было проводить в общество истины науки. Этот орган – общепонятный язык, которого до него не было, чего никто не замечал, и не чувствовал его потребности. Карамзин первый понял эту потребность. После языка дело дошло до того, каким образом должно действовать на общество, так чтобы его постоянно и разнообразно подвигать вперед, дошло до главного органа литературы – до журнала, из которого общество должно вечно черпать. Имея два важные и мощные средства действовать на общество, Карамзин начал так: он хотел, чтобы русское общество испытало то же, что он испытал на себе, то есть, чтобы оно образовалось тем же путем, как образовался он сам. Поэтому, прежде всего, он начал знакомить своих соотечественников с Европою: с ее литературами и обществом; и в то же время помышлял уже о самостоятельности отечественной литературы, пытался написать оригинальную русскую повесть, черпая для нее материалы и характеры из русского быта и, более или менее, достигнул своей цели – освобождения русского слова от рабского подражания иностранным писателям. «Московский журнал», «Марфа-Посадница», «Похвальное слово Императрице Екатерине II», «Вестник Европы» доказывают, что Карамзин постоянно думал о народности. Но самым лучшим подтверждением того служит его «История государства Российского». Взяв во внимание все это, никто не станет оспаривать, что Карамзин должен считаться первым русским литератором в настоящем смысле слова. Карамзин имел неслыханное влияние на русское общество, и что предположил себе, то исполнил с необыкновенным успехом. Он один сделал для России то, чего в других местах не могли бы сделать целые ученые и литературные общества, и это главная причина необыкновенной его народности.
До Карамзина высший круг нашего общества не хотел ничего знать о зародыше русской литературы. Карамзин первый показал, что наш высший круг может читать и русские книги, которые не совсем чужды интереса, утвердил это мнение и умел поддержать его.
В семидесятых годах прошедшего столетия писал Богданович, Хемницер; Фонвизин заставлял лица своих комедий говорить по-русски; но это было только началом, довольно слабым. В то время, когда все стали чувствовать неправильность и грубость господствовавшего языка, многие из наших писателей старались преобразовать его, и удалить равным образом от языка простонародного и книжного. Желая дать другую физиономию нашей речи, Карамзин предпочел французское словосочинение немецкому, по образцу которого прежде строили русскую речь. Главнейшими сподвижниками Карамзина на этом поприще были Муравьев и Подшивалов.
В то самое время, когда Карамзин занимался преобразованием русской прозы, Дмитриев стал писать русские стихи в эпическом роде. Правильность и отделка слога в его стихотворениях обратили на себя общее внимание.
Блистательный успех Карамзина породил множество подражателей, которые вредили ему более, нежели самые враги. Они следовали только его слабым сторонам и преувеличивали некоторые его недостатки. Русский язык наполнился странными выражениями и чуждыми оборотами. Подражатели хотели таким образом приблизиться к простому, естественному и приятному изложению Карамзина.
В это время появилась книга Шишкова: «О старом и новом слоге российского языка», в которой он сильно нападал на вредные нововведения и обнаружил смешную их сторону. Однако ж Шишков, при многих справедливых замечаниях, слишком увлекался ревностью к своему предмету, и в свою очередь сделался странным. Тогда у нас явились две литературные партии: московская, державшая сторону Карамзина, и петербургская, следовавшая Шишкову, который защищал старину и составлял новые слова взамен иностранных, получивших уже в русском языке право гражданства.
С обеих сторон спор был жаркий, тянулся долго; но впоследствии общий голос решил, что слог Карамзина основан на глубоком знании свойств русского языка, очищен со вкусом и утвержден на правилах здравой логики. В первых сочинениях Карамзина еще встречались иностранные слова и обороты, но слог последующих его произведений был образцовым.
Труды Карамзина имели большое влияние на современников, содействовали образованию вкуса в новом поколении и положили основание русской литературе.
Глава I
Необходимость биографии Карамзина. – Важность биографии деятельных людей. – О зародыше гения и таланта. – Источники для биографии Карамзина. – Русское провинциальное общество в половине XVIII столетия. – Характер тогдашнего образования и воспитания. – Слова об этом князя П. А. Вяземского. – О роде Карамзиных. – Об отце Карамзина. – Детство Карамзина. – Роман «Рыцарь нашего времени». – Автобиографическое значение этого романа. – Карамзин в пансионе Шадена. – Профессор Шаден, его характер и влияние на Карамзина. – Карамзин посещает лекции Московского университета. – Сближение Карамзина с Новиковым и начало литературных занятий первого. – Знакомство Карамзина с Дмитриевым. – Деревянная нога. – «Детское чтение». – Письма Петрова к Карамзину. – Аркадский памятник. – Значение «Детского чтения» и влияние его на новое поколение
Прошло слишком двадцать лет с тех пор, как умер Карамзин, этот мощный двигатель нашей литературы, которому, мы, русские, обязаны образованием своего общественного языка, эстетического вкуса и началом настоящей литературы, а между тем еще не определено положительно значение этого писателя, стоявшего выше понятий своих современников, и подчинившего своему авторитету многих соотечественников, которым не чужды были интересы человечества и Родины.
Между тем, как Карамзин все более и более удаляется от нас, мы не дорожим временем, не стараемся отнять у забвения последние о нем изустные предания, изучить все частные обстоятельства его жизни, имевшие влияние на образ и цель его деятельности; тем более что еще живут друзья Карамзина и его семейство.
Что скажет о нас потомство, если мы, принадлежащие к поколению, непосредственно следовавшему за Карамзиным, если мы, ближайшие свидетели его славы, не исполним великого долга, не сохраним для дальнейшего потомства достоверных известий об этом замечательном таланте, который так лестно оценили наши монархи, и осыпали необыкновенными щедротами, не соберем материалов для биографии нашего классика? Нам скажут: гений, талант – бессмертны; история гения заключается уже в самых его произведениях. Справедливо, но создание гения, таланта бывают лучшим для него украшением только в минуту торжества писателя или художника, когда он стоит, как герой, увенчанный лаврами, и толпа рукоплещет его трофеям. Но для человечества не менее замечательно изучить и частные обстоятельства жизни писателя, имевшие влияние на его развитие. А как важно изучение жизни гениальных людей для юных талантов, избравших поприще, по которому торжественно шел известный писатель!
Отчего, смотря на дивное произведение резца Кановы, на его Венеру, мы хотели бы проникнуть в мастерскую этого роскошного гения Италии; взглянуть на куски грубого мрамора, на разбросанные инструменты и на самого художника, побеждающего трудности и улыбающегося при взгляде на свое довершенное создание, за которое художественный мир покорно поднесет лавровый венок и диплом на удивление потомства? Отчего хотелось бы нам проникнуть в тайны деятельности художника?.. Оттого, что только следя за развитием великого произведения, мы вполне можем оценить его. А как поучительно такое наблюдение для вступивших в преддверие храма искусств! Расскажите молодому живописцу подробную жизнь Тициана, дайте ему полную идею о мастерской этого гения – и пример великого мастера благодетельно подействует на душу ученика. Самые таинства искусства уже не будут иметь в глазах его той, приводящей в сомнение, непостижимости, которая прежде страшила неопытные силы и связывала их развитие.
Изучать критически произведения гениальных писателей, исследовать все посторонние обстоятельства, имевшие на них влияние, значит глубоко изучать теорию и механизм самого искусства. Для того, чтобы наука и искусство выразились в достойной их форме, необходима техника. Поэтому и самые сильные таланты всегда и везде нуждались в образцах: великие люди всегда были великие ученики гениев. Однако ж изучение великих произведений и великих талантов должно иметь свои пределы. Должно изучать только ближайшие причины явлений, не пускаясь в подробное исследование длинного ряда причин, которые взаимно себя обуславливают; не должно, таким образом, отыскивать зародыш гения или таланта на школьной скамье. Гений проявляется вследствие глубокого сознания причин известного рода явлений. До того он не может произвести ничего великого, потому что все великое есть произведение глубокого, совершенного ума.
Когда Шекспир ходил в школу, с сумкой, то нельзя было предполагать, что в этой детской голове скрывается зародыш драматического гения, тем более что в детстве Шекспир, может быть, и не имел случая заглянуть в театр. И для гения нужны благоприятные обстоятельства; все же остальное он довершит своими собственными средствами. Однако ж, по общепринятому обыкновению, жизнеописания всех людей, более или менее великих, всегда начинаются подробностями об их детстве, анекдотами о юношеском возрасте, и так далее. К чему ведет это? Всего лучше следить за процессом развития гения, за обстоятельствами, приготовившими его, изучая дух в направление того общества, которое посетил этот редкий гость.
Таким образом, чтобы понять обстоятельства, приготовившие появление Карамзина, мы должны изучать состояние нашего общества в то время, когда он родился; уразуметь дух века, его любимые привычки, надежды и верования: тогда нам объяснится многое и в жизни, и в творениях изучаемого нами писателя. Без этого можем ли мы оценить каждую его мысль, каждое его действие? Имеем ли мы право руководствоваться при такой оценке отжившего писателя понятиями современными? Справедлив ли будет приговор, произнесенный над его произведениями по законам критики безусловной, не принимая в соображение ни времени, в которое жил Карамзин, ни степени нашей тогдашней образованности?
Приступая к биографии Карамзина, мы считаем необходимым заметить, что хотя до сих пор жизнь Карамзина не описана вполне, однако ж о нем было очень много говорено в разных периодических изданиях. Все эти материалы можно разделить на три разряда: материалы собственно биографические; статьи, в которых рассматривается его влияние на нашу литературу; рецензии его исторического труда.
Мы пользовались только материалами первого рода, не многочисленными, но достоверными. Материалы второго рода относятся большею частью к первой четверти XIX столетия, когда жил еще историограф, и писаны более или менее пристрастно. Последователи и приверженцы Карамзина превозносили все его труды, не допуская никакой критики, и все кончалось безотчетною похвалою: это служит лучшим доказательством, что Карамзин стоял выше понятий современных наших литераторов, которые только благоговели перед его творениями и не осмеливались произносить своего мнения, считая в то же время святотатством замечать погрешность этого нашего классика. Противники Карамзина были большею частью люди, чуждые основательных познаний и, руководимые завистью к нему, нападали на одни только слова, незначительные ошибки, иногда даже на знаки препинания, упустив из виду нравственную сторону произведений – необыкновенное влияние на общество, распространение эстетического направления и умение выказывать дурные стороны общежития, не вооружая против себя тех, против кого он писал. В этом случае нападки противников тоже не могут назваться критикою – это явные личности. Противники Карамзина стояли несравненно ниже в образовании и в общественном мнении, и нападки их не имели ни малейшего влияния на успех, которым пользовались все произведения историографа. Вот причины, отчего мы не можем пользоваться этим родом материалов.
Замечательнее двух первых – третий род источников, именно рецензии исторического труда Карамзина. В них виден взгляд некоторых современных литераторов (но отнюдь не ученых) на «Историю государства Российского»; – мы говорим литераторов, потому что Каченовский, Арцыбашев, Полевой и некоторые другие не могут быть названы учеными в строгом смысле. Самые дельные критики1 на огромный труд Карамзина были помещены в «Северном архиве», который издавался тогда Ф. В. Булгариным. Обо всем этом будет сказано подробнее в своем месте.
Но главным источником при оценке Карамзина как литератора и как историка будут нам служить самые его произведения – источник чистый и достоверный. Приняв за правило для критики трудов Карамзина – добросовестность и осторожность, мы, при всем том, никому не навязываем своих убеждений, а предоставляем их на усмотрение каждого образованного читателя.
Подробная критика «Истории государства Российского» не войдет в биографию Карамзина, но составит отдельное сочинение, в котором мы постараемся разобрать все возражения, сделанные Карамзину кем бы то ни было. Так, мы покажем, какие из этих мнений основательны, опровергнем замечания несправедливые и пристрастные, и потом уже выскажем свое собственное мнение об «Истории государства Российского». Мы совершенно убеждены, что исторический труд Карамзина еще долго будет служить единственным источником для разных исторических монографий, и в особенности для тех писателей, которым не доступны все исторические сокровища, находящиеся только в библиотеках и архивах обеих столиц. Однако ж великий труд Карамзина не чужд и недостатков: поэтому, желая доставить пользующимся «Историею государства Российского» возможность избегать погрешностей и содействовать критической обработке отечественной истории, мы приведем в своей оценке все замечания рецензентов на исторический труд Карамзина, восстановляющие истину фактов, изложенных у историографа иной раз по недостоверным источникам, или без строгой критики.
Карамзин как литератор – явление весьма замечательное в истории нашей литературы; он составляет эпоху. Карамзин был поэт, беллетрист, критик, политик, журналист и историк.
Так как в новейшее время у нас явилось много поборников чистоты русского слова, которые готовы привязываться к каждой букве и запятой, то мы, не желая навлечь на себя их нерасположение, считаем необходимым заметить: хотя мы и назвали Карамзина поэтом, беллетристом, критиком, политиком и журналистом, однако ж из этого еще не следует, чтобы мы считали Карамзина великим поэтом и романистом, непогрешимым критиком, проницательным журналистом и так далее.
Не смотря на то, у нас есть много средств доказать литературные и ученые достоинства Карамзина.
Состояние нашего общества в то время, когда родился Карамзин[1]2, было ненормальное, но переходное. Петр Великий сделал русских европейцами по одной внешней форме; его гений не мог вдруг коснуться внутренней стороны русской жизни. Сделавшись гражданами Европы по внешнему виду, наши предки чувствовали необходимость уподобиться европейцам и по духу. Хотя нравственное перерождение России началось при Петре, но так как оно впоследствии не было поддерживаемо и питаемо зиждительным и мощным его духом, то до царствования Екатерины Второй русское общество выглядело довольно странно. В этикете наших прадедов было много смешного. Наше провинциальное общество, к которому принадлежали родители Карамзина, сохранилось в записках современников, дающих самое полное и верное понятие о быте русского провинциального дворянства в первой половине XVIII столетия. Этот быт не заслуживает подробного описания; довольно сказать, что главные черты жизни нашего провинциального общества весьма далеко не удовлетворяли условиям общества образованного. Чтобы убедиться в справедливости этого мнения, откройте любую страницу весьма незатейливых «Записок» Данилова. Смесь азиатских понятий с европейскими встречалась на каждом шагу в быту наших провинциальных дворян, до самых времен царствования Екатерины Второй. Мы обращаем внимание на провинциальный дворянский быт, потому что из среды его вышел и знаменитый Карамзин, родители которого были небогатые дворяне Сибирской губернии.
Родословные известия о Карамзиных доходят до XVI столетия. Фамильное предание, сохранившееся до сих пор, говорит, что предок их был татарский мурза, называвшийся Кара-Мурза. Так, по крайней мере, рассказывал историограф своим детям о происхождении рода Карамзиных, и, вероятно, рассказывал то, что сам слышал от своего отца.
Несмотря, однако ж, на все недостатки века (первой половины XVIII столетия), и тогда были люди, отличавшиеся простотою нравов, добродушием, честностью, твердостью характера; к числу таких-то людей принадлежали родители Карамзина, что доказывается правилами их сына. Отец3 Карамзина был человек вполне нравственный и благородный.
До времен Екатерины в России не было народных училищ. Усилия Петра в этом отношении не достигли своей цели. Все образование дворян среднего класса состояло в умении читать и писать. В провинции представителем учености был дьячок, умевший, при случае, блеснуть библейскою сентенцией, знавший «церковный устав», и не совсем чуждый понятия «о цифире». Карамзин тоже начал учение у подобного педагога.
Находясь в родительском доме, молодой Карамзин не мог получить основательного первоначального образования, не мог употребить времени своего детства на учение полезное. Но виною в том не он, не его родители, а тогдашний век. Зато все старание отца Карамзина было обращено на развитие нравственности сына. Впрочем, тогдашнее воспитание, при всех своих недостатках, имело и некоторые выгоды. Справедливо говорит о нем князь П. А. Вяземский в своем сочинении «Фонвизин»: «Тогдашнее воспитание, при всех своих недостатках, имело и хорошую сторону: ребенок долее оставался на русских руках, был окружен русскою атмосферою, в которой ранее знакомился с языком и обычаями русскими. Европейское воспитание, которое уже в возмужалом возрасте довершало воспитание домашнее, исправляло предрассудки, просвещало ум, но не искореняло первоначальных впечатлений, которые были преимущественно отечественные. Укажем на одно свидетельство: большая часть переписки государственных людей в царствование Екатерины велась на русском языке, несмотря на господство языка французского и иноплеменных нравов. После мы видим совершенно противное: первые звуки, первые понятия, которые передавали детям другого поколения, были исключительно иностранные, потому что ребенок от груди русской кормилицы был обыкновенно вверяем чужеземцам. Только позднее, в летах юношества, а часто и в возрасте, перезрелом для исправления вкоренившихся погрешностей, русский гражданин по собственному обратному влечению и как будто по уязвлению пробудившейся совести, обращался к изучению отечественного. Более домоседства в жизни родителей, более приверженности к исправлению частных обязанностей, к соблюдению обрядов русского православия, может быть, менее суетности, но в семейственном кругу более живого участья в делах общественных и, между тем, более независимости в нравах, способствовали тогда к некоторому практическому гражданскому воспитанию; оно имело свои недостатки, и весьма важные; но, как замечено выше, имело в себе что-то положительное, действовавшее в народном смысле».

