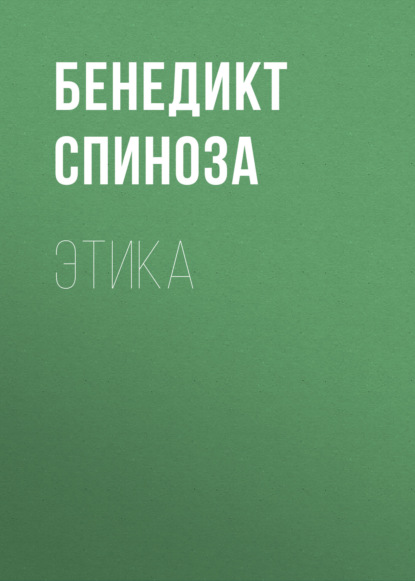 Полная версия
Полная версияЭтика
42. Оцепенение — говорится про того, чье желание избежать зла сдерживается тем, что внимание его поглощается злом, которого он страшится.
Объяснение. Таким образом, оцепенение составляет вид малодушия. Но так как оцепенение возникает из двойного страха, то его удобнее можно определить как страх, до того овладевающий замешавшимся или колеблющимся человеком, что он не в состоянии отвратить от себя зло. Я говорю «замешавшимся», если его желание отвратить зло сдерживается тем, что внимание его поглощено; «колеблющимся» – в случае, если это желание ограничивается страхом перед другим злом, одинаково его ужасающим, вследствие чего он и не знает, которого из двух ему избегать (см. об этом сх. т. 39 и сх. т. 52; о малодушии и смелости см. сх. т. 51).
43. Любезность или скромность есть желание делать то, что нравится людям, и удерживаться от того, что им не нравится.
44. Честолюбие есть чрезмерное желание славы.
Объяснение. Честолюбие есть желание, увеличивающее и укрепляющее все другие аффекты (по т. 27 и т. 31); поэтому оно едва ли может быть побеждено. Ибо, пока человек одержим каким-либо желанием, он необходимо одержим вместе с тем и этим. «Самый лучший человек, – говорит Цицерон, – всего более руководствуется славой. Даже философы на тех книгах, в которых они пишут о презрении к славе, подписывают свое имя» и т. д.
45. Чревоугодие есть неумеренное желание или любовь к пиршествам.
46. Пьянство есть неумеренное желание и любовь к вину.
47. Скупость есть неумеренное желание и любовь к Богатствам.
48. Разврат есть также желание и любовь к половым сношениям.
Объяснение. Будет ли такое желание половых сношений умеренно или неумеренно, оно обыкновенно называется развратом. Затем эти пять аффектов (как я говорил в сх. т. 56) противоположных себе не имеют. Ибо скромность составляет вид честолюбия, о котором смотри сх. т. 29. Далее, умеренность, трезвость и целомудрие, как я также говорил уже, указывают на способность души, а не на страдательное состояние. И хотя и может случиться, что человек скупой, честолюбивый или трус удерживается от излишней пищи, питья или половых сношений, однако же трусость, честолюбие и страх не противоположны чревоугодию, пьянству и разврату. Ибо скупой весьма часто страстно желает утонуть в чужой пище и питье. Честолюбивый же, если только он надеется, что это останется в тайне, не будет знать себе никакой меры, и если он живет среди пьяниц и развратников, то вследствие того, что он честолюбив, он будет еще склоннее к этим порокам, чем они. Наконец, трус делает то, чего не желает: бросая в море свои Богатства ради того, чтобы избежать смерти, он тем не менее остается скупцом; так и развратник, хотя он и подвергается неудовольствию вследствие того, что не имеет возможности удовлетворить своему сладострастью, не перестает быть развратником. И вообще эти аффекты не столько указывают на самые акты пиршеств, пьянства и т. д., сколько на самое влечение и любовь. Таким образом, этим аффектам можно противопоставить только великодушие и мужество, о которых впоследствии.
Определения ревности и остальных колебаний души я прохожу молчанием как вследствие того, что они возникают из сложения аффектов, уже определенных нами, так и вследствие того, что многие из них не имеют особых названий, что показывает, что для потребностей жизни достаточно знать о них только вообще. Впрочем, из данных нами определений аффектов вытекает, что все они возникают из желания, удовольствия или неудовольствия или, лучше сказать, ничего не составляют, кроме трех этих аффектов, из которых каждый обыкновенно называется разными именами сообразно с их различными отношениями и внешними признаками. Если мы захотим обратить внимание только на эти первоначальные аффекты и на то, что мы сказали выше о природе души, то, поскольку аффекты относятся к одной только душе, мы можем дать такое определение их.
Общее определение аффектов
Аффект, называемый страстью души, есть смутная идея, в которой душа утверждает большую или меньшую, чем прежде, силу существования своего тела или какой-либо его части и которой сама душа определяется к мышлению одного преимущественно перед другим.
Объяснение. Я говорю, во-первых, что аффект, или страдательное состояние духа, есть «смутная идея», ибо мы показали (см. т. 3), что душа пассивна только постольку, поскольку имеет идеи неадекватные или смутные. Далее я говорю: «в которой душа утверждает большую или меньшую, чем прежде, силу существования своего тела или какой-либо его части», так как все наши идеи о телах (по кор. 2 т. 16, ч. II) более указывают состояния нашего тела, чем природу тела внешнего; та же идея, которая составляет форму аффекта, должна указывать или выражать состояние тела или какой-либо его части, которое имеет тело или какая-либо его часть вследствие того, что его способность к действию, иными словами, сила существования, увеличивается или уменьшается, способствуется или ограничивается. Но должно заметить, что, когда я говорю «большую или меньшую, чем прежде, силу существования», я не подразумеваю, что душа сравнивает настоящее состояние тела с прошедшим, но что идея, составляющая форму аффекта, утверждает о теле что-либо, на самом деле заключающее в себе более или менее реальности, чем прежде. А так как сущность души (по т. 11 ит. 13,ч. II) состоит в том, что она утверждает действительное существование своего тела и так как под совершенством мы разумеем самую сущность вещи, то отсюда следует, что душа переходит к большему или меньшему совершенству тогда, когда ей случается утверждать о своем теле или какой-либо его части что-нибудь такое, что заключает в себе более или менее реальности, чем прежде. Поэтому, сказав выше, что способность души к мышлению увеличивается или уменьшается, я хотел разуметь под этим только то, что душа образовала о своем теле или какой-либо его части идею, выражающую более или менее реальности, чем она прежде утверждала о своем теле. Ибо превосходство идей и действительная (актуальная) способность к мышлению оцениваются по превосходству объекта. Наконец, я прибавил: «и которой сама душа определяется к мышлению одного преимущественно перед другим», для того чтобы, кроме природы удовольствия и неудовольствия, которую выражает первая часть определения, выразить также и природу желания.
Часть четвертая
О человеческом рабстве или о силах аффектов
Предисловие
Человеческое бессилие в укрощении и ограничении аффектов я называю рабством. Ибо человек, подверженный аффектам, уже не владеет сам собой, но находится в руках фортуны, и притом в такой степени, что он, хотя и видит перед собой лучшее, однако принужден следовать худшему. Я намерен показать в этой части причину этого и раскрыть, кроме того, что имеют в себе аффекты хорошего и дурного. Но, прежде чем приступить к этому, я хочу предпослать несколько слов о совершенстве и несовершенстве и о добре и зле.
Кто предложил сделать что-либо и сделал, тот назовет это совершенным, и не только он сам, но и всякий, кто верно знает мысль и цель этого произведения или думает, что знает их. Если, например, кто-нибудь увидит какое-либо произведение (я предполагаю его еще не оконченным) и узнает, что цель творца его построить дом, тот назовет этот дом несовершенным, и наоборот – совершенным, как только увидит, что дело доведено до конца, предположенного задумавшим его. Если же кто видит какое-либо произведение, подобного которому он никогда не видал, и не знает мысли его творца, то он, конечно, не может знать, совершенно ли это произведение или нет. Таково, кажется, было первое значение этих слов.
Но после того, как люди начали образовывать общие идеи и создавать образцовые представления домов, зданий, башен и т. д. и предпочитать одни образцы вещей другим, то каждый стал называть совершенным то, что ему казалось согласным с общей идеей, образованной для такого рода вещей, и наоборот – несовершенным то, что казалось менее согласным с составленным для него образцом, хотя бы оно по мысли творца и было вполне законченным. На том же самом основании, кажется, обыкновенно называют совершенными или несовершенными вещи естественные, т. е. те, которые не произведены человеческой рукой: люди имеют ведь обыкновение образовывать общие идеи как для искусственных вещей, так и для естественных, эти идеи считают как бы образцами вещей и уверены, что природа (которая, по их мнению, ничего не производит иначе, как ради какой-либо цели) созерцает их и ставит себе в качестве образцов. Поэтому когда они видят, что в природе происходит что-либо не совсем согласное с составленным для такого рода вещей образцом, то они уверены, что сама природа оказалась недостаточно сильной или погрешила и оставила эту вещь несовершенной. Таким образом, мы видим, что люди привыкли называть естественные вещи совершенными или несовершенными более вследствие предрассудка, чем вследствие истинного познания их. В самом деле, мы показали в прибавлении к первой части, что природа не действует по цели; ибо то вечное и бесконечное существо, которое мы называем Богом или природой, действует по той же необходимости, по которой существует, – мы показали, что, по какой необходимости природы оно существует, по той же оно и действует (см. т. 16, ч. I). Таким образом, основание или причина, почему Бог или природа действует и почему она существует, одна и та же. Поэтому как природа существует не ради какой-либо цели, так и действует не ради какой-либо цели; но как для своего существования, так и для своего действия не имеет никакого принципа или цели. Причина же, называемая конечной, есть не что иное, как самое человеческое влечение, поскольку оно рассматривается как принцип или первоначальная причина какой-либо вещи. Так, например, когда мы говорим, что обитание было конечной причиной того или другого дома, то под этим мы, конечно, подразумеваем только то, что человек, вследствие того что он вообразил себе удобства жизни в жилище, возымел влечение построить дом. Поэтому обитание, поскольку оно рассматривается как конечная причина, есть не что иное, как такое отдельное влечение, составляющее в действительности причину производящую, на которую смотрят как на конечную, вследствие того что люди обыкновенно не знают причин своих влечений. Ибо, как я уже много раз говорил, свои действия и влечения они сознают, причин же, которыми они определяются к ним, не знают. Что же касается ходячих мнений, будто бы природа обнаруживает иногда недостатки или погрешает и производит вещи несовершенные, то я ставлю их в число тех вымыслов, о которых говорил в Прибавлении к первой части.
Итак, совершенство и несовершенство в действительности составляют только модусы мышления, именно понятия, обыкновенно образуемые нами путем сравнения друг с другом индивидуумов одного и того же вида или рода. По этой-то причине я и сказал выше (опр. 6 ч. II), что под реальностью и совершенством я разумею одно и то же. В самом деле, все индивидуумы природы мы относим обыкновенно к одному роду, называемому самым общим, именно – к понятию сущего, которое обнимает собой абсолютно все индивидуумы природы. Поэтому, относя индивидуумы природы к этому роду, сравнивая их друг с другом и находя, что одни заключают в себе более бытия или реальности, чем другие, мы говорим, что одни совершеннее других. Приписывая же им что-либо, заключающее в себе отрицание, как то: предел, конец, неспособность и т. д., мы называем их несовершенными вследствие того, что они не производят на нашу душу такого же действия, как те, которые мы называем совершенными, а вовсе не вследствие того, чтобы им недоставало чего-либо им свойственного или чтобы природа погрешила. Ведь природе какой-либо вещи свойственно только то, что вытекает из необходимости природы ее производящей причины; а все, что вытекает из необходимости природы производящей причины, необходимо и происходит.
Что касается до добра и зла, то они также не показывают ничего положительного в вещах, если их рассматривать самих в себе, и составляют только модусы мышления, или понятия, образуемые нами путем сравнения вещей друг с другом. Ибо одна и та же вещь в одно и то же время может быть и хорошей, и дурной, равно как и безразличной. Музыка, например, хороша для меланхолика, дурна для носящего траур, а для глухого она ни хороша, ни дурна.
Но, хотя это и так, однако названия эти нам следует удержать. Ибо так как мы желаем образовать идею человека, которая служила бы для нас образцом человеческой природы, то нам будет полезно удержать эти названия в том смысле, в каком я сказал. Поэтому под добром я буду разуметь в последующем то, что составляет для нас, как мы наверное знаем, средство к тому, чтобы все более и более приближаться к предначертанному нами образцу человеческой природы; под злом же то, что, как мы наверное знаем, препятствует нам достигать такого образца. Далее, мы будем называть людей более или менее совершенными, смотря по тому более или менее приближаются они к этому образцу. Ибо прежде всего следует заметить, что когда я говорю, что кто-либо переходит от меньшего совершенства к большему, и наоборот, то я разумею под этим не то, что он изменяется из одной сущности или формы в другую (что лошадь, например, исчезает, превращаясь как в человека, так и в насекомое), но что, по нашему представлению, его способность к действию, поскольку она уразумевается через его природу, увеличивается или уменьшается. Наконец, вообще под совершенством я буду разуметь, как сказал уже, реальность, т. е. сущность, всякой вещи, поскольку она известным образом существует и действует, безотносительно к ее временному продолжению. Ибо никакая единичная вещь не может быть названа более совершенной вследствие того, что пребывала в своем существовании более времени; так как временное продолжение вещей не может быть определено из их сущности: сущность вещей не обнимает собой известного и определенного времени существования; но всякая вещь, будет ли она более совершенной или менее, всегда будет иметь способность пребывать в своем существовании с той же силой, с какой она начала его, так что в этом отношении все вещи равны.
Определения
1. Под добром я понимаю то, что, как мы наверное знаем, для нас полезно.
2. Под злом же – то, что, как мы наверное знаем, препятствует нам обладать каким-либо добром.
(Смотри об этом конец предисловия.)
3. Я называю единичные вещи случайными, поскольку мы, обращая внимание на одну только их сущность, не находим ничего, что необходимо полагало бы их существование или необходимо исключало бы его.
4. Те же самые единичные вещи я называю возможными, поскольку мы, обращая внимание на причины, которыми они должны быть производимы, не знаем, определены ли последние к произведению этих вещей.
В сх. 1 т. 33, ч. I, я не сделал никакого различия между возможным и случайным по той причине, что там не было нужды тщательно различать это.
5. Под противоположными аффектами я буду разуметь в дальнейшем такие аффекты, которые влекут человека в различные стороны, хотя бы они были и одного и того же рода, как, например, чревоугодие и скупость, составляющие виды любви и противоположные друг другу не по природе, но по случайным обстоятельствам.
6. Что я разумею под аффектом к вещи будущей, настоящей и прошедшей, я изложил в сх. 1 и 2 т. 18, ч. III, которые и смотри.
Но здесь должно заметить, кроме того, что как пространственное, так и временное расстояние мы можем отчетливо воображать только до известного предела, т. е. подобно тому, как мы воображаем обыкновенно, что все объекты, отстоящие от нас более чем на 200 шагов, иными словами, расстояние которых от того места, в котором мы находимся, превышает то, которое мы отчетливо воображаем, отстоят от нас одинаково и потому находятся как бы на одной и той же поверхности; точно так же мы воображаем, что все объекты, время существования которых, по нашему воображению, отстоит от настоящего на больший промежуток, чем какой мы обыкновенно отчетливо воображаем, отстоят от настоящего времени все одинаково, и относим их как бы к одному моменту времени.
7. Под целью, ради которой мы что-либо делаем, я разумею влечение.
8. Под добродетелью и способностью (potentia) я разумею одно и то же; т. е. (по т. 7, ч. III) добродетель, поскольку она относится к человеку, есть самая сущность или природа его, поскольку она имеет способность производить что-либо такое, что может быть понято из одних только законов его природы.
Аксиома
В природе вещей нет ни одной отдельной вещи, могущественнее и сильнее которой не было бы никакой другой. Но для всякой данной вещи существует другая, более могущественная, которой первая может быть разрушена.
Теорема 1
Ничто из того, что заключает в себе ложная идея положительного, не уничтожается наличностью истинного, поскольку оно истинно.
Доказательство. Ложность (по т. 35, ч. II) состоит в одном только недостатке познания, который заключает в себе неадекватные идеи; ничего положительного, вследствие чего они называются ложными, они в себе не заключают (по т. 33, ч. II). Наоборот, поскольку они относятся к Богу, они (по т. 32, ч. II) истинны. Поэтому, если бы то, что заключает в себе ложная идея положительного, уничтожалось наличностью истинного, поскольку оно истинно, то, следовательно, истинная идея уничтожалась бы сама собой, а это (по т. 4, ч. III) абсурд. Следовательно, ничто из того и т. д.; что и требовалось доказать.
Схолия. Эту теорему яснее можно уразуметь из кор. 2 т. 16, ч. II. Воображение есть идея, показывающая более наличное состояние человеческого тела, чем природу тела внешнего, и притом не отчетливо, а смутно. Отсюда и происходит то, что душа, как говорят, заблуждается. Так, например, когда мы смотрим на солнце, мы воображаем, что оно отстоит от нас приблизительно на 200 шагов; и мы ошибаемся в этом отношении до тех пор, пока остаемся в неведении истинного его расстояния. Когда же это расстояние узнано, то уничтожается и ошибка, но не воображение, т. е. идея солнца, выражающая его природу лишь постольку, поскольку наше тело подвергается действию со стороны его. Поэтому, хотя мы и узнаем истинное расстояние солнца, мы все-таки будем воображать его вблизи от нас. Ибо, как мы сказали в сх. т. 35, ч. II, мы воображаем солнце так близко не по той причине, что не знаем его истинного расстояния, но потому, что душа представляет величину солнца постольку, поскольку тело подвергается действию со стороны его. Точно так же, когда лучи солнца, падая на поверхность воды, отражаются к нашим глазам, то мы воображаем, будто оно находится в воде, хотя и знаем истинное его положение. Точно так же и другие воображения, обманывающие душу, показывают ли они естественное состояние тела или то, что его способность к действию увеличивается или уменьшается, не противны истине и не устраняются ее наличностью. Бывают, конечно, случаи, что когда мы ложно боимся какого-либо зла, то страх перед ним исчезает, как только мы получим истинное сведение о нем; но бывает также и наоборот: когда мы боимся зла, которое наверное случится, страх перед ним также уничтожается вследствие того, что мы получаем о нем ложное сведение. Следовательно, такие воображения устраняются не наличностью истинного, поскольку оно истинно, но вследствие того, что являются другие, более сильные воображения, которые исключают наличное существование воображаемых нами вещей, как мы показали это в т. 17, ч. II.
Теорема 2
Мы пассивны постольку, поскольку составляем такую часть природы, которая не может быть представляема сама через себя и без других.
Доказательство. Мы пассивны (по опр. 2, ч. III) тогда, когда в нас возникает что-либо такое, причину чего мы составляем только частную, т. е. что не может быть выведено из одних только законов нашей природы (по опр. 1, ч. III). Следовательно, мы пассивны постольку, поскольку составляем часть природы, которая не может быть представляема сама через себя и без других; что и требовалось доказать.
Теорема 3
Сила, с которой человек пребывает в своем существовании, ограничена, и ее бесконечно превосходит могущество внешних причин.
Доказательство. Это вытекает из аксиомы этой части. Ибо, если существует человек, то существует также и что-либо другое, например А, более могущественное, чем он, а если существует А, то существует далее и еще другое, например В, еще более могущественное, чем само А, и так до бесконечности. И, следовательно, сила, с которой человек пребывает в своем существовании, ограничена, и ее бесконечно превосходит могущество внешних причин; что и требовалось доказать.
Теорема 4
Невозможно, чтобы человек не был частью природы и претерпевал только такие изменения, которые могли бы быть поняты из одной только его природы и для которых он составлял бы адекватную причину.
Доказательство. Способность (potentia), в силу которой отдельные вещи, а следовательно, и человек, сохраняют свое существование, есть (по кор. т. 24, ч. I) само могущество (способность) Бога или природы, не поскольку она бесконечна, но поскольку она может выражаться в действительной (актуальной) сущности человека (по т. 7, ч. III). Поэтому способность человека, поскольку она выражается его действительной (актуальной) сущностью, составляет часть бесконечной способности, т. е. (по т. 34, ч. I) сущности Бога или природы. Это первое. Далее, если бы было возможно, чтобы человек претерпевал только такие изменения, которые могли бы быть поняты из одной только его природы, то отсюда следовало бы (по т. 4 и т. 6, ч. ш), что он не мог бы погибнуть, но необходимо существовал бы всегда. Но это должно было бы быть следствием причины, могущество которой, или конечно, или бесконечно, а именно – или следствием одной только способности человека, который в таком случае был бы в состоянии удалять от себя все другие изменения, могущие возникнуть по внешним причинам, или следствием бесконечной способности (могущества) природы, которой все отдельные вещи направлялись бы таким образом, что человек не мог бы претерпевать никаких других изменений, кроме тех, которые способствуют его сохранению. Но первое (по пред, т., доказательство которой всеобще и приложимо ко всем отдельным вещам) невозможно. Следовательно, если бы было возможно, чтобы человек не претерпевал никаких изменений, – чтобы он необходимо существовал всегда, то это должно было бы быть следствием бесконечного могущества Бога, и, следовательно (по т. 16, ч. I), из необходимости Божественной природы, поскольку она рассматривается составляющей идею какого-либо человека, должен был бы вытекать порядок всей природы, поскольку она представляется под атрибутами протяжения и мышления. А отсюда (по т. 21, ч. I) следовало бы, что человек бесконечен; но это (по 1-й ч. этого док.) нелепо. Итак невозможно, чтобы человек претерпевал только такие изменения, для которых он составляет адекватную причину; что и требовалось доказать.
Королларий. Отсюда следует, что человек необходимо подвержен всегда пассивным состояниям, следует общему порядку природы, повинуется ему и приспособляется к нему, насколько того требует природа вещей.
Теорема 5
Сила и возрастание всякого пассивного состояния и пребывание его в существовании определяются не способностью, в силу которой мы стремимся пребывать в своем существовании, но соотношением могущества внешней причины с нашей собственной способностью.
Доказательство. Сущность пассивного состояния не может быть объясняема из одной только нашей сущности (по опр. 1 и 2, ч. III), т. е. (по т. 7, ч. III) могущество пассивного состояния не может определяться той способностью, в силу которой мы стремимся пребывать в своем существовании; но (как это показано в т. 16, ч. II) оно необходимо должно определяться соотношением могущества внешней причины с нашей собственной способностью; что и требовалось доказать.
Теорема 6
Сила какого-либо пассивного состояния или аффекта может превосходить другие действия человека, иными словами, его способность, так что этот аффект будет упорно преследовать его.
Доказательство. Сила и возрастание всякого пассивного состояния и пребывание его в существовании определяются соотношением могущества внешней причины с нашей собственной способностью (по пред, т.); а потому (по т. 3) она может превосходить способность человека и т. д.; что и требовалось доказать.



