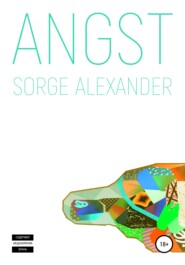 Полная версия
Полная версияAngst
Почему смешное нам кажется смешным? Самая распространенная «теория несоответствия», чьи корни тянутся ещё к идеям Аристотеля и Шопенгауэра, гласит, что юмор рождается из противоречия и нашей способности эти противоречия подмечать. Комизм появляется, когда наши ожидания или представления о чем-либо оказываются опровергнуты: человек, предмет или идея попадают в несвойственное им окружение или ситуацию. Например, представьте себе карикатурного богатея: чопорного джентльмена во фраке, который неожиданно поскальзывается на банановой кожуре. Надменный и строгий образ, который возникает у нас в голове никак не совпадает с той нелепой ситуацией, в которой он оказывается. На неоправданных ожиданиях строится классическая структура шутки сетап-панч.
Сетап или образ, который возникает у нас в голове, задаёт нам один контекст ситуации, а панч или какое-либо происшествие переносит ситуацию в совершенно иной контекст, заставляя посмотреть на неё с другой точки зрения. Артур Кёстлер, развивший теорию юмора, назвал такой переход «бисоциацией». При бисоциации два несовместимых, но непротиворечивых контекста неожиданно сталкиваются друг с другом и начинают казаться нам ассоциированными. Наиболее простой пример бисоциации – каламбуры и вербальный юмор, когда шутка обыгрывает разные значения одного слова. Теория Кёстлера хорошо описывает почти все виды юмора. Ситкомы сталкивают контексты банально помещая героя в нетипичную, абсурдную для него ситуацию. Сортирный и похабный юмор начинает говорить о человеке в контексте личности, со своими ценностями и убеждениями, и переносит его в контекст, где человек – лишь животное, с инстинктом тыкать во всё живое членом и пуляться дурнопахнущими биологическими жидкостями. Жестокий юмор, когда незнакомец получает битой по бубенцам – суть та же бисоциация, когда «человек-личность» начинает рассматриваться в контексте физического объекта: куска мяса с нервными окончаниями, который подчинен законам физики (как раз-таки пример с банановой кожурой).
В то же время, при переходе из одного контекста в другой, положение человека, предмета или идеи приуменьшается. Возвращаясь к гэгу с банановой кожурой: из надменного джентльмена мужчина превращается во всеобщее посмешище. Юмор действительно способен принизить всё что угодно: остроумной ремаркой можно спустить человека с небес на землю, а насмешка может стать жестоким оружием: «смехом можно убить всё – даже убийство». Из-за этого смех и юмор, в отличии от слёз и других чувств, часто кажется нам неуместным, якобы обесценивающим ситуацию. Например, шутки про смерть очередной знаменитости в интернете могут поднять фекальное цунами, которое выплеснется аж на федеральные каналы: рассматривать смерть и ещё ряд тем и событий в каком-либо еще контексте, кроме как официозно-трагическом, кажется нам априори кощунственным. На похоронах, допустим, абстрактного Евпатия Лаврентича все обязаны давиться горькой водочкой и выдавливать из себя скорбь и слёзы. Все произносят сухие характеристики, словно не провожают человека, а составляют на него досье: такой-то муж, такой-то отец, столько-то угля дал стране. Вместо образа человека перед нами возникает бездушный бронзовый бюст. Шутки и анекдоты про покойника кажутся неуместными, хотя, казалось бы, Евпатию Лаврентичу уже абсолютно всё равно, что о нём говорят: он вместе с апостолом Павлом и сорока белогрудыми гуриями давно уже отжигает в Валгалле. Это поначалу. Но что происходит после второй-третьей рюмки? Из памяти достаются забавные истории и курьёзы, которые приключились с Евпатием Лаврентичем за всю его долгую трудовую жизнь. И вот уже нам видится не бездушный бронзовый истукан, а живой человек: юмор оживляет покойника. Приуменьшая значимость события – смерти, юмор не только позволяет легче пережить утрату, но и обнажает суть: да, умер. Но человек то был хороший.
Растворитель догм
Юмор действительно принижает значимость многих тем, но не умоляет их значения. Он лишь срезает всю эту претенциозно-торжественную вуаль, которая опутывает многие темы, оставляя лишь сердцевину. Сердцевину, которую можно покрутить в руках и рассмотреть под разными углами. Отринув ханжество и морализаторство, мы увидим то важное свойство анекдота, которое часто упускаем: бисоциация, сталкивая два образа в нашем мозгу, ставя объект шутки в другой контекст, позволяет нам по-новому взглянуть на этот самый объект. Распространенный сюжет чернушного скетча, где хладный труп вываливается из катафалка или просто падает и распластывается по земле, многим кажется кощунственным. Однако даже эта третьесортная юмореска позволяет нам по-другому взглянуть на смерть. Столкновение образа человека-личности и человека-физического объекта – тухлеющего куска мяса, приводит нас к нехитрой мысли: а не слишком ли много мы уделяем внимания посмертным ритуалам, не слишком ли много ненужного пафоса вокруг закапывания человека в землю? И не лучше ли выразить уважение этому человеку при жизни, ведь покойнику, лежит ли он на мраморном полу или под землёй, уже, тащемто, всё равно?
Шутить, хоть и осторожно, нужно над всем. Юмор открывает пространство для диалога, ведь менее серьёзный подход часто позволяет нам трезвее взглянуть на ситуацию. Именно поэтому церковники всех мастей, усатые диктаторы и прочие сказочные персонажи политической фауны так не любят юмор: он не обесценивает тему, а открывает её для обсуждения. И часто после этого выясняется, что за напускным пафосом кроется лишь парочка спорных утверждений. А за образом могучего короля, с которого юмор сбивает спесь и которого ставит на один уровень с нами – обычный человек, не такой уж и грозный. А чаще и вовсе голый. Объявляя же темы запретными для смеха, мы делаем бисоциацию, переход из одного контекста в другой, невозможным. Сакрализация закрывает путь не только для смеха, но и для любого диалога. А на таком выжженном поле, где нет места обсуждению, легко всходят столпы догм и идолов.
06.05.19
А обретая лёгкость, глыбы магическим образом начинают выпадать из пафосных речей политиков и сакральных текстов проповедников. Ведь особая форма этого вещества – сатира, не пьянит, а дарит трезвость: трезвость, которая за напускным пафосом догматов позволяет увидеть суть всех этих громких слов – часто глупую и нелепую. Именно поэтому государство старается поставить оборот сатиры, как и дилеров этой субстанции, под жёсткий контроль. Квадратная спираль, закованная в пластиковый короб, заканчивалась. Я приближался к вершине.
Водка и космос
О том, почему власть больше боится юмористов, нежели террористов.
Юмор всегда был особой субстанцией для тех, кто живет на куске земли «от тайги до британских морей». Препаратом, которое нужно принимать дозированно и строго по инструкции: над одним посмеяться можно, а над другим шутить никак нельзя. Лекарством, без которого столкновение с реальностью порой может закончиться летальным исходом. Как же влияет на людей и власть эта субстанция и попытался ответить «Юморист».
«Небо – самолётам, а цензура для артиста»
Фильм Михаила Идова рассказывает историю «любимого сатирика органов», Бориса Аркадьева, который раз за разом рассказывает публике уже осточертевший ему монолог про пляжную фотографию с макакой Артурчиком. На первый взгляд, «Юморист» может показаться аллюзией на современную действительность. Еще до премьеры продюсеры фильма заигрывали с миллениалами, пытаясь сыграть на протестных настроениях и актуальной нынче теме государственной цензуры. Ваня Дрёмин выпустил одноимённый трек, Юра Дудь пригласил режиссёра на дружеский разговор, а Данила Поперечный перед премьерой побеседовал о фильме с Геннадием Хазановым. И ставка действительно сыграла: благодаря современным параллелям с советской эпохой, биты Фейса весьма органично вписываются в ретро антураж. Однако, правда в том, что фильм вообще не про цензуру или свободу слова. Главный герой не бегает по инстанциям в отчаянных попытках «залитовать» материал – о советской бюрократической машине упоминается лишь вскользь.
Драма действительно поставлена в декорациях позднего СССР, однако, если вы идёте в кинотеатр с ожиданием увидеть зверства чекистов, которые затыкают сатирику рот, то, я вас огорчу – их там нет. «Кровавые гэбисты» выступают лишь как атрибуты эпохи, с которыми просто приходилось мириться – к ним не испытываешь ни жгучей ненависти, ни отвращения. Они нужны лишь как лабораторные крысы, на которых автор показывает воздействие сатиры на власть, пытаясь объяснить, почему же государство так боится шуток в свой адрес: от анекдотов на кухни до мемов в социальных сетях.
Ведь для любой власти враг, мнимый или реальный, не так страшен, как сатира. С неприятелем можно побороться, поиграть мускулами, показать свою силу: борьба только укрепляет образ могучего Голиафа. Юмор же – как эстрадный софит, под прямым лучом света которого обнажается истинный лик «Голиафа»: усталое, испещренное старческими морщинами лицо, несуразные жесты и абсурдные маразматичные реплики. Обрюзгшее тельце с обвисшими мышцами, которое функционирует только благодаря поддерживающим его «органам». А поэтому свет этого софита нужно пропускать через цензурный фильтр, чтобы он был мягким, обволакивающим. Таким, чтобы в его лучах проявлялись лишь добрый оскал улыбки, «бронза мускул и свежесть кожи».
Сила зубастой сатиры раскрывается в кульминационной сцене в бане, которая уж слишком напоминает античный амфитеатр, а зрители – римских патрициев в тогах: герой своим дерзким, не залитованным монологом сражает могучего седовласого Генерала. В фильме вообще ощущается какой-то пелевинский дух, лёгкий налёт сюрреализма: от метафоричной сцены в бане, до диалога с трансцендентным космическим богом. Космос вообще тонкой красной линией идёт через весь фильм: вот оператор показывает степь, напоминающую звездное небо, вот герой закуривает сигарету Космос, а вот принимает таблетки «для космонавтов», чтобы протрезветь перед выступлением.
«Пошутил не так и ты попал в black list»
«Юморист» позиционировал себя как диалог между Хазановым и Поперечным, между поколениями. Поколением помнящим, какого это, бояться сеть за анекдот и поколением, которое только начинает это осознавать. Но, когда досматриваешь картину, понимаешь, что это вообще монолог. Монолог не о тяжелых временах, не о «тогда и сейчас». Вы не найдете здесь зеркало эпохи: все аллюзии к реальным событиям довольно пространны, а все совпадения, как говориться, случайны. Фильм Идова действительно оправдывает свое название – это монолог юмориста. Кому-то этот монолог покажется затянутым и нудноватым, но это ощущение скрашивается неплохой операторской работой и саундтреком (не волнуйтесь, русский рэп звучит в фильме лишь после титров). Этот фильм, как бы пафосно это ни прозвучало, о вечных, «космических вопросах». Вопросах, которые Борис Аркадьев через микрофон задает «товарищу богу». Той ли дорогой я иду? То ли я делаю? Заслужил ли я то признание, которое имею? Вопросы, на которое ни главный герой, ни бог с позывным «Топаз-11», не знают ответа. И поэтому сомнения приходится глушить водкой. Водка и космос – это и есть настоящая русская идея, как подметил «концертный директор» Аркадъева.
Но, главный вопрос, который поднимается в фильме – это вопрос выбора. Выбора, перед которым, рано или поздно, встаёт любой творец в любые времена. Делать то и так, как ты считаешь правильным, как ты хочешь, но оставаться никому не известным очкариком Гринбергом из начала фильма, работающим за гроши. Или пойти на компромисс с самим собой и давать людям то, что они от тебя хотят, что требуют раз за разом и быть сатириком Аркадьевым: «нормальным человеком», с деньгами и каким-никаким признанием. Ведь, как намекает нам режиссёр финальным кадром, вкусы «широкой публики» не особо меняются со временем – она всегда хочет ту самую пошловатую, легко перевариваемую юмореску про пляжную фотографию с макакой Артурчиком.
05.03.19
Я стоял, прислонившись к бетонным перилам пешеходной тропки на огромном автомобильном мосту. Подо мной раскинулась широченная асфальтовая река, наполненная светом, который лился с выкрашенных пылью корабельных мачт, что разделяли её на два потока. Левый, белый поток стремительно тёк навстречу мне. Правый же, переливаясь сотнями рубинов, уносился куда-то вдаль, прочь от меня. Ночь. Ливень кончился. Вот и всё. И вроде бы дождь должен был оставить после себя какую-то лёгкость, свежесть, однако чувствовалась лишь промозглая всепроникающая сырость, от которой съёживалась твоя душонка. Я закурил – на этот раз зажигалка не стала со мной спорить – и уставился на тлеющий оранжевый уголёк. Сигареты – свечи для Многоликой Матери, что зажигают крохотные лампадки смерти внутри тебя. Тут же отхлебнул колы. Запиваешь сигарету, чтобы сбить привкус дерьма во рту, делаешь затяжку, чтобы кисло-химическое послевкусие ушло, затем снова делаешь глоток – и всё по новой. И так всю жизнь.
В какой-то момент приходит осознание, что наше существование – лишь гонка по кольцевой в ожидании неминуемой аварии. И пока ты отчаянно маневрируешь в потоке, пытаясь ненароком не впечататься в какой-нибудь отбойник, трое твоих попутчиков дёргают руль, перечат друг другу и спорят, кому же достанется твоя душа. Многоликая Матерь толкает тебя отчаянно цепляться за жизнь, пытаться наполнить её смыслом. Князь мира сего, если попытки эти не особо успешны, заставляет ослабить хватку. Вместе они побуждают тебя лезть куда-то туда, наверх, к свету. Шепчущий Дух же, напротив, советует тебе сидеть тише и крепче держаться за сырые стенки колодца. Боязнь одиночества заставляет глазами искать в толпе… Хоть кого-то? Боязнь стать отвергнутым заставляет опустить глаза и отвернуться. Иногда побеждаешь ты и страх наполняет тебя… Силой? Нет, скорее, стремлением действовать. Иногда побеждает страх…
Неизменно лишь одно. Все дороги рано или поздно затягиваются в петлю, все размышления и разговоры рано или поздно приводят тебя к одной мысли, а все вопросы сводятся к одному главному. Секс, творчество, алкоголь – даже деньги, всё это действительно купирует страхи. Но лишь на время. Эти и другие препараты нужно принимать регулярно, иначе удавка ужаса снова затянется на твоей шее. Да и нельзя прожить всю жизнь «на таблетках», которые лишь временно снимают симптомы, высушивают душу, вызывают привыкание и влекут за собой разрушительные побочные эффекты. По крайней мере, долгую жизнь. Единственный антидот, который поможет тебе избавиться от этих трёх душевных паразитов и их миньонов, что терзают тебя каждый день – это счастье. Да, у каждого свой рецепт этого лекарства, свои компоненты для приготовления этого мифического эликсира. Но рецепт, одновременно простой и одновременно сложный, универсален. И открыли его не алхимики, а экономисты.
Экономика человеческого мозга
О счастье, приемлемой жене и обеде конформиста.
При слове «экономика» большинству людей на ум приходят либо такие тошнотворно-скучные словосочетания, как «товарно-денежные отношения», либо Антон «Дно Достигнуто» Силуанов и мажоры с экономического факультета. Между тем, прокачанные экономисты с её помощью могут предсказать будущее, синтезировать формулу счастья и творить совсем уж черную магию. Но обо всем по порядку.
Рациональность и корысть
Наиболее любопытной для неспециалиста школой (или направлением) экономической теории является институционализм. Во второй половине XX века адепты этой школы стали своеобразными «рок-звездами»: им удалось открыть и объяснить те экономические феномены, на которые никто раньше даже не обращал внимания. За это они стабильно получали и продолжают получать Нобелевские премии. Слава, деньги, награды – в общем, всё как у людей. Секрет их успеха был довольно прост – институционалисты начали рассматривать экономические процессы в связке с неэкономическими. Вроде нехитрая мысль, однако результат был колоссальный.
Дело в том, что до этого в любой экономической теории общество, да и человек были представлены весьма топорно. Взять хотя бы модель экономического человека, того самого Homo Economicus – этакого сложного биоробота Адама Смита, абсолютно рационального и стремящегося к максимизации своей выгоды в каждый момент времени.
Но товарищи-институционалисты резонно заметили: «Стоп! Но ведь человек не может абсолютно точно сказать, в какой точке города хлеб дешевле в данный момент. Да даже если и мог, то навряд ли поехал бы утром на другой конец города покупать хлеб на завтрак, пусть он там на полрубля и дешевле. Кто-то, может, вообще покупает хлеб в ларьке у подъезда, потому что ему там продавщица нравится».
В общем, человек не всегда ведет себя рационально, но при этом, как выяснится позднее, всегда оппортунистически настроен, то есть действует прежде всего в своих интересах. Это положение стало первым столпом институциональной экономической теории, вторым – непосредственно сами институты. Коротко институт можно охарактеризовать как набор правил, которые выполняются членами группы, и санкциями, следующими за нарушением правил. Семья, мораль, государство, частная собственность, наука – это все институты, которые влияют на все без исключения процессы, хоть как-то связанные с человеком.
Побочным продуктом такого нестандартного взгляда на экономическую теорию стало откровение, что экономика может дать ответы на гораздо более широкий круг вопросов, чем считалось ранее: от того, почему некоторые политические деятели вот уже семнадцать лет находятся у власти, до ответа на «главный вопрос жизни, вселенной и вообще».
Оказалось, что методы институциональной экономики хорошо подходят для описания самых разных областей. К примеру, подход Гэри Бэккера к преступности как к чисто экономической деятельности, где есть рынок, спрос и предложение, изменил многие принципы правоохранительной практики (однако это уже тема для отдельной статьи). Но гораздо интереснее, что концепции институционалистов прекрасно описывают процессы, происходящие в столь горячо любимой каждым россиянином политической сфере нашего общества.
Упадок и бессилие
Любая система, будь то семья, фирма или государство, по своей сути является объединением людей. А значит, оппортунистическое поведение действует и во власти. Но если в исправных системах такое поведение контролируется санкциями (взял взятку – получил по рукам), то у России, как всегда, особенный путь.
И дело тут даже не в том, что у нас строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Просто в России неформальные институты (в которых контроль за соблюдением правил осуществляется всеми участниками группы) часто вытесняют формальные (где к исполнению правил принуждают специально обученные люди). Проще говоря, «да мало ли, что у вас там в бумажке написано – у нас так не принято». Так и тут: институт права и судебной власти вытесняется институтом, образованным, скажем, «группой материально заинтересованных лиц». И человек просто встраивается в систему, где он либо пилит/откатывает, либо выдавливается из сообщества. Во втором случае, либо если человек оступается, следуют как неформальные санкции (когда с тобой «на одном поле не сядут»), так и вполне себе формальные – уголовная ответственность, и еще далеко не очевидно, что из этого хуже.
При этом неформальный институт гораздо сложнее искоренить – попробуй докажи престарелым церберам в поликлинике, что здесь электронная очередь и у тебя есть талон. Тут же гарантированно получишь порцию праведного гнева. Потому что все сто лет, что они ходят к врачу, была очередь живая и вообще «не учи ученого».
Неконтролируемое оппортунистическое поведение так же порождает «ошибки второго рода». Касательно нашей реальности, это проявляется в том, что при создании законопроекта в него сознательно закладываются возможности получения выгоды. Самым ярким примером является печально известный «пакет Яровой» – совершенно очевидно, что требования, предлагаемые этими законопроектами, операторы мобильных сетей полностью исполнить не смогут, однако этого и не требуется. Вернее, это и требуется, ведь при необходимости бюрократический аппарат получает лакомый источник коррупционного дохода, а высшие эшелоны власти – эффективный рычаг давления. Как говорится, «был бы человек, а статья найдется», так вот тут ее и искать не надо. Ну а дальше подключается человеческая масса с гордым названием «электорат», и начинается самое интересное.
В любой стране между государством и обществом заключается «контракт» и возникают «контрактные отношения» – общество дает полномочия государству распоряжаться ресурсами для повышения благосостояния граждан в обмен на некоторые обязательства. В данном случае имеется в виду контракт не с юридической точки зрения, а с точки зрения экономической теории, то есть «отношения», которые стороны подразумевают и стремятся поддерживать. И в России все проблемы, связанные с контрактными отношениями, не просто всплывают, а вырастают до огромных масштабов.
Тут и уже осточертелая вам ограниченная рациональность, когда мы не можем быть полностью уверены, что избираемый депутат на бюджетные деньги построит обещанную больницу, а не очередной «домик для уточки». И перекошенный контракт, когда подразумевается, что стороны равны, но фактически у государства прав оказывается больше – взять хотя бы монополию на насилие. И «асимметрия информации», когда нам достается не вся информация о результатах деятельности государства, и мы не всегда в состоянии адекватно оценить результаты этой деятельности: может, партия и правда прилагает все усилия, чтобы завтра наступило светлое коммунистическое будущее, а в подъездах по ночам ссыт спецрота морской пехоты США. И, как вишенка на торте, уже упомянутое оппортунистическое поведение во власти.
В теории, это все должно регулироваться институтом права и практикой разделения власти, но теория у нас никому не интересна и не выгодна. Ну и последнее – «проблема халявщика», которая в России перевешивает все остальные вместе взятые. Проблему халявщика можно выразить сакральной мантрой всего русского народа – «авось». Только в данном случае – не «авось как-нибудь», а «авось кто-нибудь».
Представим ситуацию: вы на собственные средства установили перед подъездом скамейку, чтобы наслаждаться теплыми летними вечерами. Только вот пользоваться ей будут и пенсионеры, которые живут в этом подъезде, и матери, и, скорее всего, даже алкоголики из соседнего двора, хотя платили за нее только вы. Но, допустим, вы и не против – пусть пользуются, тем более, что скамейки от этого меньше не становится. Таким образом вы создали «общественное благо». Возможно, вы и дальше решите благоустраивать подъезд, но в какой-то момент у вас возникнет закономерный вопрос: «Да сколько можно-то?! Делаю я, а пользуются все!» И поскольку ни желания, ни средств нанимать ЧОП, который бы охранял бы вашу драгоценную скамейку, у вас нет, то вы просто плюнете на все и пойдете смотреть телевизор. Только вот вы уйдете, а мысль окружающих: «Да зачем что-то делать? Все равно кто-нибудь другой сделает, а я попользуюсь», – останется.
Это желание пользоваться общественными благами на халяву и перекладывание ответственности за их создание на другого уже стало нашей старой доброй традицией. При этом общественное благо – это не всегда скамейка. Чистый подъезд, честные выборы – это тоже своего рода общественные блага. Но зачем ходить на выборы/собрание жильцов/субботник – другие сходят, другие сделают. Сделать-то за вас, конечно, сделают, но не факт, что так, как хотите вы, а не «нужный человек». Поэтому и разруха в клозетах. Поэтому этот огромный неуклюжий паровоз вот уже двадцать лет все по тем же ржавым рельсам и катит.
Глупость и уныние
От скамеек и паровозов перейдем к более насущной теме, ведь человека всегда в первую очередь волнуют именно его проблемы. Многим, может быть, знакома ситуация, когда вроде бы все хорошо: есть работа, вроде бы даже интересная, машина, вроде бы даже хорошая, и девушка, вроде бы даже любимая. В общем, жаловаться особо не на что, но заветного счастья как не было, так и нет, а жизнь все равно остается какой-то пресной, «всё не то и всё не так».
Быть может, во всем виноваты эти злополучные институты, ломающие своими огромными социальными шестернями такое хрупкое человеческое счастье? И действительно: семья, корпорации, традиции и государство загоняют нас в рамки и диктуют свои стандарты потребления и поведения. Вы, возможно, терпеть не можете ездить на выходные к теще и надевать на работу костюм (не самый дешевый, кстати). Да и вас вряд ли поймет коллега по бизнесу, если вы назначите деловую встречу в Макдоналдсе. Но надо, институты, понимаешь, требуют, а иначе санкции: развод, увольнение и ваш портрет на пятиминутке ненависти.
Но давайте начистоту – мы ложимся под эти шестерни, потому что нам так комфортнее. Это же так просто: делай, что надо, и в глазах окружающих ты – крут, бог, ферзь, а кто не вписался в рамки, тот – лох, чмо, шерсть. Только вот в итоге получается, что мы делаем и выбираем не то, что нужно нам, а то, что нужно окружающим.

