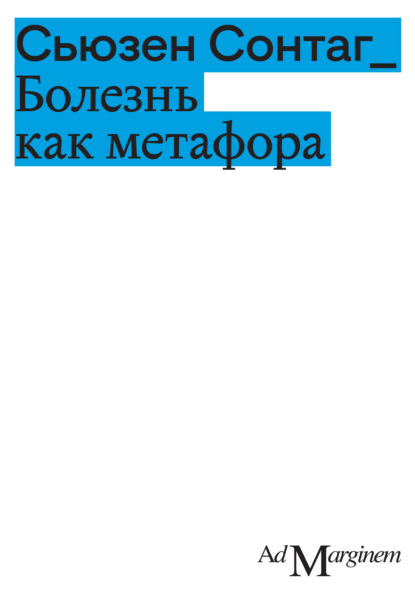
Полная версия:
Болезнь как метафора

Сьюзен Сонтаг
Болезнь как метафора
Copyright © 1977, 1978, Susan Sontag
All rights reserved
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2016, 2024
Болезнь – сумеречная сторона жизни, тягостное гражданство. Каждый из родившихся имеет два паспорта – в царстве здоровых и царстве больных. Пусть мы и предпочитаем использовать первый, но рано или поздно каждый из нас, хоть на недолгий срок, вынужден причислить себя к гражданам этой другой страны.
Мне бы хотелось описать не то, как происходит изгнание в страну больных и какова там жизнь, но «карательные» и сентиментальные мифы, коими щедро наделено это печальное царство – то есть описать не реальную географию, а стереотипы национального характера. Тема этого эссе не физическая болезнь как таковая, а использование болезни в качестве фигуры речи или метафоры. Я стремилась показать, что болезнь не метафора и что самый честный подход к болезни, а также наиболее «здоровый» способ болеть – это попытаться полностью отказаться от метафорического мышления. И всё же вряд ли возможно поселиться в царстве больных, не отягощая себя грозно пылающими метафорами, что образуют его ландшафт. Именно прояснению этих метафор – и освобождению от них – я посвящаю эту работу.
Болезнь как метафора
_1
Две болезни сходным и фантастическим образом рядились в одежды метафоры: туберкулез и рак.
Фантазии, связанные с туберкулезом (ТБ) в прошлом столетии, а с раком в нынешнем, – это реакция на болезнь, которая считается трудноизлечимой и капризной, то есть на болезнь непонятную – в век, когда главная установка медицины состоит в том, будто все болезни поддаются врачеванию. Неизлечимая болезнь таинственна по определению. Так, ТБ воспринимался как коварный, безжалостный похититель жизни, покуда неясными оставались его причины и тщетными – усилия врачей. Теперь же настал черед рака – неумолимого, невидимого агрессора, болезни, входящей без стука – пока однажды не будет выявлена его этиология, а методы лечения не станут столь же действенными, как в случае туберкулеза.
Хотя таинственность, которой окутана болезнь, всегда сочетается с надеждами на открытие противоядия, сама болезнь (некогда туберкулез, сегодня рак) вызывает вполне старомодные страхи. Всякая болезнь, если она таинственна и порождает страх, всегда будет восприниматься как заразная, пусть не в буквальном, но в нравственном смысле. Так, на удивление много раковых больных обнаруживает, что их избегают родственники и друзья, и нередко подвергается «обеззараживанию» со стороны собственных домочадцев, словно рак, подобно ТБ, – инфекционная болезнь. Контакт с лицом, страдающим от недуга, который склонны считать таинственным и зловещим, неизменно воспринимается как прегрешение, хуже того – как нарушение табу. Магической властью наделяются даже названия таких болезней. В «Армансе» Стендаля (1827) мать героя отказывается произносить «туберкулез» из страха, что одно это слово ускорит течение болезни ее сына. А Карл Меннингер[1] (в «Жизненном равновесии») отмечал, что «само слово „рак“, согласно распространенному мнению, убило некоторых пациентов, которые бы не поддались болезни, от которой страдали, [так скоро]». Данное наблюдение – одно из антиинтеллектуальных благочестивых заявлений и лжесочувственных высказываний, которыми полны современная медицина и психиатрия. «Пациенты, обращающиеся к нам из-за своих страданий, отчаяния и немощи, – продолжает автор, – имеют полное право негодовать по поводу цепляемых на них проклятых табличек». Доктор Меннингер рекомендует врачам отказаться от «имен» и «ярлыков» («наша задача в том, чтобы помогать этим людям, а не ранить их еще сильнее»), что, по сути, только повышает секретность и врачебный патернализм. Уничижительным и прóклятым представляется не собственно процесс именования, но слово «рак». До тех пор пока весьма конкретная болезнь будет восприниматься как злобный, непобедимый хищник, а не просто как одна из болезней, – большинство заболевших раком действительно будут деморализованы, узнав о своем диагнозе. Выход же видится не в сокрытии правды от раковых пациентов, но в очищении концепции болезни, в ее демистификации.
Когда, всего несколько десятилетий назад, диагноз «туберкулез» был равносилен смертному приговору, – как сегодня, согласно расхожим представлениям, рак тождествен смерти, – болезнь было принято скрывать от чахоточных, а по их кончине – от их детей. Врачи и близкие избегали говорить на эту тему даже с теми, кто был осведомлен о своей болезни. «Мне не говорят ничего определенного, – писал Кафка другу в апреле 1924 года из санатория, где скончался спустя два месяца, – так как при одном упоминании о туберкулезе <…> глаза у собеседников стекленеют и все начинают изъясняться туманно и уклончиво». Раковый диагноз окружают еще более строгие условности. Во Франции и Италии врачи по-прежнему сообщают о заболевании только семье больного, но не самому пациенту; врачи полагают, что правда будет нестерпимой для всех, кроме особо стойких и разумных людей. (Ведущий французский онколог говорил мне, что менее десятой части его больных знают, чем они больны.) В Америке – отчасти из-за боязни судебных исков – врачи теперь гораздо откровеннее с пациентами, однако крупнейшая в стране онкологическая больница отправляет амбулаторным больным сообщения и счета в конвертах, на которых не указан отправитель, полагая, что болезнь, возможно, содержится в тайне от их семей. По той причине, что заболевание может быть воспринято как нечто постыдное и, следовательно, стать угрозой для интимной жизни человека, для его продвижения по службе и даже для его работы, пациенты, знающие о своем диагнозе, стараются говорить о нем очень сдержанно, а то и вовсе скрывают факт болезни. В федеральном законе, Акте о свободе информации 1966 года, «лечение рака» упоминается в статье, где перечислены те категории информации, разглашение которых «составило бы незаконное вторжение в частную жизнь». Причем рак – единственная болезнь, упомянутая в законе.
Вся ложь, исходящая от онкологов и их пациентов, свидетельствует о том, сколь тяжело примириться со смертью в развитом индустриальном обществе. Из-за того что смерть воспринимают нынче как оскорбительно бессмысленное событие, подлежит сокрытию болезнь, повсеместно признаваемая как синоним смерти. Политика недомолвок в отношении раковых пациентов отражает человеческую убежденность в том, что умирающим лучше не сообщать о близкой кончине и что хорошая смерть – это внезапная смерть, а лучше всего если она наступает во сне или в бессознательном состоянии. Однако современное отрицание смерти не объясняет меры и желанности лжи – сам глубинный страх предпочитают обходить стороной. Человек, перенесший инфаркт, может через несколько лет скончаться от сердечного приступа по крайней мере с той же вероятностью, что раковый больной – от рака. Но никому и в голову не приходит скрывать правду от сердечника: в инфаркте нет ничего постыдного. Раковым больным лгут не только потому, что их болезнь с большей или меньшей вероятностью смертельна, но потому что в ней присутствует нечто «нечистое»[2] – в первоначальном смысле слова, то есть зловещее, оскорбительное, мерзкое, отвратительное для чувств. Сердечное заболевание предполагает слабость, неисправность механического свойства; в нем нет нечестия, нет ничего от проклятия, что некогда лежало на больных туберкулезом и всё еще сопровождает больных раком. Метафоры, так или иначе связанные с ТБ и раком, указывают на развитие особенно тлетворного, жуткого процесса.
_2
Метафоры ТБ и рака перекрещиваются и переплетаются на протяжении почти всей их истории. Уже в 1398 году «Оксфордский словарь английского языка» определяет «consumption»[3] как синоним легочного туберкулеза[4]. (Иоанн Тревизский: «Когда кровь истончается, за этим следует чахотка и увядание».) Однако старинное толкование рака также связано с понятием «consumption». Вот раннее метафорическое определение рака в том же Оксфордском словаре: «Всё, что поедает, разъедает, разлагает или поглощает медленно и тайно». (Томас Пейнелл в 1528 году: «Рак – это нарыв черной желчи, пожирающий части тела».) Согласно самому раннему, буквальному толкованию, рак – это нарост, бугор или выступ, а название болезни (от обозначающих «краба» греческого karkínos и латинского cancer) было навеяно, по словам Галена, сходством между вздутыми жилками на наружной опухоли и конечностями ракообразного, а не, как полагают многие, аналогией между метастазирующей болезнью и передвижениями краба. Однако этимология подсказывает, что и туберкулез некогда воспринимался как разновидность аномального нароста: слово туберкулез – от латинского tūberculum, уменьшительной формы от tūber, то есть бугор, клубень – означало болезненное вздутие, выступ или разрастание[5]. Рудольф Вирхов, основавший в 1950-х годах XIX века клеточную патологию, считал «туберкулу» опухолью.
Таким образом, с периода поздней Античности и до недавнего времени туберкулез был – в типологическом смысле – раком. А рак, подобно ТБ, описывался как процесс «поглощения» тела. Современные представления о двух этих болезнях оформились только с развитием клеточной патологии. Лишь с помощью микроскопа стало возможно выявить отличительные признаки рака как клеточной активности и понять, что эта болезнь не всегда принимает форму наружной или даже осязаемой опухоли. (До середины XIX века никто не классифицировал лейкемию как разновидность рака.) Четкая граница между раком и ТБ была проведена в 1882 году, когда обнаружилось, что туберкулез – это бактериальная инфекция. Прогресс в медицине способствовал окончательному размежеванию метафор, связанных с двумя болезнями, а в конечном итоге и их противопоставлению. В начале XX века стал складываться современный миф о раке – миф, который с 1920-х годов унаследовал основные понятия, претерпевшие драматическую обработку в фантазиях о ТБ, притом что обе болезни и их симптомы стали подвергаться совершенно различному, почти диаметрально противоположному, толкованию.
Туберкулез считается заболеванием одного органа – легких, в то время как рак может возникнуть в любом органе и распространиться на всё тело.
Туберкулез – болезнь крайностей и контрастов: мертвенная бледность и горячечный румянец, гиперактивность, перемежаемая приступами слабости. Спазмодическое течение болезни проявляется в изначальном симптоме ТБ – кашле. Страдалец сгибается от кашля, потом откидывается на спинку кресла, переводит дух, дышит ровно; затем вновь кашляет. Рак – это болезнь роста (иногда видимого; чаще внутреннего), болезнь аномального, в конечном итоге летального разрастания, которое идет размеренно, непрерывно, постепенно. Хотя в иные периоды развитие опухоли удается задержать (ремиссии), рак не приводит к оксюморонам поведения, которые якобы характерны для ТБ: лихорадочная деятельность, страстное самоотречение. Туберкулезник бледен иногда; бледность ракового больного неизменна.
Туберкулез делает тело прозрачным. Такой стандартный метод медицинского обследования, как рентген, позволяет пациенту, часто впервые в жизни, увидеть свои внутренности – стать прозрачным для самого себя. В то время как ТБ богат внешними симптомами и на ранних стадиях (прогрессирующее похудание, кашель, вялость, лихорадка), при раке основные симптомы чаще всего не очевидны до последней стадии, когда действовать уже слишком поздно. Рак, часто обнаруживаемый случайно или во время рутинного врачебного осмотра, может зайти достаточно далеко и без заметных симптомов. В этом случае человеческое тело непрозрачно и, чтобы выявить рак, необходима помощь специалиста. То, что недоступно ощущениям пациента, специалист определяет посредством анализа тканей. Больные туберкулезом могут видеть свои рентгеновские снимки и даже владеть ими: пациенты санатория в «Волшебной горе» носят снимки в нагрудных карманах. Раковые больные не изучают результаты своей биопсии.
До сих пор считается, что ТБ вызывает приступы эйфории, повышает аппетит и усиливает плотское желание. В рацион пациентов в «Волшебной горе» входит обильный второй завтрак, съедаемый с большим аппетитом. Рак же, согласно общепринятому мнению, поглощает жизненные силы, превращает прием пищи в мучительную процедуру, умерщвляет желание. Туберкулез воспринимался иногда как средство, усиливающее сексуальное влечение, как болезнь, наделяющая исключительными способностями к обольщению. Рак считается асексуальным. Однако для ТБ характерно, что многие из его симптомов обманчивы – живость как следствие нервного истощения или румянец на щеках, кажущийся признаком здоровья, но в действительности вызванный лихорадкой, или, наконец, всплеск жизненных сил, возможно, предвещающий близкую кончину. (Такие вспышки энергии чаще всего саморазрушительны, а порой гибельны и для окружающих: вспомните легенду Дикого Запада о Доке Холидее, гангстере-туберкулезнике, которого разрушительное течение болезни освобождает от всяческих моральных условностей.) Все симптомы рака – истинные.
Туберкулез – это разъединение, таяние, дематериализация, это болезнь жидкостей: тело превращается во флегму, в мокроту, в слизь и, наконец, в кровь; это болезнь воздуха, нужды в здоровом воздухе. Рак – это перерождение, превращение телесных тканей в нечто твердое. Элис Джеймс в дневниковой записи, сделанной за год до смерти от рака, последовавшей в 1892 году, говорит об «этом мерзостном осколке гранита в груди». Но бугорок этот живой, это зародыш, наделенный волей. Новалис в статье, написанной около 1798 года для своей предполагаемой энциклопедии, называет рак, наряду с гангреной, «полноценными паразитами – они рождаются, растут, производят потомство, обладают строением, выделяют секрет, едят». Рак – демоническая беременность. Святой Иероним, должно быть, думал о раке, когда писал: «Alius tumenti aqualiculo mortem parturit» («Тот, со вздутым животом, беременен собственной смертью»). Хотя похудание сопутствует обеим болезням, потеря веса при ТБ воспринимается совершенно иначе, чем при раке. При ТБ человек «снедаем» – он сгорает. При раке в больного «вторгаются» чужеродные клетки и, размножаясь, становятся причиной атрофии или блокады телесных функций. Раковый больной «усыхает» (термин Элис Джеймс) или «съеживается» (термин Вильгельма Райха).
Туберкулез – болезнь времени; он ускоряет жизнь, ярко освещает и одухотворяет ее. Как в английском, так и во французском языке чахотка «скачет галопом». Раку присущ не аллюр, а скорее стадии; это (в конечном итоге) «терминальная» болезнь. Рак действует медленно, коварно: обычный эвфемизм некрологов – смерть «после продолжительной болезни». Всякая характеристика рака содержит указание на его длительность, а потому этот смысловой оттенок вводится во все связанные с раком древние метафоры. «И слово их, как рак, будет распространяться», – писал Уиклиф в 1382 году (переводя фразу из Второго послания к Тимофею, 2:17); среди первых метафор рака встречаются образы «праздности» и «лености»[6]. В метафорическом смысле рак не столько болезнь времени, сколько патология пространства. Его основные метафоры относятся к топографии (рак «распространяется», «метастазирует» или «растекается»; опухоли подвергаются хирургическому «иссечению»), а вызывающее наибольший ужас последствие рака – помимо смерти – это обезображивание или ампутация части тела.
Туберкулез часто изображается как болезнь нищеты и лишений – прохудившейся одежды, изможденных тел, неотапливаемых помещений, негигиеничности, скудной пищи. Нищета может не быть столь буквальной, как чердак Мими в «Богеме»; больная чахоткой Маргарита Готье в «Даме с камелиями» живет в роскоши, но в душе она – отверженная. Напротив, рак – это болезнь среднего класса, болезнь, часто ассоциируемая с изобилием, с переизбытком. В развитых странах самый высокий уровень заболеваемости раком, и растущий процент онкозаболеваний связывается отчасти с богатой жиром и белками пищей, а также с токсичными выделениями промышленной экономики, которая и порождает переизбыток. Лечение ТБ отождествляется со стимулированием аппетита, лечение рака – с тошнотой и потерей аппетита. Недоедающие, которые усиленно питаются – увы, безрезультатно. Переевшие – и неспособные есть.
Считалось, что смена климата может помочь и даже излечить больного чахоткой. Бытовало мнение, что ТБ – «мокрая болезнь», болезнь влажных, сырых городов. Внутренности становились влажными («влага в легких» – одно из популярных некогда изречений) и подлежали «осушению». Доктора рекомендовали поездки в возвышенную, сухую местность – в горы, в пустыню. Но никакая смена окружающей обстановки не могла помочь раковому больному. Битва с болезнью происходила в самом теле. Всё большее распространение получает в настоящее время гипотеза о том, что нечто в атмосфере способствует развитию рака. Но после появления злокачественной опухоли ее развитие невозможно повернуть вспять или остановить, переехав в «более здоровую» (то есть менее канцерогенную) местность.
Говорили, что ТБ относительно безболезнен. Рак же, напротив, сопряжен с ужасными болями. Считалось, что ТБ дарует легкую смерть, в то время как смерть от рака невыразимо мучительна. В течение целого века туберкулез – как возвышающая, изысканная болезнь – придавал смерти смысл. Литература XIX века полна описаниями почти бессимптомных, нестрашных, красивых смертей от туберкулеза – в особенности смертей молодых людей и детей, таких как малышка Ева в «Хижине дяди Тома», сын Домби Пол в «Домби и сыне» и Смайк в «Николасе Никльби», где Диккенс описал ТБ как «страшную болезнь», которая «утончает» смерть:
избавляя ее от всего грубого, <…> где борьба между душой и телом так постепенна, тиха и торжественна, а исход ее столь неизбежен, что день за днем и капля за каплей смертная часть иссякает и отходит, так что дух возносится под своим невесомым бременем[7].
Сравните облагораживающую, безмятежную смерть от ТБ с ужасной, исполненной агонии кончиной отца Юджина Ганта в «О времени и о реке» Томаса Вулфа и больной сестры в фильме Бергмана «Шепоты и крики». Умирающий туберкулезник изображается прекрасным и одухотворенным; больной, умирающий от рака, лишен всех способностей самопроникновения – он раздавлен страхом и агонией.
Таковы контрасты, проистекающие из популярной мифологии обеих болезней. Разумеется, многие туберкулезники умирают в страшных мучениях, а некоторые люди умирают от рака, не ощущая боли почти до самого конца; туберкулезом и раком болеют как бедные, так и богатые; и не каждый больной туберкулезом кашляет. Дело не только в том, что легочный туберкулез – это самая распространенная форма, а в сознании людей ТБ, в отличие от рака, представляет собой болезнь одного органа. Дело еще и в том, что мифы о ТБ не ассоциируются с мозгом, гортанью, почками, трубчатыми костями и иными частями тела, где также может поселиться туберкулезная бацилла, но прекрасно сочетаются с теми традиционными образами (дыхание, жизнь), которые принято отождествлять с легкими.
В то время как ТБ вбирает качества, приписываемые легким, которые относят к телесному «верху», к «одухотворенному» телу, рак часто поражает органы (толстую кишку, мочевой пузырь, прямую кишку, грудь, шейку матки, простату, яички), о которых говорить не принято. Обнаружение опухоли обычно вызывает у заболевшего смутное чувство стыда, однако в иерархии телесных органов рак легкого воспринимается как менее постыдный, чем, например, рак прямой кишки. Еще одна, неопухолевидная форма рака, описывается ныне в популярных романах – раньше монополией на эту тему обладало телевидение – как романтическая болезнь, обрывающая молодую жизнь. (Героиня «Истории любви» Эрика Сигала умирает от лейкемии – «белой» или ТБ-образной формы рака, при которой, в отличие от рака желудка или груди, невозможно калечащее хирургическое вмешательство.) Болезнь легких – это, говоря образно, болезнь души[8]. Рак, способный поразить практически любой орган, – это болезнь тела. Не неся никакого «духовного» смысла, рак означает только то, что тело, к прискорбию, это только тело.
Подобные фантазии пышно расцветают еще и потому, что ТБ и рак воспринимаются как нечто гораздо большее, чем болезни, которые были (или суть) фатальны. ТБ и рак отождествляются с самой смертью. В «Николасе Никльби» Диккенс обращается к ТБ как к
болезни, в которой жизнь и смерть переплетаются так странно, что смерть обретает сияние и краски жизни, а жизнь надевает ужасную маску смерти; болезни, которую никогда не излечивала медицина, от которой никогда не спасало ни богатство, ни бедность…
А Кафка писал Максу Броду в октябре 1917 года, что «пришел к мысли о том, что туберкулез <…> не какая-то конкретная болезнь и не болезнь, заслуживающая особого названия, но зародыш самой смерти…» Рак располагает к похожим размышлениям. Георг Гроддек[9], чьи замечательные мысли о раке в «Книге об ОНО» (1923) предвосхищают слова Вильгельма Райха, писал:
Из всех теорий, связанных с раком, только одна, на мой взгляд, выдержала испытание временем, а именно что рак, посредством строго определенных стадий, ведет к смерти. Под этим я подразумеваю, что все нефатальное не может быть раком. Из этого вы можете заключить, что я питаю мало надежд в отношении новых методов лечения рака <…> [но только] надеюсь на успешное лечение так называемого ложного рака.
Несмотря на все успехи в лечении рака, многие всё еще готовы подписаться под уравнением Гроддека: рак = смерть. Однако метафоры, окружающие ТБ и рак, готовы немало поведать нам о понятии болезни, о том, как оно развивалось начиная с XIX века (когда ТБ был самой распространенной причиной смерти) до наших дней (когда наибольший страх вызывает у людей рак). Романтики по-новому взглянули на смерть сквозь призму туберкулеза, который растворял бренное тело, возносил дух, расширял границы сознания. Связанные с ТБ фантазии позволяли эстетизировать смерть. Торо, болевший туберкулезом, писал в 1852 году: «Смерть и болезнь часто прекрасны, как <…> лихорадочный огонь чахотки». Никто не думает о раке так, как некогда представляли себе ТБ – красочную, подчас лиричную смерть. Рак – редкая и всё еще скандальная тема для поэтов; а эстетизировать рак кажется и вовсе невообразимым.
_3
Самое поразительное сходство между мифами о ТБ и раке состоит в том, что обе болезни воспринимаются – или воспринимались – как болезни страсти. Лихорадка при туберкулезе была признаком внутреннего горения: туберкулезник – тот, кто «чахнет» от страсти, ведущей к растворению его тела. Использование связанных с ТБ метафор любви – образов «болезненной» любви, «поглощающей» страсти – намного старше романтической традиции[10]. Со времен романтиков этот образ был вывернут наизнанку, и ТБ стали воспринимать как разновидность любовной болезни. В душераздирающем письме от 1 ноября 1820 года Китс, навеки разлученный с Фанни Брон, писал из Неаполя: «Если б у меня был малейший шанс излечиться [от туберкулеза], эта страсть убила бы меня». Как объясняет один из героев «Волшебной горы»: «Симптомы болезни не что иное, как скрытая манифестация могущества любви; сама болезнь – это лишь преображенная любовь».
Подобно тому как некогда считалось, что ТБ происходит от чрезмерной страсти, обрушивавшейся на людей безрассудных и чувственных, так и сегодня многие полагают, что рак – болезнь недостаточной страстности, поражающая тех, кто не раскрепощен сексуально, скован, не импульсивен, не способен давать волю гневу. По сути, эти кажущиеся взаимоисключающими диагнозы – весьма схожие и не заслуживающие, на мой взгляд, особого доверия вариации на одну тему. Очевидно, что в психологических портретах обеих болезней подчеркивается недостаточность или скованность жизненных сил. Ведь в той же мере, в какой ТБ превозносили как болезнь страсти, его также считали болезнью подавленности. Надменный герой «Имморалиста» Андре Жида заражается ТБ (что отражает восприятие Жидом его собственной жизни) из-за того, что подавляет свою истинную сексуальную природу; приняв Жизнь, Мишель выздоравливает. Следуя тому же сценарию, сегодня Мишелю следовало бы заболеть раком.
Как рак считается теперь расплатой за скованность, так ТБ некогда воспринимался как разрушительное следствие разочарования. Если сегодня в качестве профилактики рака некоторые рекомендуют так называемый свободный секс, то в тех же терапевтических целях секс часто предписывали больным туберкулезом. В «Крыльях голубки»[11] доктор советует Милли Тиль завести любовную связь в качестве лекарства от чахотки; а умирает она как раз тогда, когда узнает, что ее двуличный ухажер, Мертон Деншер, тайно помолвлен с ее подругой Кейт Крой. В письме, датированном ноябрем 1820 года, Китс восклицает: «Мой дорогой Браун, мне следовало завоевать ее, когда я был здоров, и я бы остался здоров».
Согласно мифологии ТБ, приступ чахотки обычно бывает спровоцирован неким страстным чувством, которое к тому же находит в болезни свое выражение. Но страсть должна быть отвергнута, надежды – раздавлены. Сама же страсть – чаще всего любовная – может тем не менее иметь политическую или моральную природу. В конце тургеневского «Накануне» (1860) герой романа Инсаров, молодой болгарский революционер, живущий в изгнании, осознает, что не сможет вернуться на родину. В одном из венецианских отелей его охватывает тоска, он заболевает чахоткой и умирает.

