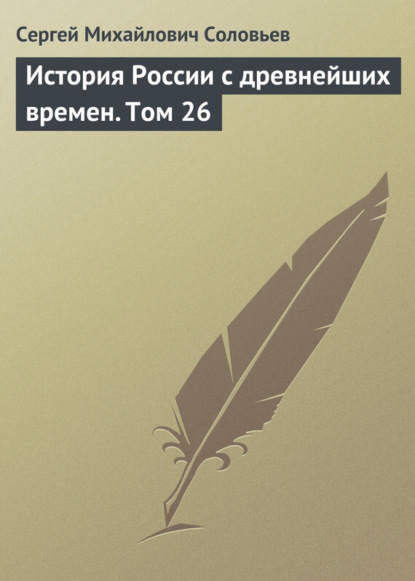 Полная версия
Полная версияИстория России с древнейших времен. Том 26
В начале 1766 года Порошин вдруг был удален от двора великого князя и получил приказание отправиться на службу в Малороссию. В письме Фон-Визина к сестре находится приписка: «Порошин удален от двора за невежливость, оказанную им девице Шереметевой». Вот все, что мы знаем о предлоге удаления. В страшной, неожиданной беде, которая отнимала у него все будущее, все будущее его семейства, пятнала бесчестною опалою, прогнанием от двора, Порошин обратился с просьбою о защите к графу Григор. Григор. Орлову, о недоброжелательстве которого к Панину постоянно твердили современники. Но Орлов, несмотря на всю свою силу, не мог ничего сделать. Панин в это время пользовался неограниченным доверием императрицы, она считала его непогрешительным и потому необходимым в делах внешней политики и не могла позволить сделать ему какую-нибудь неприятность. Мы видели отношения Екатерины к Панину в письме ее к нему по поводу письма Станислава Понятовского к Фридриху II о таможне. Приведем еще любопытный документ. Русский посол в Варшаве князь Репнин в письме своем к Панину изъявлял беспокойство по поводу какой-то неизвестного рода опасности, грозившей Панину. Последний отвечал ему (12 февраля 1765 г.): «Я сколь сердечно чувствую ваше дружеское обо мне смятение, столь и сожалею, что скаредный случай известного лекаря вам оное воспричинствовал. Пожалуй, мой друг сердечный, будь спокоен и уверен, что все, кроме моего презрения, ничего не заслуживает». Екатерина приписала к этим строкам: «А я, Екатерина, говорю, что Панину бояться ничего» (т. е. бояться нечего). Никита Иванович в приятном убеждении, что ему бояться нечего, позабыл об императорском совете и однажды, когда говорили о казни Лопухиных, также о временах Анны Иоанновны, делал такую рефлекцию, что «ежели бы и теперь их братьи боярам дать волю и их слушаться, то б друг друга и нынче сечь и головы рубить зачали. И так в иных строгостях винили министерство».
Несмотря на то что Орлов не мог ничего сделать для Порошина, тот полагал на него большую надежду в будущем и перед отъездом писал ему: «Хотя по великодушному и милостивому вашего сиятельства за меня заступлению желаемого ныне и не последовало, но благодарность моя за ваши ко мне благодеяния столь же велика, как бы я и получал все, о чем ваше сиятельство предстательствовали. Я более утруждать ее императорское величество уже не осмеливаюсь. Конечно, я прежними повторительными за меня великодушных людей прошениями еще больший гнев на себя обратил… Клянуся сердцеведцем Богом и честию, что, кроме моего проступка, о коем ваше сиятельство ведать изволите, ни малейшего преступления за собой не знаю; а видно, что по каким-либо внушениям донесено ее величеству что-нибудь большее… Вы великодушным своим предстательством, хотя несколько времени спустя, доставить можете возмущенному моему духу спокойство. Не предайте меня забвению».
На дороге к месту нового назначения, в Москве, 3 мая Порошин написал другое письмо к Орлову: «Имея ныне верный случай писать, не мог я преминуть, чтоб не писать к вашему сиятельству. Перемена моего состояния, будучи мне столь тягостна и чувствительна, беспрестанно побуждает меня озираться на прошлые дела свои и разбирать, какие б между ими могли быть причиною сего несчастного в жизни моей происшествия. Вижу и слышу, что о поступках моих при государе цесаревиче сделано такое описание, от коего теперь я стражду; размышляя о них, сужу себя без всякого самолюбия и потворства и, повторя стократно грустное таковое упражнение, не нахожу ничего, что б могло служить к моему предосуждению. С самого моего вступления ко двору его императорского высочества обратил и посвятил я на то все свои силы, чтоб быть государю великому князю полезным и тем бы, сколько от меня зависело, споспешествовать высокоматерним намерениям ее императорского величества и сладчайшему упованию всего российского общества. При его высочестве служил я около четырех лет. Во все сие время был при нем почти безотлучно и с ущербом собственных своих забав и удовольствий, на которые влекли меня и лета мои, и бесчисленные случаи, старался не упустить из виду оного своего предмету. По сему побуждению испросил я сам для себя должность, чтоб предлагать государю великому князю нужные для военного искусства математические науки, писал для его высочества особый курс, в котором заключались: арифметика, геометрия, начальные основания механики и гидравлики, фортификация с атакою и обороною крепостей, артиллерия и правила тактики. Арифметику государь великий князь всю почти с доказательствами у меня окончил и в геометрии сделал начало. Оный курс намерен я был вместе с учебными математическими тетрадями руки его высочества поднесть ее императорскому величеству. Кроме сего приуготовлял я сочинение, названное мною „Государственный механизм“. В оном хотелось мне для его высочества вывесть и показать разные части, коими движется государство, изъяснить, например, сколько надобен солдат, сколько земледелец, сколько купец и проч. и какою кто долею споспешествует всеобщему благоденствию, что не может государство быть никоим образом благополучно, когда один какой чин процветает, а прочие в небрежении. Расположение сего сочинения было уже у меня и сделано. Оным же главным своим намерением упражняясь, начал я с некоторым человеком (Платоном?), почтенным от всех за его учение и преизящные дарования, переписку о разных нравоучительных и исторических материях, которую сбирались мы напечатать и поднесть его высочеству. Сверх всего сего, ведая, что в детских его высочества летах не всегда приятно и весело слушать формально предлагаемые истины и знания, старался вмешивать и доводить до него оные, сколько смыслил, во всех моих повседневных с ним обращениях и разговорах, иногда так, чтоб и самому его высочеству то неприметно было, дабы не навесть скуки и отвращения. В таковых случаях кроме всяких исторических сведений и анекдотов, кроме многих правил о красоте российского языка, которые нечувствительно тщился я подавать государю цесаревичу, наблюдал, чтоб в его высочестве осталось за закон и основание, чтоб рассматривать и отличать прямые достоинства, не ослепляясь блистательною и часто обманчивою наружностью, чтоб любить народ российский, отдавая потом справедливость каждому достойному из чужестранных, чтоб тверду и непоколебиму быть в глубоком почтении туды, куды оным его высочество должен. Во всех таковых своих упражнениях то имел за единственное себе ободрение и утешение, чтоб заслужить со временем высочайшее благоволение всемилостивейшей и премудрой самодержицы. Теперь истинно не могу удержать слез своих, что посреди такового тихого и, как бы казалось, не непохвального течения ввержен в наилютейшее беспокойство, приведен под гнев у ее императорского величества. Удар сей тем мне несноснее, что поражен им внезапно и нечаянно и по оному своему поведению мог ли ожидать того, примите в милостивое рассуждение! Правда, что и прежде сего по оным всегдашним моим с государем цесаревичем обращениям, будучи я от его высочества почтен особливою склонностью и милостию, видел, что то завистливому невежеству неприятно было, и принужден был сносить иногда от оного некоторые притеснения, кои, однако ж, презирал я и ни во что ставил. Случилось, например, некогда, что его высочество, уверяя меня с отменною горячностию, что он меня жалует, услышал, что я ему говорю, что тому не верю, потому что изволит говорить, что жалует, а когда в излишности его увеселений или в невнимании при ученьи уговаривать станешь, так иногда не изволит и слушать. Сам государь великий князь так был тронут, что изволил дать мне слово, чтоб всегда меня слушаться. И подлинно, долгое время от сего успех я видал: как скоро об оном потом договоре напомяну ему, то, верно, изволит послушаться и отстать от той неприличности, в коей его оговаривал. Сие безвинное и почти шуточное для его ж высочества пользы положенное условие было перетолковано так, что будто я хочу, чтоб только великий князь меня одного слушался, и мне б только следовал, и, одним словом, чтоб делал все то только, чего я ни захочу. Были тут прибавлены и другие тому подобные перетолки и низости, какие только маленький и темный дух-пакостник вымыслить может. Но о всем том тогда ж изъяснялся я с его высокопревосходительством нашим главнокомандующим, и он изволил мне тогда дать знать, что входит в мои изъяснения. А ныне что такое на меня взведено, ей-ей, обстоятельно ни от кого не слыхал и клянусь вашему сиятельству честью и всем, что есть святого на свете, что ничего не знаю. Защитите меня, милостивый государь, многомощным ходатайством вашим. Лишенному всего, ваше сиятельство, можете все доставить и тем обязать меня навеки. Невинность моя за меня будет вам поборствовать. На вас, милостивый государь, единственная моя несомненная надежда. Несчастием своим гублю я своих родителей, гублю сестер своих и брата, кои от меня только всей себе помощи ожидали. Войдите в бедственное мое состояние. На сих днях поеду я в Ахтырку. Но откуда б не могла достать меня помощная рука ваша?»
В правителе Малороссии Румянцеве Порошин встретил человека, который сумел оценить его способности. В 1768 году он был назначен командиром Старооскольского пехотного полка, с которым в следующем году выступил в поход против турок; в этом походе Порошин заболел. Болезнь была незначительна, как вдруг пришло известие, что вторая армия, к которой принадлежал Старооскольский полк, переходит под начальство Петра Ив. Панина. Это известие поразило Порошина как громом, он потерял память, так что когда Румянцев приехал к нему проститься перед отъездом, то больной после спрашивал брата, что граф с ним говорил. Вскоре после этого Порошина не стало. Исчез один из самых светлых русских образов второй половины XVIII века; начато было хорошее слово, хорошее дело и порвано в самом начале.
В «Записках» Порошина встречаем отзывы о современных деятелях русского просвещения. Ломоносов занимает первое место. «Говорил я его высочеству, – записал Порошин, – что это стихотворец веку блаженные памяти бабки его Елисаветы Петровны. Дай Боже, продолжал я, чтоб в век вашего высочества такие были. Эдакие люди не растут, как грибки из земли: надобно для того хорошие учреждения, одобрение и покровительство. А голов годных много в России, хотя такие головы, как Ломоносова, и реденьки несколько». В последние шесть лет царствования Елисаветы Ломоносов принимал деятельное участие в управлении Академиею и учреждениями, входившими в ее состав. В 1757 году он был назначен присутствующим в Академической канцелярии вместе с Шумахером; но так как последний был уже стар и дряхл, то в товарищи Ломоносову назначен был еще унтер-библиотекарь Тауберт, зять Шумахера. Тауберт, так же как и тесть его, смотрел на свое место только со стороны его выгоды, и потому у него немедленно же начинается борьба с Ломоносовым, который вел ее с обычною своею страстностию. Ломоносов потребовал необходимых преобразований, указывал на то, что Академия загромождена бесполезными ремесленными заведениями, а учреждения необходимые в упадке. Он писал: «Для умножения книг российских, чем бы удовольствовать требующих охотников, недостает станов, переводчиков, а больше всего, что нет российского собрания, где б обще исправлять грубые погрешности тех, которые по своей упрямке худые употребления в языке вводят. Университет и гимназия весьма в худом состоянии и требуют, чтоб канцелярия больше к ним прилежала». Намекая на Шумахера и Тауберта, Ломоносов продолжал: «В канцелярии желающие рекомендовать себя художествами, то есть за великий мерит почитающие то, когда чужих трудов что-нибудь поднесут знатным людям, сии всякими мерами желают и стараются науки унизить, говоря: 1) что университет здесь (в Петербурге) не надобен и что все до того надлежащее уступить Московскому университету; 2) такое недоброхотное мнение делом оказалось, когда лучшие ученики из гимназии в Монетную канцелярию отданы были». Ломоносов добился, что средства гимназии были усилены; но тщетно настаивал, чтоб все диссертации переводить на русский язык и на нем печатать. «Через сие, – писал он, – избежим роптаний и общество российское не останется без пользы. И сверх того, студенты, коих я на то назначу, будут привыкать к переводам и сочинениям диссертаций с профессорских примеров». Составляя устав и штат университета и гимназии, Ломоносов полагал иметь 60 гимназистов и 30 студентов; против этого возражали Тауберт и академик Фишер. Ломоносов так описывал свой спор с ними: «Фишер, приняв Таубертовы советы, спорил против числа студентов и гимназистов, точно его слова употребляя: „Что куда-де столько студентов и гимназистов? Куда их девать и употреблять будет?“ Сии слова часто твердил Тауберт Ломоносову в канцелярии, и хотя ответствовано, что у нас нет природных россиян ни аптекарей, да и лекарей мало, также механиков искусных, горных людей, адвокатов и других ученых и ниже своих профессоров в самой Академии и в других местах, но, не внимая сего, всегда твердил и другим внушал Тауберт: „Куда со студентами?“ Ломоносов добился, что президент Академии Разумовский, конечно под влиянием И. И. Шувалова, поручил „учреждение и весь распорядок университета и гимназии одному Ломоносову по сочиненным от него регламентам“; и в начале 1760 года было объявлено в „Ведомостях“, что граф Разумовский втрое умножил число содержащихся на казенном счету гимназистов, а потому родители приглашаются отдавать своих детей для определения к гимназическим наукам. Удаляя инспектора гимназии Модераха, в котором „не усмотрев более охоты заботиться о молодых людях“, Ломоносов высказал мнение, что „инспектором должен быть: 1) природный россиянин для того, чтобы, во-первых, имел о учащихся усердное попечение, как о своих свойственниках или детях; 2) чтобы главный командир больше имел повиновения и не всегда бы чинил для малейших причин отговорки, ссылаясь на свой контракт и угрожая требованием абшида (увольнения); 3) чтобы, зная российский язык и обряды совершенно и быв сам здешним и в чужих краях студентом, знал бы с порученными ему поступать с умеренною строгостью“.
29 апреля 1757 года именным указом велено находящихся как в Петербурге, так и в Москве в частных домах иностранных учителей в их науках свидетельствовать и экзаменовать в Петербурге в Десьянс-академии, а в Москве в императорском университете и без такого свидетельства и аттестатов никому в домы не принимать и до содержания школ не допускать. Ломоносов нашел, что в Десьянс-академии испытания производятся слабо, и предписал экзаменовать строже.
Но при этой деятельности советника Академической канцелярии продолжалась деятельность ученая и литературная. В 1756 году Ломоносов в публичном собрании Академии говорил на русском языке «Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее», Более значения специалисты приписывают последующим его трудам: «Слову о рождении Металлов от трясения земли» (1757 года), в котором находят драгоценные замечания, и «Рассуждению о большей точности морского пути» (1759 года). В том же 1759 году Ломоносов исходатайствовал у Сената рассылку по всем губерниям составленных им вопросов для собрания географических известий о России. Нельзя оставить без внимания, что Ломоносов два раза предлагал послать хорошего живописца в старинные русские города, «чтоб имеющихся в церквах изображений государских иконописною и фресковою работою, на стенах или гробницах состоящих, снять точные копии величиною и подобием. А сие учинить бы для того: 1) дабы от съедающего времени отнять лики и память наших владетелей и сохранить для позднейших потомков; 2) чтобы показать и в других государствах российские древности и тщание предков наших; 3) чтоб Санкт-Петербургская Академия художеств имела случай употребить свое искусство, как бы изобразить их надлежащею живописью в приличных положениях со старинного манеру, не теряя подлинного подобия». В последний год елисаветинского царствования по поводу прохождения Венеры чрез Солнце Ломоносов написал сочинение об этом явлении, где первый указал на существование атмосферы около Венеры.
Литературная деятельность Ломоносова выражалась по-прежнему в одах на торжественные случаи, важных для нас по указанию на современные события. Так, в оде 1757 года на день рождения великой княжны Анны Петровны Ломоносов говорит о борьбе двух союзных императриц против Фридриха II: «Присяжны преступив союзы,/ Поправши нагло святость прав,/ Царям повергнуть тщится узы/ Желание чужих держав./ Творец, воззри в концы вселенны,/ Воззри на земли утесненны,/ На помощь страждущим восстань,/ Позволь для общего покою/ Под сильною твоей рукою/ Воздвигнуть против брани брань./ Сие рекла Елисавета…/ Противные страны трепещут,/ Вопль, шум везде, и кровь, и звук,/ Ужасные перуны мещут/ Размахи сильных росских рук./ О ты, союзна героиня/ И сродна с нашею богиня!/ По вас поборник вышний Бог./ Он правду вашу защищает,/ Обиды наглые отмщает,/ Над злобою возвысил рог».
В той же оде Ломоносов не прямо благодарит Елисавету за назначение советником Академической канцелярии: «Правители, судьи внушите,/ Услыши вся словесна плоть,/ Народы с трепетом внемлите:/ Сие глаголет вам Господь:/ Храните праведны заслуги / И милуйте сирот и вдов;/ Сердцам нелживым будьте други/ И бедным истинный покров;/ Присягу сохраняйте верно,/ Приязнь к другим нелицемерно;/ Отверзите просящим дверь;/ Давайте страждущим отраду,/ Трудам законную награду,/ Взирайте на Петрову дщерь».
Успехи русского оружия в Семилетней войне, разумеется, должны были найти глашатая в Ломоносове, но, входя совершенно в настроение духа своей героини, он заставляет Елисавету после побед молить Бога мира о мире: «Парящей слыша шум орлицы,/ Где пышный дух твой, Фридерик?/ Прогнанный за свои границы,/ Еще ли мнишь, что ты велик?/ Еще ль, смотря на рок саксонов,/ Всеобщим дателем законов/ Слывешь в желании своем?/ Лишенный собственные власти,/ Еще ль стремишься в буйной страсти/ Вселенной наложить ярем?../ Чтоб жить союзникам свободным,/ Жалея, двигнулась войной,/ Узрев растерзанны союзы,/ Наверженные скиптрам узы,/ Рекла: как злых не укрочу?/ Алчбе их света недостанет:/ Пускай на гордых гнев мой грянет!/ О честь российского народа,/ В дни наши воинов пример,/ Что силой первого похода/ Двукратно сопостатов стер!/ (Солтыков) Тебе тот лавры уступает,/ Кто прочим храбро исторгает,/ Кто вне привыкнул побеждать;/ При дверях дом свой защищая/ И крайне силы напрягая,/ Не мог против тебя стоять…/ С верхов цветущего Парнаса,/ Смотря на рвение сердец,/ Мы ждем желаемого гласа:/ Еще победа – и конец,/ Конец губительные брани!/ О Боже, мира Бог, восстани,/ Всеобщу к нам любовь пролей,/ По имени Петровой дщери/ Военны запечатай двери,/ Питай нас тишиной твоей!/ Иль мало смертны мы родились,/ И должны удвоять свой тлен?/ Еще ль мы мало утомились/ Житейских тягостью бремен?/ Воззри на плач осиротевших,/ Воззри на слезы престаревших,/ Воззри на кровь рабов твоих!/ К тебе, любовь и радость света,/ В сей день зовет Елисавета;/ Низвергни брань с концов земных!»
Когда дни Елисаветы были уже сочтены, когда в последний раз праздновалось восшествие ее на престол, раздалась последняя ода Ломоносова – «Дщери Петровой». В последний раз достойным образом он высказал значение знаменитого царствования, заставив Елисавету говорить при восшествии своем на престол: «На отческий престол всхожу/ Спасти от злобы утесненных/ И щедрой властью покажу/ Свой род, умножу просвещенных./ Моей державы кротка мочь/ Отвергнет смертной казни ночь,/ Владеть хочу зефира тише».
Верно и очень поэтично выставляет здесь Ломоносов войны:
«Необходимая судьба/ Во всех народах положила,/ Дабы военная труба/ Унылых к бодрости будила,/ Чтоб в недрах мягкой тишины/ Не зацвели водам равны,/ Что в круг защищены горами,/ Дубровой, неподвижны спят/ И под ленивыми листами/ Презренный производят гад./ Война плоды свои растит,/ Героев в мир рождает славных,/ Обширных областей есть щит,/ Могущество крепит державных./ Воззри на древни времена:/ Российска повесть тем полна».
Но если война имеет такое значение, то все ж и Елисавета «…в сердце держит сей совет\ Размножить миром нашу славу;\ И выше, чем военный звук\ Поставить красоту наук».
К концу царствования Елисаветы Ломоносов окончил часть задачи, которую он сам и другие лучшие люди представляли священною и славною обязанностию первого таланта времени; написаны были две первые песни поэмы «Петр Великий». Вместе с этою обязанностию Ломоносов хотел выполнить и другую – отблагодарить И. И. Шувалова, которому посвятил поэму и под посвящением подписал 1 ноября, день рождения мецената. Сомнение, будет ли окончена поэма, естественно, должно было закрадываться в грудь Ломоносова, и потому он говорит между прочим в посвящении: «И если в поле сем прекрасном и широком/ Преторжется мой век недоброхотным роком,/ Цветущим младостью останется умам,/ Что мной проложенным последуют стопам./ Довольно таковых родит сынов Россия,/ Лишь были б завсегда защитники такие,/ Каков ты промыслом в сей день произведен,/ Для счастия наук в отечестве рожден».
В это время Виргилиева «Энеида» служила образцом или, лучше сказать, правилом для эпических поэм. Вольтер в своей «Генриаде» заставляет героя поэмы Генриха Наварского ехать в Англию, чтоб рассказать королеве Елисавете историю религиозной борьбы во Франции, как Эней рассказывает Дидоне о разрушении Трои. Неудивительно, что и в поэме Ломоносова Петр, претерпевши бурю, рассказывает соловецкому архимандриту о стрелецких бунтах. Но у знаменитого помора было тут еще другое побуждение: ему хотелось привести своего героя на берега родного Северного моря и вложить в его уста пророчество о будущем великом значении этого моря: «Тогда пловущим Петр на полночь указал,/ В спокойном плаваньи сии слова сказал:/ Какая похвала российскому народу/ Судьбой дана пройти покрыту льдами воду!/ Хотя там, кажется, поставлен плыть предел;/ Но бодрость подают примеры славных дел./ Полденный света край обшел отважный Гама/ И солнцева достиг, что мнила древность храма./ Герои на морях Колумб и Магеллан,/ Коль много обрели безвестных прежде стран!/ Подвигнуты хвалой, исполнены надежды,/ Которой лишены пугливые невежды,/ Презрели робость их, роптанье и упор,/ Что в них произвели болезни, голод, мор./ Иное небо там и новые светила,/ Там полдень в севере, ина в магните сила./ Бездонный океан травой, как луг, покрыт;/ Погибель в ночь и в день со всех сторон грозит./ Опасен вихрей бег, но тишина страшнее,/ Что портит в жилах кровь свирепых ядов злее,/ Лишает долгий зной здоровья и ума./ А стужа в севере ничтожит вред сама./ Сам лед, что кажется толь грозен и ужасен,/ От оных лютых бед даст ход нам безопасен./ Колумбы росские, презрев угрюмый рок,/ Меж льдами новый путь отворят на Восток,/ И наша досягнет в Америку держава».
Сильный ум, развитой самою многообразною деятельностию, не мог не останавливаться на разных поразительных общественных явлениях, а сильное патриотическое чувство заставляло ум искать средств для устранения зла в родной стране. Этим объясняется письмо Ломоносова к И. И. Шувалову о размножении и сохранении российского народа, которое должно было быть только первым из 8 писем, относящихся к разным подобным предметам; но, к сожалению, до нас дошло одно это первое письмо. В описываемое время в литературе Западной Европы шли сильные толки о необходимости умножения народонаселения: Это, разумеется, не могло остаться без влияния на русских читающих людей, тем более что в России эти толки имели полную законность: с начала русской истории обширность страны и относительная ничтожность народонаселения полагали сильное препятствие общественному развитию и важным государственным мерам. Екатерина под влиянием взглядов, господствовавших в западной литературе и находивших сильный отголосок в России, дошла до того, что считала нужным охранение магометанства на окраинах, ибо эта религия, дозволяя многоженство, способствует усилению народонаселения. Ломоносов до этого не дошел, но готов был требовать от русской церкви чрезвычайных мер, которые, по его мнению, способствовали размножению и сохранению народонаселения. Для нас теперь сочинение Ломоносова особенно важно по указанию на некоторые обычаи. Так, Ломоносов указывает на вредный обычай женить мальчиков на взрослых девицах, так что часто жена могла быть по летам матерью мужа; потом супружество насильное: ибо, где любви нет, ненадежно и плодородие. Для той же цели умножения народонаселения Ломоносов считает нужным разрешение четвертого и даже пятого брака, разрешение духовенству второго брака и запрещение молодым постригаться в монахи. Очень живо описывает Ломоносов вред от невоздержания во время заговенья и разговенья: «Паче других времен пожирают у нас Масленица и Св. неделя великое множество народа одним только переменным употреблением питья и пищи. Легко рассудить можно, что, готовясь к воздержанию Великого поста, во всей России много людей так загавливаются, что и говеть времени не остается. Мертвые по кабакам, по улицам и по дорогам и частые похороны доказывают то ясно. Разговенье тому ж подобно. Приближается Светлое Христово Воскресение, всеобщая христианская радость; тогда хотя почти беспрестанно читают и многократно повторяются страсти Господни, однако мысли наши уже на Св. неделе. Наконец, заутреню в полночь начали и обедню до свету отпели. „Христос воскресе!“ только в ушах и на языке, а в сердце какое ему место, где житейскими желаниями и самые малейшие скважины все наполнены. Как с привязу спущенные собаки, как накопленная вода с отворенной плотины, как из облака прорвавшиеся вихри – рвут, ломят, валят, опровергают, терзают; там разбросаны разных мяс раздробленные части, разбитая посуда, текут пролитые напитки; там лежат без памяти отягченные объедением и пьянством; там валяются обнаженные и блудом утомленные недавние строгие постники. Неоспоримое есть дело, что неравное течение жизни и круто перемененное питание тела не только вредно человеку, но и смертоносно, так что вышеписаных строгих постников, притом усердных и ревностных празднолюбцев, самоубийцами почесть можно».



