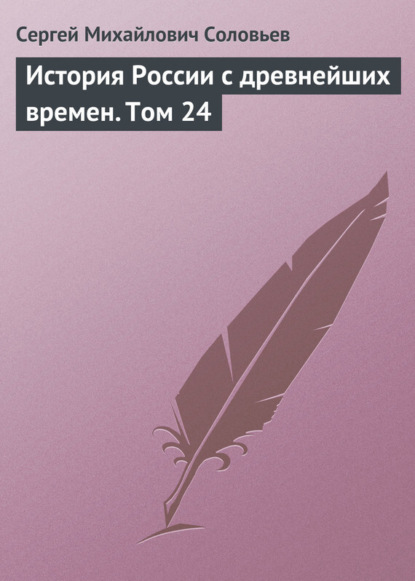 Полная версия
Полная версияИстория России с древнейших времен. Том 24
От 7 сентября Голицын донес о разрыве мирных переговоров между Франциею и Англиею; от 25 сентября уведомил о выходе Питта из министерства и о разговоре своем с графом Бютом по этому случаю. «Хотя нельзя не жалеть, – говорил Бют, – что этот министр, необыкновенно даровитый и оказавший своему королю и отечеству великие услуги, оставил службу при таких критических обстоятельствах, однако, с другой стороны, это было неминуемо по его крайнему честолюбию и властолюбию, по привычке его в продолжение пяти лет всеми повелевать и приводить в исполнение свои мнения без малейшего прекословия. Я по вступлении своем в министерство всячески старался быть с ним в согласии; но наконец, при последних обстоятельствах я принужден был не только поразниться с ним в мнениях, но и с крайнею твердостию держаться своих мнений. Видя, что остальные министры с ним несогласны, и насчитывая мало друзей в парламенте, Питт заблагорассудил выйти из министерства». Донося об этом разговоре, Голицын писал: «Выход из министерства Питта должно приписывать одному графу Бюту: он с нетерпением и немалою завистию смотрел на властолюбие и блестящие качества Питта, и все враги последнего беспрестанно раздували пламя несогласия между ними. И я в силу высочайшего наставления, данного мне, старался с крайним усердием этому же содействовать, внушая графу Бюту, что пока Питт будет оставаться в министрах, то вся честь и слава за счастливые для Англии события будет принадлежать ему одному в предосуждение другим министрам. Я уже с некоторого времени мог замечать добрый успех моих внушений, однако никогда не мог ожидать, чтоб перемена могла произойти так скоро. Перемена эта важна и полезна для общего дела, потому что, во-1), преемник Питта граф Эгремонт не имеет нисколько достоинств своего предшественника; во-2), известное усердие Питта к интересам короля прусского и непреодолимая ненависть его ко Франции и ко всем тем, кто при настоящих обстоятельствах ей доброхотствует, в графе Эгремонте не замечаются; в-З), надобно ожидать без Питта в парламенте большого сопротивления министерству: требования, денег на войну и на субсидии встретят большие препятствия».
В начале декабря, уведомляя свой двор о предстоящей войне Англии с Испаниею, Голицын изъявлял «раболепную радость», что благодаря этой новой войне Англия уже не будет обращать большого внимания на германскую войну и король прусский не получит от нее сильной помощи.
Но кроме Англии в Петербурге береглись, чтоб ближайшие державы – Швеция, Польша, Турция и Дания – не оказали какой-нибудь помощи королю прусскому. Граф Остерман начал год донесениями о шведском сейме: по этим донесениям выходило, что нельзя было опасаться выхода Швеции из союза, нельзя было опасаться и восстановления в Швеции самодержавия, хотя члены противной Сенату партии толковали, что в прошедший сейм власть королевская была так ослаблена, что Сенат ни о чем больше не думал, как о превращении монархической формы в аристократическую; но это стремление наносит Швеции страшный вред, и они при нынешнем сейме намерены противиться ему всеми силами и будут стараться ввести Сенат в предписанные ему пределы. Когда французский посол объявил Остерману о мирных предложениях, сделанных Франциею союзникам, в том числе и Швеции, то Остерман обратился к Гепкину с вопросом, не сделано ли при этом намеков и о мирных условиях. Гепкин отвечал, что пока еще не сделано, но потом на словах по секрету сообщил ему, что если Швеция согласится на мир, то посол уполномочен подать другой мемориал, где будет предложено, не заблагорассудит ли Швеция отказаться от прежде обещанного земельного вознаграждения и удовольствоваться уплатою всех военных убытков. Но любопытно, что, по донесению Остермана, в высших стокгольмских кругах указывали именно на те мирные условия, на каких впоследствии действительно заключен был мир всеми воюющими державами, т. е. что прусские владения останутся нетронутыми, как были до начала войны. Как будет принято французское предложение, в какой форме дан будет ответ на него – это, разумеется, зависело от отношений между партиями, которых было четыре: первая – сенатская, преданная Франции; вторая – партия полковника Пехлина, который, отстав от первой партии, соединил около себя всех тех, которые получили от правительства какое-нибудь неудовольствие; Пехлин человек хитрый и, будучи употреблен в прошедший сейм французскою партиею для раздачи денег, знает все бывшие тогда интриги, и это знание употребляет он теперь против французской партии; третья – старая русская партия, известная под именем Ночных Колпаков; четвертая – преданная двору. Три последние партии на сейме составляли одну, потому что все одинаково действовали против Сената и в своем соединении представляли большинство, хотя во всем остальном они между собою совершенно несогласны. В шведском ответе на французскую декларацию говорилось, что Швеция очень рада вступить в мирные переговоры; король желает скорого мира, если он может его заключить согласно своему достоинству и верности, с какою постоянно сохраняет свои обязательства к союзникам.
Между тем сенатор Гепкин вследствие сильного неудовольствия против него на сейме должен был отказаться от заведования иностранными делами, что было очень неприятно Остерману, который надеялся через него узнавать многое, тогда как преемник его граф Экеблатт был в полной зависимости от французского посла. Свой двор Остерман опять должен был успокаивать относительно слухов о восстановлении самодержавия в Швеции: эти слухи пришли в Петербург от Корфа из Копенгагена. Остерман писал, что это дело невероятное, и прежде всего потому, что король не пользуется народною любовию, а королева, по ее нраву, – еще менее и всем известно, что король во всем слушается королевы. Слух пущен нарочно французским послом в Стокгольме Давренкуром и датским – Шаком, которые вместе употребляют все средства, чтоб спасти своих друзей, членов сенатской партии, и распространили вести, что придворная партия затевает что-то против шведской вольности.
Когда в Стокгольм был доставлен русский ответ на французскую декларацию о мире, то король поручил своему министру в Петербурге барону Поссе обнадежить русское правительство, что Швеция относительно мира не будет ничего делать без общего согласия и не оставит требовать совета императрицы; но Остерман дал знать своему двору, что в будущую кампанию нельзя ожидать от Швеции сильных действий по недостатку денег, по неисправности платежа французских субсидий, по явному неудовольствию народа, зачем начата была война, по сильному желанию прекратить убыточную войну, до начала которой армия состояла из 32000 человек, а теперь в Померании и с больными было не более 18000; хотя набор рекрут и был решен и они собраны, но без денег нельзя было их обмундировать и перевезти в Померанию.
В конце июля Остерман сообщил об усилении французской партии, которой еще прежде удалось деньгами склонить Пехлина на свою сторону. Но дворянское собрание выключило Пехлина из своей среды, несмотря на все усилия и денежные раздачи французской партии. Споры о Пехлине едва не повели к драке. Донося об этом, Остерман писал: «Я с своей стороны в таких критических обстоятельствах в разговорах своих, не вступая в их распри, стараюсь им внушать тишину и доброе согласие». На это Воронцов замечает: «Чтоб и впредь в подобных внутренних шведских делах разумную осторожность имел и отнюдь ни в чем не мешался». Несмотря на то, Остерман предложил своему двору пенсиею и обещанием защиты привлечь на свою сторону сенатора Гепкина как человека, очень влиятельного по своему уму.
От 21 декабря Остерман уведомил, что Экеблатт объявил ему именем королевским, что война становится для Швеции страшно тяжка и король желает усугубить все способы к возобновлению общих мирных переговоров. К этому Остерман прибавлял, что шведский народ до такой степени наскучил войною, что Россия, по крайней мере письменными декларациями, не должна подавать вида, что хочет принудить Швецию к продолжению войны, ибо в противном случае Франция всю ненависть шведов обратит на Россию.
В Польше русский посланник Воейков по-прежнему старался помешать сношениям Пруссии с Турциею; в январе он писал, что опять домогался у графа Брюля, нельзя ли каким-нибудь тайным образом схватить прусского курьера; Брюль по-прежнему обнадеживал, что употребляются для этого всевозможнейшие способы, а зять его гpaф Мнишек говорил: «Мы имеем достоверные известия, что прусские курьеры, переодетые то в польское, то в волошское платье, препровождаются стараниями кастеляна краковского графа Понятовского и воеводы русского князя Чарторыйского чрез их имения, которые доходят до самых молдавских границ». Воейков заявил Брюлю, что у него 1000 червонных, назначенных на перехват прусских курьеров; но Брюль отвечал, что деньгами трудно что-нибудь сделать, потому что преданные прусскому королю вельможи посылают провожать курьеров большие отряды войска; не лучше ли для этого употребить русские отряды под предводительством искусного офицера, который бы явился в Польшу под предлогом закупки провианта для армии. Но этот способ с русской стороны признан еще более трудным.
Относительно собственно польских дел Воейков донес о любопытном разговоре своем с епископом краковским Солтыком. Епископ объявил ему, что уезжает из Варшавы и долго не возвратится благодаря французскому послу маркизу де Поми, который мешается во все дела и производит сильную смуту; граф Брюль сначала противился ему, а потом ловкий француз с помощию дочери Брюля графини Мнишек успел совершенно овладеть Брюлем, так что тот начал во всем его слушаться, несмотря на предостережения зятя своего Мнишка и его, бискупа. Это, говорил Солтык, очень вредно для республики на будущее время ввиду старости короля. Французы хотят усилить свою партию, чтоб доставить корону принцу Ксаверию, второму сыну короля Августа, вполне преданному Франции; граф Брюль поддерживает принца Ксаверия, потому что старший сын короля, наследный принц саксонский, к нему нерасположен. Граф Мнишек в дружеском разговоре с Воейковым также высказал свое неудовольствие против французского посла, который успел обмануть и тестя его графа Брюля. Воейков при этом давал знать своему двору, что французский посол ездил в Пулавы, имение князя Чарторыйского, для свидания с последним; туда же ездил и датский посланник Остен.
Беспокойство русского двора относительно прусских курьеров объясняется известием Обрезкова из Константинополя, что 20 марта заключен дружественный и торговый договор между Пруссией и Портою. Несмотря на характер договора, он произвел в Петербурге очень неприятное впечатление, потому что мог ободрить подданных прусского короля, сделать его требовательнее при мирных переговорах и давал ему возможность держать в Константинополе открыто своего министра. Обрезков советовал своему двору остаться совершенно равнодушным к этому делу, ибо если будут с русской стороны сделаны какие-нибудь представления, то Порта может дать на них суровый ответ, что поведет к нарушению добрых отношений между двумя государствами. Совершенное молчание будет более соответствовать достоинству и могуществу русской империи, чем какие-нибудь представления, из которых Порта заключит, что договор ее с Пруссиею имеет важное значение в глазах императрицы, и это умножит только ее азиатскую гордость и величанье. Совет был принят, и последствия показали его пользу.
Угроза войною пришла не с юга, а с севера, и оттуда, откуда менее всего ее ожидали. 11 июля в 9 часов утра приехал к канцлеру датский чрезвычайный посланник граф Гакстгаузен и объявил, что ему велено от короля сделать русскому двору словесное и дружественное внушение, что так как его датское величество с сожалением принужден видеть, как мало великий князь всероссийский и герцог шлезвиг-голштинский оказывает склонности к полюбовной сделке в своих распрях с короною датскою и продолжает пребывать в прежнем своем недоброжелательстве к Дании, от которого последняя в рассуждении будущего времени не может никогда быть в безопасности, то его величество по необходимой нужде в последний раз требует скорого и категорического на представления свои ответа, поручивши в противном случае посланнику своему объявить формально, что его датское величество будет уже почитать великого князя явным себе неприятелем и потому станет принимать меры свои против как его высочества, так и Российской империи. Канцлер отвечал, что угрозы употреблены совершенно некстати и русский двор их не испугается.
Действительно, коллегия Иностранных дел получила такой рескрипт: «Ошибается датский двор, если от своих угроз ожидает желаемого действия. Ошибается не потому, чтоб мы почитали эти угрозы одними пустыми словами, вовсе нет! мы предполагаем, более того, на что, быть может, сама Дания отважится; мы уже воображаем себе, что она вступила с неприятелями нашими в тесный союз, отважилась наконец испытать свои силы, которыми столько лет парадировала и которыми друзей и соседей своих то манила, то тревожила. Мы не презираем ее сил; но, чем важнее опасность и существеннее, тем больше мы поставим себе в славу и тем больше найдем способов защищать утесненную невинность и честь и значение нашей империи. Но так как много уже пожертвовано нами для утверждения спокойствия на Севере, то и теперь не хотим удовольствоваться теми стараниями, которые употреблены были нами до сих пор для сохранения дружбы с датским двором, а следовательно, и тишины на Севере. Мы хотим с нашей стороны сделать все, что может или отвратить разрыв с Даниею, или неоспоримо доказать всему свету, что не от нас зависело предупредить бедствия там, где страсть превозмогает над справедливостию и самым здравым рассудком. Поэтому мы присоветовали его высочеству великому князю благополучие земель его предпочесть справедливому негодованию и не только не прерывать переговоров с датским двором, но по возможности и облегчать их. И сами намерены мы, употребляя наше посредничество, прилагать все старание, чтоб согласить толь различные интересы и справедливым удовлетворением обеих сторон недоверки и подозрения превратить в доброе согласие. Поэтому мы ласкаем еще себя надеждою, что дело не дойдет ни до какой печальной крайности. Однако, чтоб не усыпить себя надеждою, повелеваем нашей коллегии Иностранных дел нашему министру в Копенгагене Корфу предписать, чтоб он содержание этого рескрипта сообщил тамошнему двору прочтением как бы экстракта из депеши, прибавив, что хотя выражения рескрипта не очень ласкательны, но в точности изъясняют прямые наши намерения, да притом и сам датский двор употребил невеликую умеренность в выражениях; далее прибавил бы, что если датский двор начнет каким-нибудь образом приводить в действие свои угрозы или нарушит настоящий свой нейтралитет и даст малейшую помощь нашим неприятелям, то он, Корф, имеет в запасе указ тотчас оставить тамошний двор; пусть он немедленно едет в Гамбург и там ожидает дальнейшего нашего указа. Это мы предписываем в том чаянии, что Дания уже приняла свои меры, и потому, с какою бы твердостью ей говорено ни было, ничего этим испортить уже нельзя. Но так как может случиться и противное нашему чаянию, а именно что датский двор жалеет уже о сделанных им угрозах или вследствие какого-нибудь счастливого для союзников события пришел на другие мысли, то на такой случай надлежит Корфу предписать, чтоб он не читал датскому двору этого указа, но объявил бы, что так как с нашей стороны не подано датскому королю ни малейшего повода к жалобам и не видим мы, по какому праву мог бы датский король признавать великого князя явным себе неприятелем, разве потому только, что великий князь неохотно уступил бы такую землю, которая принадлежит ему по всем правам, то и не могли мы увериться, чтоб данные графу Гакстгаузену указы были точно таковы, как он их предъявил, почему и не хотели подробно отвечать на них».
Датский двор изъявил умеренность и стал только хлопотать о том, чтоб союзники России взяли на свою медиацию полюбовное решение голштинского дела. Но союзники, естественно, стояли за Россию и не хотели усложнять свои отношения голштинским вопросом; сама Англия объявила, что не примет участия в этом вопросе.
Выстрел был сделан понапрасну, потому что Россия не испугалась, а исполнить угрозу – на это датский двор не мог решиться в то время, когда единственный государь, могший поддержать Данию, Фридрих II, находился в отчаянном положении, покидаемый единственною союзницею своею Англиею; надежды, которые князь Голицын соединял с выходом Питта из министерства, исполнялись: Бют действовал явно против прусских интересов. После Кунерсдорфа Фридрих II уже не мог поправиться. Он должен был переменить наступательную войну на оборонительную, но и для этой недоставало более средств, страна была запустошена, войско потеряло дух, лучшие офицеры были побиты или взяты в плен; Фридрих сам говорил, что войско его уже не то, каким было в начале войны, годится только для того, чтоб пугать им издали неприятеля. Фридрих видел ясно, что враги его хотя медленно, но достигают своей цели, что борьба для него становится невозможною; но как прекратить ее? Миром, какого требуют они, – честным для них и позорным для него, согласиться на раздробление того, что было собрано, сплочено с такими усилиями, потерять Силезию, Померанию, саму Пруссию, ту область, по которой он был королем, из прусского короля стать опять только бранденбургским курфюрстом? – с этою мыслию, разумеется, Фридрих не мог помириться, и другая мысль – о том, чтоб уйти от позора насильственною смертию, все глубже и глубже западала в его голову.
Положение Фридриха становилось тем опаснее, что на будущий год нельзя было рассчитывать на медленность движений русской армии и бестолковость действий последнего главнокомандующего – Бутурлина. Это был четвертый главнокомандующий в пять лет войны, и все четверо отличались одним характером и одинаким способом действий. Все четверо достигли важных военных чинов по линии, все четверо не имели способности главнокомандующего; они шли медленно на помочах конференции, двигались в указанном направлении: встретят неприятеля, выдержат его натиск, отобьются, а иногда после сражения увидят, что одержали великую победу, в пух разбили врага; но это нисколько не изменит их взгляда на свои обязанности, нисколько не изменит их способа действий, не даст им способности к почину; они не сделают ни шагу, чтоб воспользоваться победою, окончательно добить неприятеля, по-прежнему ждут указа с подробным планом действий. А тут еще сильное искушение – австрийцы с каким-нибудь Дауном-кунктатором! Мы бились и разбили неприятеля, а что же австрийцы? Пусть теперь они бьются, пусть и добьют неприятеля, мы им не будем завидовать, нам надобно отдохнуть, позаботиться о главном – о сохранении победоносной армии ее император. величества, о сохранении приобретенной ее оружием славы, и как только придет обычное известие, что грозит недостаток провианта и фуража, то и начинается движение назад, к заветным берегам Вислы, к магазинам. Вот почему историк, внимательно изучивший весь ход прусской войны, не станет повторять слуха, пущенного из французского посольства в Петербурге, что Апраксин отступил к границам после победы, потому что получил от Бестужева известие о болезни императрицы; а все преемники его по каким письмам делали то же самое? Тут не было и тени военного искусства, военных способностей и соображений; война производилась первобытным способом: войско входило в неприятельскую землю, дралось с встретившимся неприятелем и осенью уходило назад. В Петербурге в конференции хорошо понимали это и писали: «Прямое искусство генерала состоит в принятии таких мер, которым бы ни время, ни обстоятельства, ни движения неприятельские препятствовать не могли». Но этому искусству ни Апраксину, ни Фермору, ни Солтыкову, ни Бутурлину нельзя было выучиться из присылаемых к ним рескриптов.
Но в Петербурге еще оставались предания Петра Великого, помнился взгляд его на войну как на живую практическую школу, в которой всего лучше развиваются военные таланты; в Петербурге сравнивали настоящую войну против искуснейшего полководца времени с войною против Карла XII; ждали тех же результатов и не обманулись: из школы начали выходить хорошие ученики. В самом начале войны иностранец, опорочивший всех русских генералов, с уважением остановился пред молодым графом Румянцевым как человеком, употребившим много труда, чтоб сделать себя способным к службе, приобретшим обширные теоретические познания. К этим теоретическим познаниям пятилетняя война прибавила еще практику; Румянцев выдается из ряду генералов, и ему поручают поправить кампанию 1761 года – взять Кольберг, под которым уже два раза русское войско терпело неудачу. Иностранец находил в Румянцеве один недостаток – горячность; но старшие русские генералы отличались до сих пор такою холодностию, что противоположное качество могло быть почтено необходимым противуядием. Фридрих II употребил все усилия, чтоб отстоять Кольберг; но 1 декабря Румянцев окончательно отбил герцога Евгения Виртембергского, который старался доставить в Кольберг съестные припасы, после чего крепость принуждена была сдаться.
Посылая в Петербург ключи Кольберга, Румянцев писал императрице: «Благополучие мое тем паче велико, что по времени считаю я сие первое приношение сделать к торжественному дню рождения вашего импер. величества, теплые воссылая молитвы ко Всевышнему о целости неоцененного вашего здравия, о долголетнем государствовании и ежевременном приращении славы державе вашего импер. величества, толикими победами увенчанной». Это донесение Румянцева о последнем действии русского войска в Семилетнюю войну было обнародовано 25 декабря, в последний день жизни Елисаветы.
В начале года уже встречаем известие о болезненном состоянии императрицы, которая слушала доклады, лежа на постели. Елисавете очень хотелось пожить в новом Зимнем дворце, и 19 июня генерал-прокурор по ее указу предложил Сенату употребить старание, чтоб в новостроящемся Зимнем доме хотя б ту часть, в которой ее импер. величество собственный апартамент имеет, как наискорее отделать; но апартамент не отделывался, и для окончательной отделки всего Зимнего дома Растрелли запросил 380000 рублей и на первый раз – 100000. Между тем пошли большие неприятности. 29 июня огонь истребил по Малой Неве в пяти корпусах 83 амбара с пенькою и льном да на реке много барок; купцы потерпели убытка с лишком на миллион рублей. Императрица велела Сенату придумать поскорее средство, как помочь погоревшим. Обратились к Купеческому банку: в нем было денег только 729539 рублей, и Сенат решил употребить на помощь погорельцам 280000 рублей; распределение ссуды возложено на комиссию о коммерции.
Сильно беспокоило старание Франции о мире и перемирии; когда опасность исчезла с этой стороны, стали приходить известия о печальном ходе кампании, на которую возлагалось столько надежд. Нужно было готовиться к новой кампании при крайне затруднительном положении финансов. Бутурлин оказывался совершенно неспособным к командованию войском; генерал-прокурор князь Шаховской просился в отставку, выставляя, что изнемогает под бременем дел; граф Мих. Ларионов. Воронцов, великий канцлер с конца 1758 года, нашел бестужевское наследство не по силам своим; он постоянно жаловался на болезнь, просился в отставку или требовал к себе в помощники князя Александра Мих. Голицына, бывшего посланником в Лондоне, т. е. требовал сведения искусного дипломата с самого важного поста; граф Петр Ив. Шувалов был почти постоянно и опасно болен.
17 ноября Елисавета почувствовала лихорадочные припадки, но по принятии лекарства совершенно оправилась и занялась делами. 3 декабря вошел в Сенат кабинет-секретарь Олсуфьев и объявил высочайшие повеления: императрица приказала объявить Сенату свой гнев за то, что в делах и в исполнении именных указов происходят излишние споры и в решениях медленность, значит, или не хотят, или не умеют решить дел. Несколько месяцев тому назад последовала конфирмация об отправлении бригадира Суворова для управления нерчинскими заводами, и он до сих пор еще не отправлен. Обер-церемониймейстер барон Лефорт безвыходно находится в Сенате и не слышит решения по своему делу, тогда как приличнее было бы доносчика на него Рубановского арестовать: решить дело немедленно, без всякого отлагательства, чтоб не было стыдно пред иностранцами и государственный кредит не был поврежден. Императрица давно уже приказала определить при Петербургском порте в браковщики пеньки и льну купца Герасимова, но это приказание до сих пор не исполнено. Разные присланные в Сенат из Кабинета челобитные остаются без решения. Ее импер. величеству известно, что из сенаторов в присутствие не все ездят: одни – редко, а другие – почти никогда, отчего в делах остановка; если кто ездить не будет, доносить императрице. О вспоможении погоревшим в последний большой пожар (29 июня) повеление ее импер. величества было, но до сих пор ничего не сделано.
12 декабря Елисавете стало опять дурно: началась жестокая рвота с кровью и кашлем; медики – Моисей, Шилинг и Круз – решили отворить кровь и очень испугались, заметив сильно воспаленное ее состояние. Несмотря на то, через несколько дней императрица, казалось, оправилась. 17 декабря Олсуфьев опять вошел в Сенат и объявил именной указ: содержащихся во всем государстве и приличившихся по корчемству людей освободить, следствия уничтожить, сосланных возвратить, Сенату с прилежанием и немедленно изыскать способ, как бы заменить соляной доход, потому что он собирается с великим разорением народным и определенные к тому люди не поступают прямо по должности своей.



