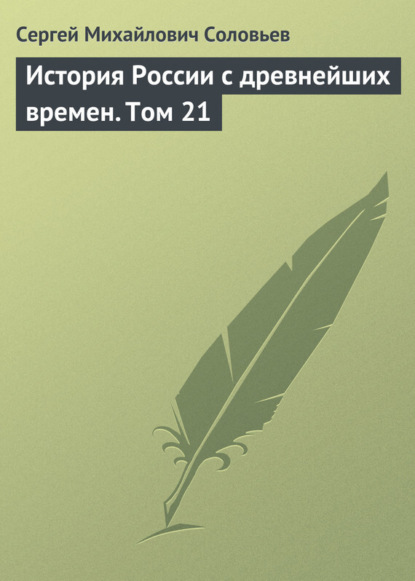 Полная версия
Полная версияИстория России с древнейших времен. Том 21
Полученные Кантемиром известия о вооружении в Бресте эскадры, назначаемой в Балтийское море, побудили русского посланника иметь новое объяснение с кардиналом. Флёри отвечал, что эскадра не получила еще назначения и в Балтийское море отправлена не будет, если король датский обнадежит, что при начатии войны на севере сохранит нейтралитет Балтийского моря, и если англичане не отправят в то же море своей эскадры; впрочем, король не намерен принимать ни малейшего участия в войне между Россиею и Швециею; он, кардинал, особенно жалеет, видя такую горячность со стороны шведской, и по чистой совести может засвидетельствовать, что его советы шведскому министерству клонились к сохранению тишины. Кантемир отвечал, что Россия никак не может принять этих если, ибо Дания и Англия связаны с нею обязательствами союзного договора и потому не могут остаться нейтральными, когда шведы нападут на русские области. Кардинал отвечал, что он уже упомянул о намерении французского двора не принимать участия в войне между Швециею и Россиею и Франция тем охотнее будет содержать доброе согласие с Россиею, что нет причин к жалобам против русского двора; но английское высокомерие становится нестерпимо, и он без осуждения от всего света не может позволить английскому двору вступаться в дела всей Европы, усиливать свое влияние, стараться повсюду властвовать, поэтому не знает, не будет ли принужден сопротивляться предприятиям англичан на севере. Можно было бы обойти всякое затруднение, остановя отправление английской эскадры в Балтийское море, тем более что русский государь имеет свои морские силы и шведский король подлинно не в состоянии противиться России. Известно, что в последней войне между Франциею и цесарем русское войско было прислано на помощь цесарю и, несмотря на то, между Россиею и Франциею разрыва не последовало. На это Кантемир сказал: «Что касается английских поступков, то это дело мне не принадлежит, равно я не вступаю в исследование, как должна в этом случае вести себя Франция; я и прежде никогда не отзывался о французских вооружениях, когда они не касались интересов моего государя; и теперь я не говорю о таких движениях английских, которые не имеют связи с русскими интересами; но судите сами, имеете ли вы право препятствовать поданию помощи России от кого бы то ни было. Дело отправления вспомогательного русского войска покойному цесарю совершенно другое: между Россиею и покойным цесарем существовал давний оборонительный союз, и вы сами стали бы порицать русский двор, если бы он не исполнил своих обязательств; но между Франциею и Швеццею никакого подобного обязательства нет, как вы мне сами объявили. Потом в последней войне между Франциею и Австриею Франция первая напала, а в войне между Россиею и Швециею, если она откроется, первые нападут шведы». Кардинал отвечал, что еще сам не знает, какое примет решение, и начал распространяться о своем миролюбии и жаловаться, что все его труды для сохранения спокойствия в Европе остались тщетными вследствие честолюбия англичан.
В июне Кантемир получил от своего двора приказание внушить кардиналу, что от него одного зависит заключение оборонительного союза с Россиею, который нимало не будет препятствовать подобным договорам России с другими державами. Кантемир отвечал, что нельзя иметь никакой надежды, чтоб Франция захотела искать пользы России или по меньшей мере захотела союзом с нею ослабить тревогу на севере; напротив, дела зашли так далеко, что по требованию французского интереса Россия должна быть занята защитою своих областей, чтобы не иметь возможности помочь венгерской королеве, против которой во Франции готовят явную войну. «Мне дано знать, – писал Кантемир, – что уже заключен договор между Франциею и Пруссиею, что французское войско будет отправлено в Баварию, чтоб вместе с тамошним курфюрстом идти в Богемию; что в меморию, где исследуются интересы французского двора, главным основанием положено раздробление австрийских владений; Богемия должна достаться курфюрсту Баварскому, который будет императором, Италия – королю Испанскому и частью Сардинскому, Силезия – королю Прусскому, а часть Нидерландов – самой Франции; для исполнения этого проекта Главным средством поставляется ослабление России и Англии, которые одни в Европе могут помешать ему. Автор мемории советует начать войну против Англии и в Германии, а между тем шведскому двору дать не только субсидии для нападения на Россию, но даже войска и корабли; также постараться устроить союз между Швециею, Даниею и Пруссиею, наконец, возбудить против России турок и персиян и действовать против России до тех пор, пока Россия потеряет все приобретенное ею по Ништадтскому миру».
В августе Кантемир имел свидание с кардиналом по поводу объявления шведами войны против России. Кардинал повторил прежние уверения, что французский двор не принимал никакого участия во всех шведских движениях, что объявление войны считает делом безрассудным, что он не раз представлял шведскому посланнику графу Тессину, что Швеция не может надеяться на успех в войне против России, а на чужую помощь напрасно бы полагалась, но все понапрасну, потому что настоящая война есть дело народной ярости, которую шведское министерство унять не в состоянии; что он, кардинал, должен признаться, что русский двор сделал все для избежания войны. Относительно движения французского войска в Германию Флёри сказал, что с крайним сожалением должен был согласиться на это в видах предупредить английское нападение и что желал бы кровью своею купить возможность избежания всеобщей войны. Когда Кантемир заметил, что союзники королевы венгерской не делали никаких военных приготовлений, то кардинал с горячностью отвечал: «Не должно думать, чтоб я не знал о том, что в свете делается; я знаю хорошо, какие были виды и намерения англичан, которые, не довольствуясь господством на море, желают предписывать законы Европе и на сухом пути раздавать короны по своей воле; если теперь Англия не действует, то это должно приписать движению французских войск. Впрочем, я сам до сих пор не знаю, к чему наше войско будет употреблено, но объявляю министрам иностранным и от своих французов не скрываю, что как скоро представится случай к полюбовному соглашению, то я его не упущу и сердечно сожалею, что не вижу ни одной державы, которая бы предложила свое посредничество, потому что все в настоящей распре приняли участие. Королева Венгерская – государыня весьма похвальных свойств, о ее несчастии я сам сожалею; но чрезмерно она своего мужа любит и своим упорным уклонением от мира с Пруссиею привела европейские дела в нынешнее состояние; теперь же о примирении ее с прусским королем нечего и думать, потому что он уже слишком далеко зашел в своих предприятиях». «Понеже, – писал Кантемир, – нынешние здешние поступки довольно показывают, что всякое чувствование стыда на сторону отложено, нечаянная перемена во всем случиться может, и для того предосторожность всегда нужна».
Остерман писал Кантемиру в октябре: «Поступки Шетарди так явно недоброжелательны, что мы имеем полную причину желать его отозвания отсюда; только это надобно исходатайствовать таким образом, чтоб французское министерство, при нынешнем своем счастии и без того ни на кого не смотрящее, не получило повода к преждевременному разорванию с нами дипломатических сношений и к сложению вины на нас. Поэтому надобно поступать в этом деле, смотря по тамошним склонностям, министерскому нраву и обращениям дел, и притом на ваше благорассуждение оставляем, не можете ли чрез того благосклонного к вам приятеля, о котором в реляциях своих упоминаете, тамошнему министерству между прочим искусно внушить, что поступки Шетарди и интриги совершенно открылись, и потому он для французских интересов здесь более уже не может быть полезен и что вследствие его поведения никто не желает с ним знакомства, все избегают его как только можно, без явного озлобления».
Открылась интрига Шетарди; открылось, что он хлопотал об ускорении переворота, о свержении существующего правительства.
Мы видели, что в России были недовольны существующим правительством и это неудовольствие усиливалось и громче высказывалось вследствие слабости правительства, которого не любили и не уважали. Но как и в чью пользу должен был совершиться переворот? Бирон, недовольный отцом и матерью императора Иоанна, грозил им герцогом Голштинским, родным внуком Петра Великого: кто же теперь был настолько могуществен, чтоб действовать в пользу ребенка, жившего далеко, в чужой стороне, привезти этого ребенка в Россию и посадить на престол? У герцога Голштинского была в России родная тетка, дочь Петра Великого, и это было единственное лицо, во имя которого можно было произвести переворот. Мы видели, что в инструкции Шетарди было прямо указано на цесаревну Елисавету, велено выведать о значении ее приверженцев и т. п. Мы довольно часто упоминали об Елисавете при описании царствования Петра II, когда она своим влиянием на племянника не давала покоя людям, боровшимся за волю молодого императора. По восшествии на престол Анны Елисавета, чтоб не возбудить подозрения и гонения императрицы, очень хорошо понимавшей, какую опасную соперницу имеет она в дочери великого дяди, должна была вести себя так, чтоб о ней не было слышно: ей оказывали внешний почет, но зорко следили за ее поведением. Миних по поручению императрицы поместил к ней в дом урядника Щегловитого в качестве смотрителя за домом, и Щегловитый доносил, кто бывал у цесаревны и куда она выезжала; чтоб следить за нею по городу, он нанимал особых извощиков. Анну не переставал беспокоить внук Петра Великого, маленький герцог Голштинский. «Чертушка в Голштинии еще живет», – обыкновенно говорила она; но понятно, что она должна была рассчитывать на тесную связь между интересами тетки и племянника.
Елисавета была почтительна к императрице, к Бирону. Она сохраняла свою красоту; но уже никто не говорил больше о ее живости и веселости, которые не шли теперь к опальной дочери Петра Великого. Елисавета не могла не знать, что за нею наблюдают, и потому жила скромно, уединенно среди своего маленького двора. Эта полузатворническая жизнь, боязнь принимать живое участие в событиях, боязнь сноситься с важнейшими деятелями государственной жизни, да и самая невозможность сноситься с ними, ибо, конечно, они почтительно удалялись от опальной и потому опасной цесаревны, – все это должно было препятствовать умственному развитию и развитию энергии Елисаветы; десять лет ей предоставлено было жить одним чувством. Указывали на ее фаворитов; но несогласно с характером нашего сочинения упоминать о делах и людях темных, не имевших влияния на ход исторических событий. Мы должны упомянуть о фаворите Елисаветы Алексее Григорьевиче Разумовском, сыне простого козака, взятом в придворные певчие; утверждали, что Елисавета была с ним обвенчана. Разумовский был человек без способностей и без энергии, но, будучи доволен своим выгодным положением, не вмешиваясь в дела, он не вредил никому и ничему, а этого уже было очень много, и мы обязаны отдать честь Разумовскому, сказавши, что он как фаворит представлял противоположность фавориту Анны – Бирону. До нас дошла только одна жалоба на Разумовского – что он был непокоен в хмелю; но, как видно, невыгоду от этого беспокойства чувствовали люди очень близкие, которые умели и вознаградить себя за претерпенное. Из будущих важных деятелей при дворе цесаревны находились двое братьев Шуваловых, Александр и Петр Ивановичи, и Михайла Ларивонович Воронцов. Эти люди уже принадлежали ко второму поколению русских деятелей XVIII века, причисляя к первому птенцов Петра Великого, непосредственно им вызванных к деятельности, им воспитанных; Шуваловы с товарищами были дети тех отцов, которые являются при Петре, некоторые в довольно значительных должностях, но не первостепенных. При дворе цесаревны давно уже занимал видное место медик Лесток. Вызванный при Петре Великом в числе других надобных по своему искусству, иностранец Лесток при Петре же был сослан в Казань по жалобе на неосторожное поведение его с дочерью одного придворного служителя. По возвращении из ссылки он опять является при дворе, и по смерти Екатерины I мы видим его именно при дворе цесаревны Елисаветы. Деятельный, веселый, говорливый, любивший и умевший со всеми сблизиться, всюду обо всем разведать, Лесток был дорогой человек в однообразной жизни двора опальной цесаревны. Но кроме развлечения, которое мог доставлять Лесток в скуке, кроме привычки к человеку, необходимо близкому как медику, Елисавета имела право полагаться на Лестока: когда в начале царствования Анны Миних по иноземству предлагал Лестоку наблюдать за цесаревною и доносить обо всем, Лесток не согласился.
Развлечением, хотя и не совсем приятным, служили для Елисаветы хозяйственные занятия. Она должна была содержать свой двор доходами с имений, находившихся в разных местностях; доходы были незначительны, а расходы большие по необходимости поддерживать значение высокой особы, по необходимости не отпускать с пустыми руками просителей, по необходимости являться прилично к большому двору, при котором господствовала разорительная роскошь. Понятно, что приискание хорошего управителя вотчинами, было делом большой важности для Елисаветы; это всего лучше видно из писем ее к Воронцову, бывшему в Москве в начале 1739 года: «Прошу вас, как приедете к Москве, то имейте старание, чтоб вам прямо спознать Воронина, каков он, понеже я ни на кого такую надежду не имею, как на вас: так как себе верю, понеже много абрабации (апробации) имела. Также и об Чистом прошу уведомиться, каков он, и уведомить меня, понеже немалая остановка имеется… Об Воронине прошу вас призвать к себе и спросить от себя, не будет ли ему обидно, чтоб секретарем у меня быть, понеже он ноне в комиссарах; а я, ей, не знаю, которой у них чин большей. И ежели он вам скажет, что он желает, то можете ему после сказать, что будто вы надеетесь, что вотчины все ему во управление вручатся, и что он вам скажет на сие?»
Нужно было искать хороших людей еще и потому, что смена дурных могла повести к большим неприятностям: человек, навлекший неудовольствие цесаревны, всегда мог быть уверен, что правительство будет смотреть на него с сочувствием, особенно если он не поскупится на известия, неблагоприятные для Елисаветы или людей, к ней близких. Вот любопытное прошение Елисаветы императрице Анне, написанное в 1736 году и подписанное: «Вашего и. в-ства послушная раба Елисавет: понеже бывший в моей канцелярии судьею Степан Корницкой, преступя вначале должность христианского закона и забыв показанные от меня ему благодеяния, а наипаче презрев указы вашего и. в-ства, всякие непорядочные дела отправлял, многие взятки с крестьян и с других людей брал и затем упущал доходы, получаемые с деревень, волочил многих челобитчиков, ходя за делами напрасно, и во всю бытность свою ни единого дела к окончанию не привел; посылаемые мои указы в канцелярию, не токмо по оным исполнения чинил, но в одном из оных выскреб написанную речь и, переправя, написал, как ему надобно было для его пользы, которое его преступление великого наказания достойно по указам вашего и. в-ства. Еще в самом следствии о управителе Висинге, на которого показано было на несколько тысяч рублев похищенных денег, делал ему всякое похлебство, брал взятки, и с резолюций моих посылал к нему точные копии, и многие другие бесчисленные продерзости являл. Я велела его взять под караул, чтоб сдал порученные ему дела, и по сем, исследовав о нем, хотела донесть вашему и. в-ству, что с ним повелите указом учинить. А оной арест ему для того учинила без соизволения вашего и. в-ства, надеючись на сие, что всякий помещик может так поступать с своим подчиненным, ежели пред ним явится в похищении. И оной Корницкой свобожден по указу вашего и. в-ства чрез генерала Ушакова. И оное мне все сносно, токмо сие чрезмерно чувствительно, что я невинно обнесена пред персоною вашего и. в-ства, в чем не токмо делом, но ни самою мыслию никогда не была противна воли и указам вашего и. в-ства, ниже впредь хощу быть. Того ради для оправдания моего пред вашим и. в-ством всепокорнейше прошу всемилостивейше приказать о нем исследовать или его возвратить ко мне, где по окончании следствия о всем нижайше донесу сама вашему и. в-ству». Участие страшного Ушакова в деле показывает, какое значение придавалось ему по крайней мере вначале. Могло быт что Корницкой позволял себе подобные поступки в надежде на сильное покровительство, будучи агентом Ушакова.
Смерть Анны произвела некоторое изменение в тяжких, натянутых отношениях Елисаветы к большому двору. Правительство оказалось слабым, начались смуты, перевороты. Регент Бирон, рассорившись с отцом и матерью маленького императора, грозит им герцогом Голштинским и с какою бы то ни было целью очень внимателен и любезен к цесаревне Елисавете, увеличивает ее содержание (что, впрочем, советовал и Остерман), оказывает снисхождение к людям, уличенным в преданности дочери Петра Великого. Падение Бирона могло только ухудшить положение Елисаветы, ибо не стало во главе управления человека, к ней расположенного: цесаревна поспешила убрать портрет своего племянника, герцога Голштинского, который повесила было у себя во дворце тотчас по смерти Анны Иоанновны. Собственно, от Анны Леопольдовны нечего было опасаться; но дело не в Анне Леопольдовне: Миних, Остерман – старые злодеи, от которых уже терпела Елисавета; они и всякий другой, кто будет править Россиею, поддерживая престол Иоанна VI, будут вместе с тем подозрительно смотреть на Елисавету, следить за нею, и эта подозрительность должна усиливаться с возрастанием ее опасного племянника. А между тем обнаруживается всеобщее неудовольствие, и Елисавета не может не заметить, что недовольные обращаются мало помалу к ней, от нее ждут избавления от бестолкового и ненационального правительства.
Опальное положение, уединенная жизнь Елисаветы при Анне послужили к выгоде для цесаревны. Молодая, ветреная, шаловливая красавица, возбуждавшая разные чувства, кроме чувства уважения, исчезла. Елисавета возмужала, сохранив свою красоту, получившую теперь спокойный, величественный, царственный характер. Редко, в торжественных случаях, являлась она пред народом, прекрасная, ласковая, величественная, спокойная, печальная; являлась как молчаливый протест против тяжелого, оскорбительного для народной чести настоящего, как живое и прекрасное напоминание о славном прошедшем, которое теперь уже становилось не только славным, но и счастливым прошедшим. Теперь же при виде Елисаветы возбуждалось умиление, уважение, печаль; тяжелая участь дала ей право на возбуждение этих чувств, тем более что вместе с дочерью Петра все русские были в беде, опале; а тут еще слухи, что нет добрее и ласковее матушки цесаревны Елисаветы Петровны. Таким образом, с значением дочери Петра Великого соединились теперь большие права, но вместе и большие, страшные обязанности. От нее чего-то ждут, она должна что-то исполнить. Но с кем и как? Самые видные немцы перессорились, губят друг друга и тем дают возможность русским взять верх; но зато и у русских нет человека, который бы мог стать в челе движения, который бы мог, хотя в ночном нападении, как Миних, овладеть Брауншвейгскою фамилиею и провозгласить нового императора или императрицу, герцога Голштинского или тетку его. Елисавета должна была сама стать в челе движения, сама направить народ или войско против нелюбимого правительства. Но как могла решиться на это женщина, проведшая столько лучших лет жизни в бездействии, робкая, загнанная, привыкшая униженною уклончивостью спасаться от гнева и преследования сильных? Женское ли это дело производить перевороты, свергать правительство, водить войско? Легко понять, что Елисавета будет медлить, ждать человека.
Правительство думало, что Елисавета может взойти на престол с помощью того же человека, который свергнул и Бирона, т. е. Миниха. В январе 1741 года, когда Миних был еще первым министром, майор гвардии Альбрехт призвал аудитора Барановского и объявил ему именной указ: «Должен ты быть поставлен на безызвестный караул близ дворца цесаревны Елисаветы Петровны, имеешь смотреть: во дворец цесаревны какие персоны мужеска и женска пола приезжают, також и ее высочество куды изволит съезжать и как изволит возвращаться – о том бы повседневно подавать записки по утрам ему, Альбрехту. В которое время генерал-фельдмаршал во дворец цесаревны прибудет, то б того часа репортовать словесно о прибытии его ему ж, майору Альбрехту; а если дома его, Альбрехта, не будет, то отрепортовать герцогу Брауншвейг-Люнебургскому. Французский посол когда приезжать будет во дворец цесаревны, то и об нем репортовать с прочими в подаваемых записках».
После отставки Миниха, когда его еще больше стали бояться, принц Антон поручил секунд-майору Василью Чичерину выбрать до десяти гренадер с капралом, одеть их в шубы и серые кафтаны и наблюдать: если Миних пойдет со двора не в своем платье, то поймать его и доставить во дворец; если же пойдет к цесаревне, то взять уже на возвратном пути от нее. Принцу донесли о разных толках между солдатами и женскою дворцовою прислугою. Рассказывали, что Миних был однажды у цесаревны и, припадши к ее ногам, просил, что если ее высочество ему повелит, то он все исполнить готов. На что Елисавета будто бы сказала ему: «Ты ли тот, который корону дает кому хочет? Я оную и без тебя, ежели пожелаю, получить могу». По другому рассказу, Елисавета отвечала Миниху, что он сам знает, чего ей надобно и на что она имеет право, и потом Елисавета обошлась с Минихом очень милостиво и провожала до крыльца. Принц Антон в простоте сердечной поверил, что все так было, и говорил английскому резиденту Финчу, что от Миниха надобно отделаться, что он уже предлагал свои услуги Елисавете.
Миних не сблизился с Елисаветою. Он понимал, что вступление на престол Елисаветы будет иметь следствием торжество национального дела, что при ней иностранцу не удастся играть первенствующей роли. Все его симпатии были в пользу Брауншвейгской фамилии; он ждал своего времени, когда вражда принцессы Анны и фрейлины Менгден к принцу Антону и Остерману разгорится до высшей степени и принцесса Анна снова потребует его помощи для низложения ненавистного Остермана. Только брат фельдмаршала, гофмаршал Миних, на всякий случай старался делать всевозможные угождения цесаревне; но братья не жили дружно.
Миних не ездил к цесаревне Елисавете, но французский посланник ездил.
Мы видели, какая инструкция была дана маркизу Шетарди перед отъездом его в Россию; видели, что Елисавета была указана как единственное лицо, в пользу которого нужно было действовать для свержения немецкого правительства и для оттеснения России опять на восток. И Шетарди не спускает глаз с Елисаветы. Во время Биронова регентства ему нечего предпринимать: Елисавета спокойна, довольна быстрой переменой к лучшему в своем положении; ему, видимо, не нравится это заискивание регента у цесаревны, он подозревает его в каких-то дерзких замыслах; с другой стороны, французский посланник не имеет побуждений очень сильно тревожиться: у Бирона нет ни досуга, ни желания помогать Марии Терезии против Франции и Пруссии. Но дело переменилось по свержении Бирона: венский двор получил сильную надежду на помощь от России, а это заставляло Францию, с одной стороны, поднимать Швецию для задержания России, с другой – поднять в России внутренние волнения, затем правительственный переворот, чтоб также занять Россию дома и потом помочь Швеции одержать верх в борьбе, ибо иначе слабая Швеция не могла надеяться на успех; наконец, теперь и Елисавета недовольна, следовательно, более возможности сделать ее доступною внушениям французского посланника. Шетарди уверяет ее в добром расположении к ней своего короля, в готовности его оказать ей помощь. Но эта помощь непосредственно может быть оказана ближайшею державою, Швециею, и потому шведский посланник Нолькен вводится также к цесаревне для необходимых переговоров; для сношений Елисаветы с обоими посланниками вне дворца употребляется Лесток. Нолькен обещает помощь, но требует вознаграждения, требует, чтоб Елисавета на письме обещала вознаградить Швецию при своем восшествии на престол. Елисавета не соглашается дать письменное обязательство. Для Шетарди интерес Швеции не на первом плане: ему хочется, чтоб как можно скорее произошел переворот, который обеспечит невмешательство России в европейские дела и, следовательно, даст Франции всю свободу распоряжаться ими. Шетарди внушает Лестоку, что Елисавета не должна медлить, что ей должно воспользоваться счастливым расположением, которое начинает выказываться в народе, и не дать русским привыкнуть к настоящему правительству. В разговорах такого рода, разумеется, не отзывались доброжелательно о Брауншвейгской фамилии. Говорилось, что маленького императора намеренно никому не показывают. Лесток уверял, что цесаревна убеждена в этом и нарочно часто навещает малютку и уже позаботилась о средствах знать все, что бы ни случилось с ним. Лесток рассказывал Шетарди, что Иоанн слишком мал для своего возраста, что в нем с некоторого времени обнаружились признаки сокращения нервов, что у него запоры с самого рождения и никакое лекарство не могло возбудить в его организме обыкновенных отправлений, что малютка непременно умрет от первой сколько-нибудь значительной болезни.



