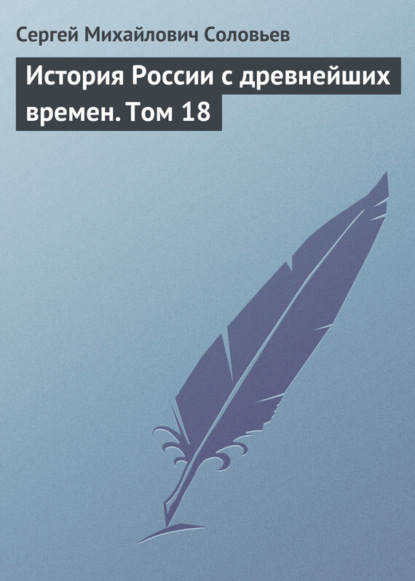 Полная версия
Полная версияПолная версия:
История России с древнейших времен. Том 18
На северо-востоке Строгановы увидали выгоду от рудных промыслов и сами просили знающего человека помочь им в начинании дела; на юге силою нужно было заставлять землевладельцев заниматься улучшенным овцеводством. В 1722 году в Сенате было определено: овец, которые содержатся на овчарных заводах, раздать в тамошних местах, расположа по числу деревень на многовотчинных людей, хотя бы кто и принять не захотел; овец этих и при них овчаров содержать точно так, как их содержали на заводах; приплод от овец получать им себе, а шерсть продавать на суконные заводы, которую покупать у них по определенной достойной цене. В Малороссию был отправлен в 1724 году такой указ: «Объявляем верным нашим подданным, малороссийским жителям всякого чина и достоинства, что мы для пользы всего нашего государства учинили суконные фабрики, на которые потребно много овечьей шерсти, а так как Малую Россию бог благословил больше других краев нашего государства способным воздухом к размножению овец и доброй шерсти, но малороссияне, не имея искусства в содержании овец, шерсть, к суконному делу негодную (хотя и множество ее имеют), за бесценок продают; для этого мы в 1722 году в Москве говорили с гетманом Скоропадским; также указом нашим писано из Мануфактур-коллегии к гетману и генеральному писарю Савичу и полковнику Полуботку, чтоб в Малороссии господари овец своих содержали по шленскому обыкновению, и правила, как овец содержать, к ним посланы; но до сих пор никакого успеха в том деле в Малороссии нет, ибо гетман Скоропадский вскоре потом умер, а Полуботок и Савич, как недоброжелатели своему отечеству и нам (в чем уже и обличились), не хотели видеть в действии повеления нашего и утаили его и никому присланных правил не объявили; а между тем уже некоторые великороссийские помещики, также и в слободских полках начали по тем правилам содержать овец и оттого прибыль великую против прежнего получают, так что продают шерсть по два рубля по две гривны и больше, а по прежнему содержанию овец только по полтине и по 20 алтын пуд в продажу идет. Мы опять теперь повелеваем малороссийским жителям овец своих содержать по правилам и шерсть продавать на наши суконные фабрики, а мастеров, которые будут каждого наставлять в содержании овец, велели мы содержать на нашем жалованье». Несмотря на все препятствия, число фабрик и заводов в конце царствования Петра простиралось до 233.
В 1722, 1723 и 1724 годах приехали из Англии, Голландии и Франции русские мастеровые, учившиеся там: столяры домового убора – трое, столяры кабинетного дела – четверо, столяры, которые делают кровати, стулья и столы, – двое, замочного медного дела – четверо, медного литейного дела – двое, грыдоровального – один, инструментов математических – один. Петр велел построить им дворы и давать жалованье два года, а потом дать каждому на завод денег с довольством, дабы кормились своею работою, и о том им объявить, чтоб заводились и учеников учили, а на жалованье бы впредь не надеялись.
На Западе ремесла имели цеховое устройство, сочли нужным ввести это устройство и в России. Устройство цехов вместе с образованием образцового магистрата в Петербурге император поручил Главному магистрату, но тот медлил, и Петр 19 января 1722 года дал такой указ обер-президенту магистрата: «Понеже давно имеется указ и регламент о исправлении дела, вам врученного, а именно о учинении перво магистрата правильного и цехов в Петербурге в пример другим городам, а потом в Москве и тако в протчих, но по се время никакого успеху в том не делается; того ради сим определяем, что ежели в Питербурхе сих двух дел, т. е. магистрата и цехов, не учините в пять месяцев или полгода, то ты и товарищ твой Исаев будете в работу каторжную посланы». В апреле 1722 года по выходе из Сената велено Дмитрию Соловьеву «учинить с иностранных учреждений о цехах известие и внесть в Сенат». Соловьев обещал сделать это к завтрашнему утру. Такая досужливость не могла позволить держать знаменитых братьев в долгой опале, когда знающие и смышленые люди были так нужны; другой брат. Осип, уже был асессором в Коммерц-коллегии. Только в конце 1724 года выработана была инструкция магистратам, посредством которых преобразователь хотел «всего российского купечества рассыпанную храмину паки собирать». Магистраты должны были состоять из президента, двоих бургомистров и четырех ратманов. Собирание рассыпанной храмины должно было начаться тем, что магистраты собирали изо всех мест и записывали в посад и в тягло всех купеческих и ремесленных людей, которые, не желая с посадскими служить и податей платить, вышли из слобод каким-нибудь образом и подлогом в разные чины, в крестьянство и в закладчики, как будто за долги отданы. Таким образом, новое учреждение должно было начинать борьбою с явлением, которого не могла побороть древняя Россия. Потом магистраты должны были заботиться о безопасности городов от пожара, иметь достаточное число нужных для того инструментов и распоряжаться вместе с гражданскими квартирмистрами и другими лицами, которых магистрат определит к тому из граждан. Магистраты должны были переписать всех граждан мужского и женского пола с их детьми, братьями, зятьями и племянниками, внучатами, приемышами, служителями, работниками и захребетниками; должны знать, когда кто родится или умрет (известия об этом можно получать от приходских священников), и присылать ежегодно в Главный магистрат ведомости о числе родившихся и умерших. Граждане должны быть разделены на три части, не включая гостей и гостиную сотню. В первом отделе, называемом первою гильдиею, находятся знатные купцы, городовые доктора, аптекари, лекари, судовые промышленники. Ко второй гильдии принадлежат торгующие мелочными товарами и всякими харчевыми припасами и ремесленные люди; остальные же, а именно все подлые люди, находящиеся в наймах, в черных работах и т. п., хотя суть и граждане и в гражданстве числятся, только к знатным и регулярным гражданам не принадлежат. Из каждой гильдии должно выбирать из первостатейных по нескольку человек в старшины, которые, особенно первой гильдии, во всех гражданских советах должны помогать магистрату; из этих старшин один избирается в старосты и один – к нему в товарищи, которые имеют попечение обо всем, что надлежит к гражданской пользе, и предлагают об этом магистрату; магистрат в важных делах должен старост и старшин призывать и с ними советоваться. В третьем разряде, между подлыми людьми, должны быть выборные старосты и десятские, которые доносят магистрату о всяких их нуждах. Старосты и старшины с согласия всех – граждан делают уравнение в подушном сборе, смотря по состоянию каждого гражданина, чтоб достаточные и несемейные облегчены, а средние, бедные и семьянистые отягчены не были. Магистраты должны стараться о размножении мануфактур или. рукоделий, особенно таких, которых прежде не бывало; ленивых и гуляк понуждать работать; стараться, чтоб дети не только зажиточных, но и бедных людей учились читать, писать и арифметике, и для того при церквах или где пристойно учредить школы; стараться, чтоб обедневшие, особенно престарелые и дряхлые, граждане мужского и женского пола в богадельни были пристроены, а посторонних, кроме граждан, в городовые богадельни не принимать. Где возможно, стараться учредить ярмарки. Смотреть, чтоб гражданам от посторонних разных чинов и от приезжих купецких людей в их торгах и ремеслах помешательства, также и приезжим купецким и уездным людям от граждан в ценах и проволочке времени утеснения и принуждения не было. Во всякие городовые и купечеству приличные службы употреблять из подлых или обедневших граждан, чтоб от того могли себе пропитание иметь и положенную подать платить. Если по смерти гражданина останутся малолетние дети, то магистрат должен смотреть, чтоб душеприказчики, назначенные родителями, имели малолетних сирот в добром призрении и воспитании, а имение их в добром хранении; если же родители сами не назначат душеприказчиков, то магистрат обязан выбрать людей добрых, кому во всем верить можно.
«Магистрат, – говорилось в инструкции, – имеет правдиво, честно и чинно себя держать, дабы в такой знатности и почтении были, как и в других государствах, и чтоб, яко действительные начальники, от граждан почитаны и от его императорского величества рангом удостоены быть могли».
Нерадения и беспорядки, господствовавшие в прежних ратушах при переменных по выборам бургомистрах, понудили Петра учредить для городового управления коллегию из постоянных членов, которых граждане должны были почитать как действительных начальников, но горожане посредством своих старост и старшин должны были принимать постоянное участие в делах городского управления.
Самый многочисленный класс первоначальных промышленников – хлебопашцы продолжали заявлять о своем незавидном положении побегами. Правительство не могло улучшить их быт освобождением от крепостной зависимости, повторяло указы об отдаче беглых людей и крестьян прежним помещиками с женами и детьми и со всеми их пожитками, о наказании старост и приказчиков за содержание беглых, о взыскании с владельцев деревень за позволение принимать беглых людей и за водворение их. Землевладельцы хотели было порешить и с половниками, но правительство удержалось от этой меры. В 1723 году император предписал переписчикам согласиться с землевладельцами северных областей (поморских городов) насчет половников, переходящих с одной земли на другую, и прислать в Сенат мнения, какой придумать способ, чтоб половники, переходя с места на место, не избывали подушного сбора. Переписчик бригадир Фамендин прислал мнение, чтобы половников в другие места не переводить и запретить им переход указами; такое же мнение прислал и полковник Солнцев, но генерал-майор Чекин писал, что хотя, по мнению землевладельцев, должно укрепить половников за ними как за помещиками, однако, по его мнению, половников укреплять в крестьянство не следует. Сенат в январе 1725 года согласился с Чекиным, позволил половникам вольный переход как с частных земель на казенные, так и наоборот, только каждому половнику позволено было переходить в одном своем уезде. Для облегчения участи крестьян у правительства осталось два средства: отстранять помещиков, могших употреблять во зло свое право, от управления крестьянами и при особенных неблагоприятных обстоятельствах для сельского хозяйства уменьшать крестьянские повинности. В первом отношении замечателен указ: «Понеже как после вышних, так и нижних чинов людей движимое и недвижимое имение дают в наследие детям их, таковым дуракам, что ни в какую науку и службу не годятся, а другие, несмотря на их дурачество, для богатства отдают за них дочерей своих и свойственниц замуж, от которых доброго наследия к государственной пользе надеяться не можно, к тому ж и оное имение, получа, беспутно расточают, а подданных бьют и мучат, и смертные убийства чинят, и недвижимое в пустоту приводят: того ради повелеваем как вышних, так и нижних чинов людям, и ежели у кого в фамилии ныне есть или впредь будут таковые, подавать о них известие в Сенат, а в Сенате свидетельствовать, и буде по свидетельству явятся таковые, которые ни в науку, ни в службу не годились и впредь не годятся, отнюдь жениться и замуж идтить не допускать и венечных памятей не давать, и деревень наследственных и никаких за ними не справливать, а велеть ведать такие деревни по приказной записке и их, негодных, с тех деревень кормить и снабдить ближним их родственникам, а буде родственников не будет, то ближним же их свойственникам». Летом 1723 года Сенат получил доношения из Московской губернии и других провинций, что вследствие неурожая, бывшего два года сряду, крестьяне находятся в самом бедственном положении, едят Льняное семя и дубовые желуди, мешая с мякиною, бывают по нескольку дней без пищи, многие от этого пухнут и умирают, иные села и деревни стоят пусты: крестьяне вышли в разные места для прокормления. А между тем, кроме денежных сборов, в одной Московской губернии показано провиантской недоимки 472832 четверти, и из Камер-коллегии для правежу этой недоимки посланы такие жестокие указы, что велено продавать пожитки и неплатящих ссылать в галерную работу, вследствие чего бедные крестьяне принуждены сами проситься в галерную работу. Сенат определил для таких нужд удержать правеж до 1 сентября нынешнего года и на 723 год провиантские положенные сборы сбирать в августе-месяце, как новый хлеб поспеет. Подушная перепись крестьян происходила с затруднением: в селе Лопатках Воронежского уезда поп Герасим возмущал жителей и приводил к кресту и евангелию, чтоб они людей и крестьян от. свидетельства утаивали и друг на друга в том не доносили; однодворцы Куркины по согласию с попом утаили крестьян и дали присягу. Виновные были казнены смертию. В апреле 1723 года в Петербургской губернии, в провинциях и в Олонецком уезде сверх прежде поданных сказок явилось прописных мужского пола душ 70492 человека.
Успех торговли и промышленности всякого рода зависел от состояния путей сообщения и общественной безопасности. Мы видели заботы преобразователя о том и другом, но дело новое встречало сильные препятствия, и прежде всего в природных условиях страны, громадной и малонаселенной. Осенью 1722 года голландский резидент ехал из Москвы в Петербург около пяти недель вследствие грязи и поломанных мостов, на одной станции 8 дней ждали лошадей. Но продолжительность пути и неудобства его были еще малым злом в сравнении с отсутствием безопасности на дорогах, в деревнях и на улицах городских. Мы видели, о чем прежде всего уведомил сенатор Матвеев, оставщийся в Москве представителем высшего учреждения, – о поимке и казни разбойников. В 1722 году сенаторы имели рассуждение и объявили московскому вице-губернатору Воейкову, что около Москвы умножились великие разбои и какие меры он принимает для их прекращения. Воейков отвечал, что у него для этого определены особые люди в Можайск и другие места, в остальные же места послать некого: драгуны стары, дряхлы и лошадей не имеют. По донесению голландского резидента, в конце 1722 года в Петербурге в один день казнили 24 разбойника: вешали, колесовали, вешали за ребра. Но жестокие казни не прекращали зла, и по-прежнему старались уменьшать число гулящих людей. В 1722 году велено было в Москве священнических детей, которые при переписи явятся лишними, определять кто куда захочет – в посад или к кому во двор, чтоб гулящих не было. Распоряжения против нищих продолжаются – доказательство их недействительности: «Слепых, дряхлых, увечных и престарелых, которые работать не могут, ни стеречь, а кормятся миром и не помнят, чьи они были, отдавать в богадельни. Малолетних, которые не помнят же, чьи они прежде были, которым 10 лет и выше, писать в матросы; а которые ниже тех лет, таких отдавать для воспитания тем, кто их к себе принять захочет, в вечное владение, и кому отданы будут, за теми писать в подушный сбор; а которых никто не примет, тех отдавать для пропитания в богадельни же, в которых им быть до десяти лет, а потом присылать в матросы же. В Москве, в Кремле и Китае-городе, велено строить всем каменные домы по улицам, а не во дворах и крыть черепицею, перед каждым домом мостить мосты (тротуары) из дикого камня, заборов не делать, а ставить тыны, чтоб ворам несвободно было перелазить. В рядах перед иконами велено ставить свечи в фонарях, а без фонарей нигде не ставить, потому что был от этого в рядах пожар великий и многие купцы пришли в разорение и скудость. Велено было сделать по концам улиц подъемные рогатки, которые по ночам опускать, и иметь при них вооруженные караулы из уличных жителей; у кого из них не будет ружья, те должны являться с грановитыми большими дубинами, все должны иметь трещотки».
Голод вызвал в 1723 году следующие меры: в местах, где обнаружился голод, велено описать у посторонних излишний хлеб, чей бы он ни был, и сделать смету, сколько кому всякого хлеба в год надобно для собственных и крестьянских расходов, и оставлять каждому хлеба на год или на полтора, а остальное раздавать неимущим крестьянам до нового хлеба, сколько кому будет нужно, взаймы с расписками, и, когда хлеб уродится, возвратить по распискам тем людям, у которых был взят. При раздаче хлеба смотреть накрепко, чтоб видом скудных и хлеба неимущих не брали такие, которые свой хлеб спрятали; также у купцов и промышленников хлеб описать, чтоб они, скупая у продавцов, не продавали высокою ценою и тем не причиняли бы народу большей тягости. Велено было из губерний и провинций доставлять в Камер-коллегию еженедельные ведомости об урожае хлеба и о справочных ценах.
Если изложенные препятствия к улучшению материального быта заключались, с одной стороны, в материальных условиях страны, то с другой – коренились в нравственном состоянии общества, далеко неудовлетворительном. Ссора Шафирова с Скорняковым-Писаревым во всех ее подробностях, поведение вельмож, фискалов, обращение сильных и служилых людей с людьми промышленными служат доказательством этой неудовлетворительности. Современники Петра рассказывали следующий случай: император, слушая в Сенате дела о казнокрадстве, сильно рассердился и сказал генерал-прокурору Ягужинскому: «Напиши именной указ, что если кто и настолько украдет, что можно купить веревку, то будет повешен». «Государь, – отвечал Ягужинский, – неужели вы хотите остаться императором один, без служителей и подданных? Мы все воруем, с тем только различием, что один больше и приметнее, чем другой». Петр рассмеялся и ничего не сказал на это. Приведем еще несколько резких примеров в другом роде. Давно уже известный нам дипломат сенатор князь Григорий Федорович Долгорукий в 1722 году испытал неприятность, которую он так описывал императору: «Сего декабря 18 числа по публичном вашего величества триумфальном въезде (по возвращении из Персидского похода) был я при вашем величестве во Преображенской съезжей избе, где по отлучении вашего величества князь Иван Ромодановский, умысля за партикулярную свою злобу по факциям моих злохотящих, бил меня и всякими скверными лаями лаял, называл меня вором и предателем государства, и будто ваше величество не только меня кнутом наказать, но и голову отсечь намерение иметь изволили; однакож я, опасаясь вашего величества гневу, во всем ему уступал и просил Гаврилу Ивановича (Головкина) и других, дабы его от того удержали; и он, выпустя других, велел снять с меня шпагу и взять за арест, как сущего вора, где мало не сутки был держан, и потом указом всемилостивейшей государыни императрицы свободился и у вашего величества за учиненную мне смертную обиду сатисфакции просил, о чем и ныне слезно прошу сотворить со мною милость, дабы мне не остаться навеки в нестерпимом ругательстве, також против всенародных прав учиненный публичный афронт характеру тайного действительного советника и вашего величества кавалерии без отмщения отпустить не изволили. Помилуй, государь, не дай мне беспорочный век мой ныне при старости безвременно окончить в бесчестии».
Приведем и рассказ других лиц об этом событии: «В этот день у князя Ромодановского, в Преображенском приказе, было в присутствии императора угощение для знатнейших русских вельмож, и государь, уезжая оттуда, просил хозяина продолжать хорошенько поить гостей, хотя все они были уже порядочно пьяны. Так как между князем Ромодановским и князем Долгоруким существовала давняя неприязнь и Долгорукий не хотел отвечать как следовало на предложенный ему Ромодановским тост, то оба старика после сильных ругательств схватились за волоса и по крайней мере полчаса били друг друга кулаками, причем никто из присутствовавших не потрудился разнять их. Князь Ромодановский, страшно пьяный, оказался, как рассказывают, слабейшим, однако после драки велел своим караульным арестовать Долгорукого, который в свою очередь, когда его опять освободили, не хотел из-под ареста ехать домой и говорил, что будет просить удовлетворения у императора. Но, вероятно, ссора эта ничем не кончится, потому что подобные кулачные схватки в нетрезвом виде случаются здесь нередко и остаются без последствий». Новый порядок вещей высказывается здесь тем, что Долгорукий протестует во имя всенародных прав против публичного афронта, нанесенного действительному тайному советнику и кавалеру (Андреевскому). Мы видели, что член Коллегии иностранных дел Степанов, жалуясь на подканцлера Шафирова, писал: «Я о моей персоне не говорю, только характер канцелярии советника не допускает не токмо побои, но и брани терпеть». Человек не обеспечен; начинают стремиться обеспечивать себя чином, ссылаясь на всенародные права. Мы должны приветствовать это начинание, ибо тем же путем, т. е. обращением более и более сильного внимания на всенародные права, общество мало-помалу придет к обеспечению человека как человека, а не советника канцелярии только.
Мало-помалу, ибо нравы народа не изменяются указами. Но если действительный тайный советник и кавалер не был обеспечен от публичного афронта, то что же приходилось терпеть людям, которые не были даже и советниками канцелярии? Мы это видели, говоря о положении промышленных людей. Если сановники, князья в личных своих или родовых ссорах позволяли себе публично позорить и бить друг друга, не понимая, какой вред наносят они всем своим, то нечего удивляться, что промышленные люди усобицами отягчали еще более свое незавидное положение. Вот пример: вятский купец Александр Шеин имел до 100000 рублей капитала и платил в казну с торгов своих по 3000 рублей пошлин. Поссорился он с женою и вздумал, по старому обычаю, постричь ее. Тесть Шеина Филатьев, узнав об этом, обратился с просьбою о помощи к свойственнику своему, дьяку страшного Преображенского приказа Нестерову. Дьяк помог: Шеина схватили и привели в Преображенское и сказали ему указ, что он за поклеп тещи своей, будто он испорчен ее происком, довелся смертной казни. Благодаря Ништадскому миру Шеин остался с головою, но был бит кнутом и сослан в Сибирь навеки, все имение конфисковано. Когда в 1723 году Петр, узнавши о сильных злоупотреблениях в Преображенском, велел публиковать, чтобы все объявляли, какие кто обиды потерпел от дьяков Преображенского приказа, то за Нестеровым нашлось много вин; движимое имение его император велел отдать московских мясных рядов старостам за мясо, взятое у них безденежно в Преображенское на корм зверям.
Астраханский губернатор Волынский продолжал отличаться бесцеремонностью своего обращения с ближними, подпал за это гневу Петра, но не унимался. Вследствие персидской войны он должен был в своей губернии иметь дело с двумя генералами – Кропотовым и Матюшкиным, с которыми не преминул поссориться. В одном письме, жалуясь на них Петру, он рассказывает следующее: «При сем я и мою продерзость вашему величеству доношу: обретается при астраханском порте мичман Егор Мещерский, который подлинно дурак и пьяница, и не только достоин быть мичманом, ни в квартирмейстерах не годится, и никакого дела приказать ему невозможно, что самая правда; и которые морские офицеры его знают, по совести и чести своей в том засвидетельствовать могут, что он таков, как я доношу. И, так ныне многие шалости показав, взят был в дом к генерал-лейтенанту г. Матюшкину для их домашней забавы, где его публично держали за дурака, и поили его, и вино на голову выливали, и зажигали, и называли его сажею, и прочие ему делывали дурачествы, и он, при них живучи, многих бранивал и бивал, что все терпели ему и упускали; между тем в доме его, г. Матюшкина, увеселяя их, выбранил меня, и жену мою, и дочь такою пакостною бранью, какой никому вытерпеть нельзя, что, слыша, г. Матюшкин не токмо ему возбранил, но еще и смеялся, что зело мне стало обидно, и для того я ему, г. Матюшкину, тогда же говорил, что мне сия брань зело чувственна, и я того не заслужил, и хотя ему, г. Матюшкину, гневно будет, однакож я такого ругания для его дурака терпеть не буду, на что он мне сам сказал, что он за дурака на меня сердиться не будет, как я хочу с ним. Мещерским; и потом я, увидав, что от него, г. Матюшкина, сатисфакции мне никакой не учинено, приманя его, Мещерского, к себе, и за то, что он мною других веселил, сажал его на деревянную кобылу, понеже не мог такого поношения вытерпеть».
Женщины не уступали мужчинам в продерзостях. В 1722 году в Тайной канцелярии держался дворцовый стряпчий Деревнин; ночью является туда царица Прасковья Федоровна, отнимает Деревнина у караульных и начинает его бить, служители ее жгут его свечами, обливают голову и лицо крепкою водкой и зажигают; несчастный сгорел бы, если бы караульные не погасили.
Русские люди понимали, что должно служить противодействием всех этих продерзостей – знание всенародных прав, могшее быть только следствием общей жизни с другими образованными народами, которая обязывала к образованию. Петр знал это лучше других и не хотел, чтоб его дочери были похожи на царицу Прасковью Федоровну: с 1715 года царевен Анну и Елисавету ежедневно учил по-французски Рамбур. Молодой человек, пришлец, усыновленный в России, которому суждено было быть одним из первых деятелей в нашей младенческой литературе, князь Антиох Кантемир в 1724 году обратился к Петру с самою доступною для преобразователя просьбой: «Крайнее желание имею учитися и склонность в себе усмотряю чрез латинский язык снискать науки, а именно знание истории древния и новыя и географии, юриспруденции и что к стату политическому надлежит; имею паки и к математическим наукам немалую охоту, также между дел и к минятуре. Но понеже вышепомянутые науки как рачительно снискиваются, так и удобнее приобретаются в знаменитых окрестных государств академиях, требуется к неколиколетнему так пребыванию и денежное иждивение, а сиротство мое и крайний в деньгах недостаток сами собою вашему императорскому величеству довольно ведомы суть, того ради прошу хотя малое что на тамошнее иждивение пожаловать».



