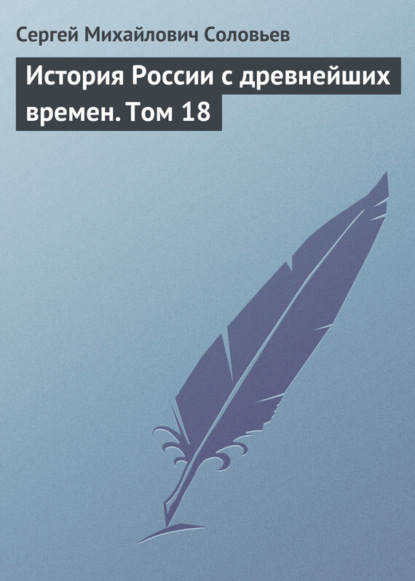 Полная версия
Полная версияПолная версия:
История России с древнейших времен. Том 18
Из слов преобразователя относительно герольдмейстерских обязанностей видно, в каком затруднительном положении находился он относительно служилых людей: для громадного, открытого со всех сторон и окруженного врагами государства нужны были войско и флот; выгодные внешние условия, в которых находилось теперь государство, были куплены страшным напряжением сил, но это напряжение не могло очень уменьшиться и теперь, ибо приобретенное значение и выгоды надобно было сохранить тем же средством, каким они были приобретены; и Петр твердит русским людям, чтоб они, удовольствовавшись приобретенным, не складывали рук, «дабы не иметь жребия монархии Греческой». А между тем для получения возможности сохранять приобретенное значение и выгоды посредством вооруженной силы необходимо было гражданское развитие государства, необходимо было прежде всего удовлетворительное состояние финансов; для этого нужна была наука, нужны были знающие люди, но откуда их взять? Их нужно приготовить из тех же служилых людей: «Герольдмейстер должен брать их из служилых людей и приготовлять для гражданства, но немного, чтоб не оскудить армии и флота». Таким образом, сильнее всего давало себя чувствовать это постоянное зло русской земли – физический недостаток в людях, несоответствие народонаселения пространству громадного государства. Но как бы тони было, развитие, начавшееся вследствие деятельности преобразовательной эпохи, остановиться не могло. От половины IX до конца XVII века Россия представляла первобытное государство с резким признаком неразвитости: служба военная не была отделена от гражданской; как при св. Владимире, так и при царе Алексее Михайловиче дружинники, или служилые люди, делившиеся на несколько разрядов, или чинов, были воины, но по окончании похода занимали и гражданские должности. Только при царе Федоре Алексеевиче, как мы видели, является мысль отделить гражданские должности от военных, но мысль эта осталась только на бумаге. При Петре развитию была дана такая сила, что разделение должностей явилось необходимостию, что и высказалось в Табели о рангах, где все должности, или чины, были размещены в известном порядке, по классам, и подле должностей, или чинов, военных являются гражданские и придворные. В январе 1722 года двое сенаторов, Головкин и Брюс, и двое генерал-майоров, Матюшкин и Дмитриев-Мамонов, сочинили Табель о рангах. В этой табели подле чина генерала от кавалерии или инфантерии видим чин действительного тайного советника; и это не был чин в нашем значении слова: действительные тайные советники на самом деле были членами Тайного совета, собиравшегося обыкновенно для обсуждения важных, преимущественно иностранных дел. Современники рассказывают, что когда Петр хотел возвести в действительные тайные советники графа Брюса, то последний сам отказался от этой чести, представив, что хотя он и верный подданный, но иноверец. В пунктах, приложенных к Табели о рангах, говорилось: «Сыновьям Российского государства князей, графов, баронов, знатнейшего дворянства, также служителей (чиновников) знатнейшего ранга, хотя мы позволяем для знатной их породы или их отцов, в публичной ассамблее знатных чинов, где двор находится, свободный доступ перед другими нижнего чина и охотно желаем видеть, чтоб они от других во всяких случаях по достоинству отличались, однако мы для того никому никакого ранга не позволяем, пока они нам и Отечеству никаких услуг не покажут и за оные характера не получат. Потомки служителей русского происхождения или иностранцев первых 8 рангов причисляются к лучшему старшему дворянству, хотя бы и низкой породы были. Понеже статские чины прежде не были распоряжены и для того почитай никто или зело мало надлежащим порядком снизу свой чин заслужил из дворян, а нужда, ныне необходимая, требует и в вышние (статские) чины, того ради брать, кто годен будет, хотя бы оный и никакого чина не имел. Но понеже сие в рангах будет оскорбительно воинским людям, которые во многие лета и какою жестокою службою оное получили, а увидят без заслуги себе равного или выше, того ради кто в который чин и возведен будет, то ему ранг заслуживать летами, как следует». К Табели о рангах приложен был также пункт о следствиях пытки для чести служащего человека: «В пытке бывает, что многие злодеи по злобе других приводят: того ради, который напрасно пытан, в бесчестные причесться не может, но надлежит ему дать нашу грамоту с изложением его невинности». Тогда же Петр распорядился, чтоб были рассмотрены случаи, когда употребляется пытка, и велел отменить ее в случаях неважных. Впоследствии именно отменена была пытка при розысках и порубке лесов. При сочинении Табели о рангах в Сенате возник вопрос о гербах, где и для чего, кому даваны; решено для примера сыскать и выписать из латинских и польских книг.
Давши Сенату стряпчего от государя и государства, Петр отправился в Персидский поход, Сенат остался в Москве. Но уже при самом отправлении императора в поход явились признаки, предвещавшие очень неприятные столкновения в Сенате без государя. В Коломне обер-прокурор Сената Скорняков-Писарев забежал к императрице с жалобами на свое положение вследствие ссоры с генерал-прокурором. Осенью 1722 года сам Петр получает от того же Скорнякова письмо, в котором, поздравляя со вступлением в Дербент, обер-прокурор прибавлял: «А без вашего величества жить нам, бедным, скучно». В этих словах заключалось не простое выражение преданности. В письме к Екатерине Скорняков объяснял причины своей скуки: «А без вас нам, бедным, жить зело трудно; о чем я вашему величеству в Коломне доносил, то уже с бедным, со мною и чинится: Павла Ивановича (Ягужинского) некоторые плуты привели на меня на недоброхотство, и, то видя, из господ Сената некоторые чинят мне обиды, а паче господин барон Шафиров великие чинит мне обиды, неоднократно в Сенате кричал на меня и в делах ваших при Павле Ивановиче говорить мне не велит, и в день получения ведомости о входе ваших величеств в Дербент в доме Павла Ивановича, видя меня зело шумного (пьяного), заколол было меня шпагою, и после того за мое спорное ему предложение называл меня в Сенате лживцем, чего уже мне по пожалованной вашим величеством саржи (должности) терпеть не мочно, токмо же о сем его императорскому величеству доносить не дерзаю, дабы тем его величество не утрудить, но вас, всемилостивейшую государыню, прошу, ежели от него чрез кого будут на меня, бедного, и помощи, кроме вас, не имеющего, какие наветы донесет, сие мое слезное прошение в полезное время его императорскому величеству (донести), дабы я, бедный, от него и от согласников его не понес напрасного оклеветания». Но скоро обер-прокурор потерял терпение и послал письмо прямо Петру с жалобами на свою горькую жизнь от нападений Шафирова, а нападения начались тогда, когда он, Писарев, поссорился с генерал-прокурором: «Живу в таких горестях, что не чаю жив дождаться вашего величества, ибо боюся, чтоб на мне не взыскалося неисправление дел, а что говорю, ничто не успевает, токмо же паче к злобе Павла Ивановича на меня приводят, и говорят мне явно яко оный Шафиров, тако и прочие ему подобные, чтоб я при Павле Ивановиче ничего не говорил, а ему злохитренно предлагают, что будто я у него в слова впадаю. И ныне паче на меня Павел Иванович по наговору от него, Шафирова, озлобился и публично при Сенате кричал на меня и бить челом хотел, а он, Шафиров, льстя ему, написал на меня ему доношение, в котором лицемерно его хвалил».
Между тем генерал-прокурору нужно было по приказанию императора выехать из Москвы; его должность должен был исправлять Скорняков-Писарев. Ягужинский написал по этому случаю Петру, что и при нем обычное сенатское несогласие не могло быть сдержано, ссоры и брани становятся все сильнее, а после его отъезда можно опасаться, чтоб партии страсти своей не продолжали; поэтому он, Ягужинский, отъезжая, оставил в Сенате письменное предложение, чтоб партикулярные ссоры и брани оставлены были до возвращения императора. Тут же генерал-прокурор объяснял Петру, что вся ссора пошла из-за почепского дела князя Меншикова, возникшего по жалобе гетмана Скоропадского, что светлейший завел себе к Почепу, которым владел, много лишних людей и земель. Подробнее рассказывал дело Шафиров в письме своем к Петру: «32 года я уже у дел, 25 лет лично известен вашему величеству и до сих пор ни от кого такой обиды и гонения не терпел, как от обер-прокурора Скорнякова-Писарева. Озлобился он на меня за то, что при слушании и сочинении приговора по делу князя Меншикова о размежевании земель почепских не захотел я допустить противного указам вашим. Писарев трудился изо всех сил склонить меня на свою сторону сначала наговорами, потом криком, стращал гневом князя Меншикова, но я остался непреклонным. По указу вашего величества велено было князю Меншикову отдать только то, что ему гетман после Полтавской баталии к Почепу дал; козаков почепских и других велено было из-за караула освободить и быть им по прежним их правам и вольностям, но в сенатском приговоре написано было, что посылается в Малороссию особый чиновник для исследования – принадлежат ли к Почепу сотни и города Баклань и Мглин, о козаках же вовсе умолчено. Увидавши такой неправильно сочиненный приговор, мы обратились к обер-секретарю с вопросом, для чего он позволил себе такую неправильность? Тут вскочил с своего места обер-прокурор и начал вместо обер-секретаря говорить с криком, что так следует написать для ясности и что нам на князя Меншикова посягать не надлежит. Я на то ему отвечал, что говорю с обер-секретарем, а не с ним, а он сам знает, что приговор составлен не так. Он принужден был уступить, и мы их фальшивый приговор почти весь перечернили».
В этом деле Шафиров торжествовал над Скорняковым-Писаревым, вместе торжествовала партия родовитых людей в лице сенаторов Голицына и Долгорукого над Меншиковым; Шафиров, человек худородный, был только орудием. Но при тогдашней общей легкой нравственности в служебных отношениях Шафиров дал возможность врагам своим поправиться и действовать на него наступательно: он позволил себе употребить свое сенаторское влияние для того, чтоб брату его, Михайле, было выдано лишнее жалованье при переходе из одной службы в другую. В другое время, при других отношениях, дело могло легко сойти с рук, но теперь за Шафировым смотрели самые зоркие глаза – глаза врагов. Скорняков-Писарев протестовал против незаконности дела; Шафиров должен был защищаться, а защищаться было крайне трудно, надобно было прибегать к отчаянным средствам: так, он требовал справиться, сделан ли вычет из жалованья у иноземцев, которые отпущены из службы, желая подвести своего брата под разряд иноземцев. Но обер-прокурор отвечал на эту натяжку: «Михайла Шафиров не иноземец, но жидовской природы, холопа боярского, прозванием Шаюшки, сын, а отец Шаюшкин был в Орше у школьника шафором, которого родственник и ныне обретается в Орше, жид Зелман». Шафиров возражал: «Его величество сам отца моего знать и жаловать изволил, и ни у кого он в кабальном холопстве не был, но хотя в малых самых летах пленен, однако еще при царе Федоре Алексеевиче в чин дворянский произведен, в котором и живот скончал». Скорняков писал: «Отец Шафирова служил в доме боярина Богдана Хитрово, а по смерти его сидел в шелковом ряду в лавке, и о том многие московские жители помнят».
Но Шафирова должна была более всего тревожить мысль, что при взгляде Петра на обязанности к государю и государству неумолимый император должен произнести строгий приговор над сенатором, решившимся пожертвовать казенным интересом в пользу брата. В письмах своих к Петру Шафиров называл дело неважным и обыкновенным и старался выставить вины Скорнякова-Писарева, писал: «Когда мы были в дому г. генерал-прокурора и при случившейся радостной ведомости о вступлении вашего величества в город Дербень веселились, то он, Писарев, начал сперва брань и драку с прокурором Юстиц-коллегии Ржевским и уже в другорядь его бил и пришел безо всякой причины и ко мне и начал меня поносить, будто я своровал и ту выписку брата своего, утаясь от него, подлогом сенаторам предложил, и хотя я зело шумен был, однако же дважды от него с учтивством отходил, но он в третие меня атаковал и не токмо бранью, но и побоями грозил, что, ежели б то от г. генерал-прокурора не пресечено было, конечно, могло и воспоследовать. Могу по присяге донести, что по отъезде г. генерал-прокурора не прошло ни одного сенатского сиденья, в котором бы обер-прокурор некоторых дел и приговоров по страсти и в противность вашим указам не предлагал и с криком и с бранью не принуждал господ сенаторей подписывать, что по благополучном нашего величества пришествии сюда могу ясно доказать. И маловажные дела прежде нужнейших от него по страсти предлагаются, и в том числе некоторые и такие дела, которые при г. генерал-прокуроре от нас уже решены. Вся злоба на меня происходит от неприятелей моих за то, что я, по должности своей присяжной, видя противности ваших интересов, не молчу, от которых токмо сие ныне доношу: 1) усмотрел я, что Воинская коллегия, протестуясь в невыдаче из статс-конторы по окладу надлежащих денег в оную коллегию, представляла, что оттого многие полки по году и больше без жалованья, отчего множество стало бежать, – предлагал я, дабы статс-контору принудить к выдаче немедленно денег на армию и притом оную и Камер-коллегию счесть, також чтоб и с Военною коллегиею счет учинить оным велеть. От оных коллегий счет учинен, и от статс-конторы показано, что хотя есть некоторая недодача за недостатком денег, но то чинится и для того, что Военная коллегия полного окладу не может никогда издержать, потому что армия никогда в комплекте не живет, к тому же офицеров, получающих иноземческий оклад, ныне немного, большие вычеты с офицеров, отпущенных по домам, штрафы, жалованье, оставшееся от мертвых и беглых, всех этих лишков Военная коллегия никогда не берет в расчет и претендует на полный комплект; и комиссарство доносит, что Военная коллегия по воле своей берет и из оного на неокладные расходы по нескольку сот тысяч, которым никогда счету не показывает, и оттого в окладные дачи солдатские и драгунские недостает. И я о том и при князе Меншикове, и без него обер-прокурору многократно говорил, чтоб взять у Военной коллегии подлинному приходу и расходу ведение, дабы знать, куды те деньги употреблены, но вместо исполнения за то от него и от других на себя вящее гонение навел. 2) По доношению из Военной коллегии в Сенат предложено, чтоб послать для розыску на Яик полковника с двумя роты, пехотною и драгунскою, и велеть тому притом переписать козаков всех, и выслать всех пришлых с 203 года, и велеть им отвозить оных на своих подводах до Казани, и буде они в том ослушны учинятся, то б послать два полка, пехотный и конный, на них и велеть к тому их принудить, а буде то все совершится, и то жь бы учинить и с донскими козаками. И я, ведая из уст самого князя Меншикова, что та посылка чинится более для того, понеже он сказывает, что тамо его мужиков будто с 500 человек с лишком, и я опасен, чтоб тем козаков, как и прежь сего, не подвигнуть к возмущению, предлагал, чтоб силою того не чинить, не донесши вашему величеству, и полков бы не посылать без указу, а буде противности их в розыску не явятся, то б по окончании оного повелеть бы переписать всех козаков, но до указу не вывозить, а прислать перепись наперед в Сенат, что зело противно князю Меншикову и Писареву было; но понеже сенаторы склонились на мое мнение, и того ради так приговор и учинен».
Для Петра не могло быть не ясно, что удары Шафирова направлены не столько на Писарева, сколько на человека, стоявшего сзади его, которого обер-прокурор был только верным слугою: первый пункт был направлен против Военной коллегии, но президентом ее был светлейший князь, второй пункт был прямо направлен против Меншикова. Враги Шафирова кроме непосредственных писем к императору действовали через императрицу, через Макарова; действовали и против Ягужинского, который был не на стороне светлейшего князя. Ягужинскому по его характеру не хотелось кому-нибудь кланяться, от кого-нибудь зависеть. Вероятно, не без соображения с этим характером Петр и назначил его генерал-прокурором. Писарев писал к тайному кабинет-секретарю: «Прежде сего послал я к вам об сиденье Павла Ивановича (Ягужинского) в Сенате об одном месяце, ныне же посылаю и на прочие три месяца, из которых изволишь усмотреть, что во многие дни в Сенате не бывал, а в иные и был по часу и полчаса, а то все чинилося от частых компаней и от лукавства Шафирова и от его единомышленников, подобных ему, ибо всегда ему предлагали, что изволь веселиться, а дела будут исправлены, а мне многажды сказывали, что на мне тех дел не взыщется, что чинилося при Павле Ивановиче, и ему лукавством говорили, чтоб мне при нем ничего не говорить, чем его на пущую злобу на меня привели».
Положение Шафирова было плохо вследствие дела о братнем жалованье, скоро оно еще ухудшилось вследствие сцены, происшедшей в Сенате 31 октября. В этот день слушалось дело о почте, дело личное для Шафирова, который управлял почтою. Во время рассуждения сенаторов входит Шафиров. Обер-прокурор говорит ему, что господа Сенат слушают и рассуждают о почтовом деле, которое лично до него касается, и потому он должен выйти вон, по указу ему быть не надлежит. «По твоему предложению я вон не пойду, тебе высылать меня непригоже», – отвечает Шафиров. Обер-прокурор снимает со шкафа доску, на которой наклеен был указ, предписавший судьям выходить при слушании дел о родственниках их, и читает указ. «Ты меня, как сенатора, вон не вышлешь, и указ о выходе сродникам к тому не следует», – говорит Шафиров и предлагает сенаторам, что он почтою был по его императорского величества указу пожалован во всем, как Виниус и его сын, о чем известно графу Головкину и князю Меншикову, и этого дела без именного указа решить им невозможно. Канцлер граф Головкин, давно непримиримый враг Шафирова, говорит, что такого именного указа нет, дело решить можно и Шафирову выйти вон надобно. После долгих разговоров обер-прокурор предлагает сенаторам, чтоб приказали наконец сделать так, как указ повелевает. «Что ты об этом предлагаешь! – кричт емy Шафиров. – Ты мой главный неприятель, и ты вор, и меня ты вором называешь и письменно протестовал, будто я государя обманул». Тут заговорил светлейший князь вместе с Головкиным, что если в Сенате обер-прокурор – вор, то как им дела отправлять? Скорняков-Писарев объявил, что ему оставаться больше нельзя. «Напрасно на меня гневаетесь и вон высылаете! – кричал Шафиров. – Вы и все мне главные неприятели, светлейший князь за почепское дело, а на графа Головкина у меня многое челобитье самому государю и в Сенате, и потому вам об этом приговаривать не надлежит». «Ты, пожалуйста, меня не убей», – говорит ему Меншиков. «Тебя убить! Ты всех побьешь!» – отвечал Шафиров. Меншиков объявляет, что, по словам Шафирова, он всех побьет. «Я не говорю, – отвечает Шафиров, – что ты всех побьешь, но можешь всех побить; я не помирволил тебе в почепском деле, и за то на меня от тебя злоба; только я за тебя, как Волконский и князь Матвей Гагарин, петли на голову не положу». Тут Меншиков, Головкин и Брюс вышли из Сената; Долгорукий, Голицын, Матвеев и Шафиров остались и объявили, что намерены слушать дела, но обер-прокурор объявил, что присутствовать не будет, потому что Шафиров при всех называл его вором. 2 ноября в отсутствие Шафирова Меншиков подал мнение, что Шафиров за противозаконные его действия должен быть отрешен от Сената. Сенаторы решили принять и записать предложение и доложить, когда приедет государь. 13 ноября явился в Сенат Шафиров и просил, чтоб сообщено было ему, какая учинена резолюция по предложению Меншикова на его счет; обер-прокурор отвечал, что ему дадут знать об этом, когда приговор будет закреплен, а теперь надобно слушать очередные дела. «Пожалуйста, ты со мною не говори, у меня с тобою ссора!» – отвечал ему Шафиров. «Надобно слушать дела, – повторял обер-прокурор, – мне велено вас в этом понуждать; вот указ!» «Боже милостивый! Мне тебя слушать!» – сказал Шафиров. 15 ноября опять была перебранка между Шафировым и Скорняковым-Писаревым. «Да будет вам известно, – говорил Шафиров сенаторам, – что обер-прокурор никогда ни о чем не дает мне говорить и теперь сердится на меня за то, что я напомнил о запущении дел в надворном суде». «Да будет известно, что барон почти каждый день в делах помешательства чинит», – говорил обер-прокурор. Шафиров предлагал, чтоб мнение на его счет Меншикова запечатать или заручить, чтоб его в чем-нибудь не переменили, и, вставши, примолвил, намекая на Меншикова: «Я в подряде не бывал, и шпага с меня снята не была».
Для решения дела ждали возвращения государя из персидского похода. 9 января 1723 года Петр прислал указ господам Сенату: «Доносили нам письменно в дороге, возвращающемуся из Персии, обер-прокурор Писарев на барона Шафирова, что он, когда дело его слушали о почте, вон по указу не вышел и назвал его вором, также и в иных делах противных; а барон Шафиров на него писал (и на некоторых из Сенату), что делает по страстям противно указу, которое дело ныне буду розыскивать, что надлежало б чинить в Сенате. Но понеже оба объявили противных себе в Сенате: Шафиров двух – князя Меншикова и графа Головкина, а Писарев глухо – Шафировых друзей, которому велите именовать, дабы с обеих сторон противным их в сем розыску не быть. Також объявить им, чтоб при том розыску как в доношениях, так и в ответах все писали или говорили о материи одной, о которой доносить или ответствовать будут на один токмо тот пункт, о чем спрашивают, а о другой бы материи отнюдь бы не упоминали под жестоким осуждением. И ежели что им каждому для оправдания какие списки из каких дел понадобятся, давали безвозбранно». Спрошенный по этому указу Писарев отвел князей Григория Федоровича Долгорукого и Дмитрия Михайловича Голицына. Суд, названный Вышним, был назначен из сенаторов Брюса, Мусина-Пушкина и Матвеева, из генералов Бутурлина, Головина, Дмитриева-Мамонова, бригадира Воейкова, полковника Блеклого, гвардейских капитанов Бредихина и Баскакова. Князья Долгорукий и Голицын, как свидетели, показывали в пользу Шафирова, но Меншиков, Брюс, Головкин, Мусин-Пушкин и Матвеев показывали в пользу Скорнякова-Писарева, против Шафирова. Долгорукий и Голицын из свидетелей сделались подсудимыми, ибо они вдвоем подписали указ о выдаче лишнего жалованья Михайле Шафирову и утверждали, что Шафиров мог оставаться в Сенате во время слушания и рассуждения о его деле. Шафиров, видя, что оправдан быть не может, написал письмо государю: «Припадая к стопам ног вашего императорского величества, слезно прошу прощения и помилования в преступлении моем, понеже я признаю, что прогневил ваше величество своим дерзновением в том, что по высылке обер-прокурора из Сената не вышел, також что дерзнул я по вопросу приказать приписать Кирееву (секретарю) в приговор брата своего о выдаче ему жалованья на третью треть по указу, разумея то, когда о той выдаче указ повелевает, и в том преступлении своем не могу пред вашим величеством никакого оправдания принесть, но молю покрыть то мое беззаконие кровом милости своея, понеже клянусь вышним, что учинил то бесхитростно. Помилуй меня, сирого и никого помощника, кроме вашего величества, неимущего». Князь Голицын написал: «Про указ о высылке судей при слушании дел о родственниках их ведал и говорил только с господами сенаторами разговором, и то сущею своею простотою, а не против указу, и в том прошу вашего императорского величества милостивого прощения». Князь Долгорукий отвечал, что про указ, что при слушании дел сродникам не быть, аккуратно и памятно он истинно не слыхал, понеже оный указ состоялся без него, а если б он о том указе обстоятельно был сведом, то б было ему и самому в пользу, понеже по причине свойства с бароном Шафировым мог бы он в слушанье о почтовом деле выписки вон выйти и тем всех трудностей избыть, да и другие сенаторы Шафирова вон не высылали. Однако он, князь Долгорукий, сие объявляет не для оправдания своего, понеже должно быть ему те указы обстоятельно ведать, и в том просит от его величества милостивого прощения, дабы напомнены были прежние его рабские службы.
Суд приговорил Шафирова к смертной казни по смыслу указа от 17 апреля 1722 года, «дабы никто не дерзал иным образом всякие дела вершить и располагать не против регламентам, не отговариваясь ничем, ниже толкуя инако; буде же кто оный указ преступит, под какою отговоркою ни есть, то, яко нарушитель прав государственных и противник власти, казнен будет смертию без всякия пощады, и чтоб никто не надеялся ни на какие свои заслуги, ежели в сию вину впадет». Кроме поведения своего в Сенате и выдачи лишнего жалованья брату Шафиров был обвинен в трате государевых денег на свои расходы во время поездки во Францию; у полковника Воронцовского взял в заклад деревню под видом займа, не дав ему ничего денег.
15 февраля, рано утром, Кремль уже был наполнен народом; в этот день назначена была смертная казнь сенатору и подканцлеру Шафирову. Осужденного в простых санях привезли из Преображенского приказа; по прочтении приговора сняли с него парик и старую шубу и взвели на эшафот, где он несколько раз перекрестился, стал на колена и положил голову на плаху. Топор палача уже взвился на воздухе, но ударил по дереву: тайный кабинет-секретарь Макаров провозгласил, что император в уважение заслуг Шафирова заменяет смертную казнь заточением в Сибирь. Шафиров поднялся на ноги и сошел с эшафота со слезами на глазах. В Сенате, куда привели Шафирова, старые товарищи жали ему руки и поздравляли с помилованием, но Шафиров оставался в мрачном расположении духа; говорят, что, когда медик, опасаясь следствий сильного потрясения, пустил ему кровь, то Шафиров сказал: «Лучше бы открыть мне большую жилу, чтоб разом избавить от мучения». Многие, особенно двор герцога голштинского и министры иностранные, искренно жалели о Шафирове, расхваливая его честность. «Правда, – говорили, – он был немного горяч, но все же легко принимал делаемые ему представления, и на его слово можно было вполне положиться». Петр освободил Шафирова и от ссылки в Сибирь; он содержался в Новгороде под строгим караулом, так что и в церковь не позволено было ходить; семейство находилось при нем, на содержание им давали 33 копейки в день. Но и Скорняков-Писарев не торжествовал. Петр нашел его поведение в Сенате незаконным и неприличным и разжаловал в солдаты с отобранием деревень. Но Петр не любил терять способных людей и определил бывшего обер-прокурора надсматривать за работами на Ладожском канале. И здесь Писарев имел несчастие заслужить неодобрение государя, что видно из резолюции Петра в мае 1724 года: «Сказать, что он за дерзновение брани в Сенате довольно наказан и в старый чин достоин был бы, но в канальном деле потачка и недосмотр; того ради за оную вину тому себя учинил недостойным, но для нынешнего торжества (коронации императрицы) и обличения Шафирова дается чин полковничий и половина взятых деревень». У Долгорукого и Голицына отняты были чины, сказан им домовый арест до указу и наложен штраф по 1550 рублей на гошпиталь за то, что, «не слушав выписки, учиненной по челобитью Михайлы Шафирова, и не освидетельствовав о надлежащей ему жалованной даче, прежде закрепы обер-секретарской за просьбу брата его, барона Шафирова, без согласия других сенаторов только двое продерзливо приговор подписали, по коему определили оному Шафирову выдать жалованье без вычету, да, сверх того, и на излишнюю треть. 2) Пренебрежением, хотя и неумышленно, но непорядочно поступили и говорили, будто Шафирову при слушании выписки можно быть». Долгорукий и Голицын обратились к императрице с просьбою о ходатайстве и получили освобождение от ареста и восстановлены были в чинах. Видели, как гордый князь Дмитрий Михайлович несколько раз стукал головою в землю перед Екатериною, благодаря ее за милостивое заступление. Но штраф снят не был. Голицын писал Макарову: «Заняв, 500 рублей заплатил, достальных не имею чем заплатить, опричь займов, и житье мое в Петербурге с убытком, не имею ни одного загона земли, все докупаючи, жил и двор строю в долг». Долгорукий писал о том же. В январе 1724 года Петр в присутствии своем в канцелярии Вышнего суда подписал «не править».



