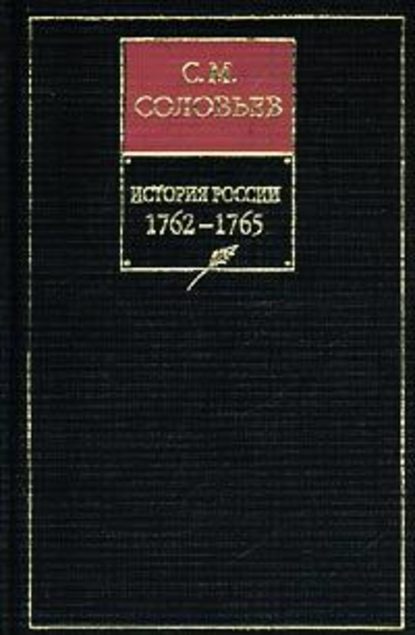 Полная версия
Полная версияИстория России с древнейших времен. Книга ХIII. 1762–1765
10 июня король и королева имели тайное свидание с Стахиевым в Дротнингольме. Король начал говорить, что, не имея возможности видеться наедине с графом Остерманом, он призвал к себе по старому знакомству его, Стахиева, для объяснения своих взглядов на работы настоящего сейма и для предостережения графа Остермана от фанатических сетей. Он, король, не имеет ни малейшего подозрения насчет благонамеренных предприятий императрицы, напротив, относится к нам с искреннею благодарностию и потому откровенно хочет сказать, как ему прискорбно видеть, что на сейме все сильнее и сильнее становятся движения фанатиков в руководствуемой императрицею партии, вследствие чего дела вместо желаемого поправления запутываются. Все это, впрочем, легко поправить, если граф Остерман с Гудриком захотят несколько обуздать своеволие некоторых фанатиков, которые, овладев доверенностью их и вождей партии, становятся час от часу несговорчивее и вместо должного почтения с пренебрежением отвергают все его благонамеренные советы, а иногда отвечают на них угрозами. Стахиев отвечал, что граф Остерман и он действуют постоянно в королевских интересах, но не могут скрыть, что некоторые из приближенных к его величеству людей основали особую партию под именем придворной, которая под предводительством полковника Синклера и губернатора Гамильтона, соединясь с французскою партиек), действовала против благонамеренных, обольщая трусливых людей покровительством его величества. Тут вступилась в разговор королева и начала утверждать, что, во-первых, мнимая придворная партия очень малочисленна и сама по себе ничего не значит, если фанатизм будет обуздан, ибо придворная партия только для этого и основана. «Я с своей стороны, – говорила королева, – могу вас уверить честию, что не отдаю никакого предпочтения французской партии, напротив, желаю ее укрощения, ибо сознаю все неудобства, истекающие из ее господства; но, признаюсь, не хочу взять на совесть личное гонение членов этой партии, особенно тех, которых я простила еще на последнем сейме, когда они обнаружили раскаяние и клятвенно обещались переменить свое поведение, соединясь на этом сейме с благонамеренными патриотами. Последние не прочь были от этого соединения, но, достигнув господства вследствие щедрой помощи из России, теперь вместо исправления государственных дел стараются только губить прощенных мною членов французской партии, чтоб тем сравнять меня с Мариею Медичи во мнении посторонних людей, которые никогда не поверят, чтоб мне нельзя было их спасти, когда раз я взяла их под свое покровительство. Я никогда не требовала для них высших мест в благонамеренной партии, но, зная недостаток в последней разумных и искусных людей, хотела на случай этого сейма присоединить некоторых из французской партии к благонамеренным в Секретном комитете, за что фанатики стали на меня клеветать, взводить на меня, что я хочу самодержавия и отдалась французской партиии; опасаюсь, что вожди благонамеренной партии и сам ландмаршал по природному своему легковерию разделяет такой взгляд на мое поведение: он уже давно перестал говорить со мною откровенно, особенно с того времени, как раз мне случилось вследствие данного мною прощения не согласиться с ним, чтоб на сейме потребовали отчета в управлении государственными делами с действительным наказанием преступникам. Все это дело прошлое, я более об этом говорить не хочу и прошу только, чтоб граф Остерман хотя несколько обуздал фанатическую запальчивость и воспрепятствовал изгнанию из Сената членов его, найденных виновными по вексельным делам, ибо я боюсь, что когда опустелые таким образом в Сенате места наполнятся новыми, в делах несведущими людьми, то эти новые сенаторы как люди, по-видимому не очень довольные королем, будут еще несговорчивее прежних относительно королевских прав и, пользуясь национальною слепотою, будут стараться о большем распространении сенатской власти, в чем успеют тем легче, что двор обвиняется неумеренностию в своих замыслах. Отдаю на ваше рассуждение, достигнется ли тогда желаемое вашим двором равновесие между тремя правительственными властями и может ли король ожидать себе лучшего жребия. Король и я, мы оба, уверены, что императрица не для того вмешалась в здешние дела, чтоб подвергнуть нас притеснению, отдать нас во власть необузданной партии, которая до сих пор скрывает от нас план своих операций, а вместо того предлагает нам нравоучительные наставления. Не могу не заметить также, что уже шестой месяц как тянется сейм, денег Издержано немало и ни одной прямой его операции не кончено». «Я и сам признаю, – отвечал Стахиев, – что на сейме дела затянулись, а причина – происки французской партии, которая старается ссорить благонамеренных для приведения дел в замешательство во всех четырех чинах. Вожди благонамеренной партии все более и более замечают холодность ваших величеств к себе, да и сами союзные министры с некоторого времени находятся в таком же положении, лишаясь счастия на куртагах говорить с вашими величествами».
«Я, – перебила королева, – уже это поправила и вперед буду поступать иначе. Что же касается вождей партии, то неудовольствие происходит от того, что всякий хочет быть первым и принудить нас себе кланяться». «Да, – проговорил король, – я уже не знаю, кому наконец угождать!»
2 августа Панин писал Остерману: «Когда шведский двор оказал нам такую неверность, то здравая политика требует, чтоб мы с своей стороны своим делам положили другое основание. Надобно теперь больше всего стараться об утверждении господства нашей партии в самом правительстве, чего можно достигнуть только переменою министерства и введением в Сенат некоторых членов из нашей партии, чем одним обеспечится ее твердость и безопасность после сейма, иначе с его окончанием может рассыпаться и сама партия. А так как этою самою реформою Сената народ удостоверится, что и при настоящем образе правления дела могут улучшаться, то, естественно, должно пройти и негодование его на эту форму, следовательно, и у нас пройдет опасение относительно ее перемены. Ваше сиятельство не имеете никакой нужды сообразоваться с желанием и выгодами шведского двора и должны обратить всю свою заботу на пользу и утверждение прочного господства благонамеренной партии, причем желательно было бы сократить еще более королевскую власть, чтоб у их шведских величеств осталось в памяти следствие двукратной их против нас неблагодарности и чтоб помнили они также, как вредно упорствовать против народного блага».
Сейм решил дело о браке наследного принца шведского Густава на датской принцессе. По этому поводу Панин писал Остерману: «Вы должны постараться, чтоб образ этого решения явно мог показать, во-1), королю и королеве шведским, что если б они не отвратили от себя поведением своим дружеское содействие императрицы, то, конечно, никто не мог бы их принудить на такой брак, который им так противен и который теперь совершается только вследствие неблагодарности их к ее императорскому величеству. 2) Датскому двору, что он успехом своим обязан не низкой и презренной своей политике заискивания покровительства и помощи французского двора, который если б и прямо хотел, то не мог бы ничего для него сделать, но единственно желанию и подкреплению ее императорского величества чрез преданную ей патриотическую партию. 3) Публике, что эта партия по истинному своему усердию к отечеству была единственным орудием и причиною датского брака».
11 марта был заключен оборонительный союз России с Даниею, в третьей секретной статье которого обе договаривающиеся державы согласились поддерживать основную конституцию Швеции и восстановить равновесие властей. Но в Петербурге узнали, что, несмотря на этот договор, датское правительство в угоду Франции ведет себя двусмысленно относительно шведских событий, что король Фридрих V дал 25000 талеров сенаторам из французской партии, лишившимся своих мест, именно Экеблату, Шеферу и Гамильтону. Панин поручил Корфу указать на это датскому министру иностранных дел Бернсторфу как на нарушение обязательств и потребовать от датского двора 50000 талеров, необходимых для вознаграждения того вреда, который сделан был 25000 талеров, пошедшими на подкуп духовного сословия. Бернсторф прислал Корфу оправдательное письмо, но Панин не удовлетворился его оправданиями. Бернсторф утверждал, что король дал 25000 талеров троим несчастным сенаторам из великодушия для их собственного употребления, а не для содействия французской партии, что такая ничтожная сумма не могла иметь никакого значения в сеймовых делах; но Панин указывал, что сумма была положена в Париже у банкира датским министром при французском дворе, была в распоряжении у Бретейля, который и распорядился ею. После этого, писал Панин, чего нельзя ожидать от французского посланника, когда он для сеймовых подкупов распорядился суммою, данною датским королем на вспомоществование сенаторам в их несчастии; Панин не отставал также от требования 50000 талеров, необходимых для общего дела.
Содержанием сношений с Англиею по-прежнему были бесплодные толки о союзе. Делали друг другу взаимные комплименты: Панин в заметках своих для императрицы называл англичан торгашами, лавочниками; новый английский посланник Макартней, жалуясь на медленность переговоров, писал своему министерству, что не может быть иначе в стране, где все дело ведется в лавках, величаемых коллегиями, и мелкими купцами, которых угодно называть членами комиссий. Это относительно торгового договора; что же касается политического союза, то Макартней нашел другого противника уже не в членах русских комиссий; он писал: «Король прусский не желает, чтоб русский двор имел других союзников, кроме него. Он воздвигал всевозможные препятствия в деле о договоре России с Данией». Граф Сольмс твердил Панину: «Англия в настоящую минуту не имеет союзников; Россия и Пруссия – единственные державы, с которыми она рано или поздно может вступить в союз; она принуждена заискивать в них; выждите этого времени, и тогда мы предпишем ей какие угодно условия». От 29 марта Гросс писал о разговоре своем с графом Сандвичем, который объявил, что венский двор продолжает беспокоиться по поводу военных приготовлений короля прусского и тесного союза этого государя с Россиею. «Я, – говорил Сандвич, – считаю неимоверным, чтоб теперь, когда все державы так удалены от возобновления войны, король прусский один захотел возбуждать замешательство, и потому опасения венского двора, кажется, излишни; но как бы то ни было, мы не почитаем сходным с здравою политикой преждевременно брать ту или другую сторону, хотя венский двор делает нам всякие дружеские внушения». Гросс заметил, что, вероятно, венский двор по соглашению с своими союзниками Франциею и Испаниею хочет этими внушениями удержать Англию от союза с Россиею. «Действительно, – отвечал Сандвич, – венский двор сильно бы встревожился от возобновления нашего союза; но я могу вас уверить, что его британское величество всего более желает этого союза и готов заключить его немедленно, как скоро императрица согласится на простое возобновление старого договора без обязательства со стороны Англии помогать против Турции; такой договор послужил бы хорошим основанием, по которому можно было бы распространять обязательства мало-помалу, а не вдруг». Панин написал на донесении Гросса об этом разговор. Все содержание сей реляции состоит в тонких английских инсинуациях, чтоб и нас к союзу больше интересовать, и себе лучшие кондиции доставить».
В Англии переменилось министерство; в России думали, что дело присоединения Англии к северной системе пойдет теперь живее. И действительно, новые английские министры хвалили русский план – противопоставить Северный союз фамильному договору между Франциею и Испаниею и союзу этих держав с Австрией; но статс-секретарь северного департамента герцог Графтон опять объявил Гроссу, что в союзном договоре с Россиею нельзя допустить случая союза относительно Турции, ибо такое допущение было бы гибельно для английской торговли в Турции. Гросс заметил, что Франция в своем союзном договоре с Австриею давно уже приняла обязательство помогать последней против Турции, однако ни в рассуждении своей торговли в турецких владениях, ни относительно своего влияния при Порте никакого ущерба не понесла и странно, что такая сильная держава, как Англия, более показывает робости пред турками, чем Франция, тем более что императрица не требует от Англии действительной помощи войском или флотом, а только небольшой денежной субсидии. Графтон отвечал, что по доброте и дешевизне французских товаров, особливо каркасонских сукон, турки не могут без них обойтись, но легко могут запретить ввоз английских товаров. «Я уверен, – говорил Графтон, – что английская торговля в Турции погибнет, если мы в союзный договор с вами внесем известное обязательство, и потому не могу присоветовать этого королю да не думаю, чтоб и сам Питт осмелился бы склонять короля к этому поступку, который подвергся бы порицанию всей нации».
Панин, уведомляя Гросса от 9 августа о заключении торгового договора между Россиею и Англиею, писал: «По моему мнению, вам о возобновлении союзного трактата много вызываться не надобно, дабы инако не показать, что мы об оном много жадничаем». Но Панин требовал, чтоб Гросс убедил новое министерство действовать сильнее в Швеции, помогать здесь России деньгами. Потом Панин твердил Гроссу, что союзный договор никак не может быть заключен без включения Турции в случае союза; это условие необходимо не потому, чтобы мы турецкую войну поставляли для себя опаснее и тягостнее других, но для того только, чтоб в рассуждении ее сохранить перед Англиею совершенное равенство с прочими нашими союзниками, которые эту войну наравне с другими признали за случай общего их с нами союза, и для того еще, чтоб уступкою этого пункта не показать, что мы союзы европейских держав поставляем для себя нужнее, нежели сколько, по признанию нашему, наш собственный союз может им быть нужен и полезен.
Глава третья
Просвещение в России от основания Московского университета до смерти Ломоносова. 1755—1765 годыВлияние французской литературы при Елисавете и Екатерине II. – Умственное движение во Франции в описываемое время. Отношения русских людей к западному просвещению при Елисавете. – Сношения Вольтера с Ив. Ив. Шуваловым при Елисавете. – Отношения Екатерины II к Вольтеру, Даламберу, Дидро. – Переписка Екатерины с Жоффрэн. – Воспитание великого князя. – Порошин, его «Записки», его судьба. – Последняя деятельность Ломоносова и Тредиаковского. – Мюллер. – Шлецер. – Московский университет. – Казанская гимназия. – Корпуса. – Посылка воспитанников духовных училищ за границу. – Частное воспитание. – Напоминание Синода о религиозно-нравственном воспитании. – Крестинин. – Новые воспитательные учреждения при Екатерине II; Бецкий. – Литература. – Театр. – Искусство.
Мы уже говорили о тесной связи между двумя царствованиями – Елисаветы и Екатерины II. Основа этой связи заключается в одинаковом нравственном движении общества, происходившем от одинаковых условий народного роста в последнее десятилетие первой половины XVIII века и в первые десятилетия второй половины. Екатерина вместе со многими сотрудниками своими воспитывалась, росла этим общим ростом при Елисавете. Никита Ив. Панин не мог бы сказать, что чуть его паралич не убил, когда он читал дело Волынского, если б между временем Анны и временем Екатерины не прошло время Елисаветы. Характер последней и благоприятные условия ее царствования, в которое Россия могла прийти в себя, естественно, должны были вести к развитию литературному. Но это развитие не могло совершаться независимо: Россия вошла уже в общую жизнь Европы, вошла недавно, и потому необходимо все внимание ее было обращено на Запад, к народам, старшим по цивилизации, следовательно, русская мысль и ее выражения не могли остаться без сильного влияния умственной жизни на Западе. Западная умственная жизнь как при Елисавете, так и при Екатерине находилась в одинаких условиях, находилась под влиянием французской литературы, следовательно, это же влияние должно было заметным образом отразиться и в русской умственной жизни, а потому нам нельзя оставлять без внимания важнейших явлений французской литературы описываемого времени. Мы приступаем к истории русского просвещения в десятилетие от основания Московского университета до смерти Ломоносова; но именно в это десятилетие почти завершилось то движение во французской литературе, которое имело такое решительное влияние на умственную жизнь в целой Европе.
Влияние французского языка и литературы, столь сильное при великом короле Людовике XIV и так много обязанное ему своею силою, нисколько не ослабело, но еще более увеличилось в царствование слабого преемника его Людовика XV. При великом короле французская литература подчинялась его влиянию, сдерживалась им и приспособлялась к нему; при Людовике XV она не находила для себя более сдержки ни в государственной власти, ни в обществе, а, напротив, и здесь и там было много условий, которые, с одной стороны, заставили внимательно вглядеться в окружающие явления, указать на многие темные стороны существующего порядка, потребовать соблюдения важных общественных интересов, сделать полезные, прямо «просветительные» выводы; а с другой стороны, позволили ей до того увлечься отрицательным направлением, что она стала враждебна не только к существующим формам государственной власти, но и к общественным основам. Усиление королевской власти при Людовике XIV было необходимою реакциею смуте, известной под именем Фронды, показавшей несостоятельность людей и целых учреждений, которые хотели произвесть какой-то переворот; причем английская революция не осталась без влияния на восприимчивых французов. Но в Англии смута кончилась сильною и тяжелою властию лорда-протектора, а потом восстановлением Стюартов; и в Англии отнеслись к революции как явлению печальному, как бунту; тем более Франция, изнуренная бесплодною Фрондою, должна была желать сильной королевской власти. Людовик XIV удовлетворил этому желанию и сначала оправдал его, давши много блеску и славы народу, страстному к блеску и славе. Но Людовик XIV в свою очередь перешел границы в стремлении усилить свою власть, что опять вызывало реакцию, тем более что великий король оставил Францию в крайне печальном положении, возбуждавшем недоверие к началам, которыми руководился Людовик. Естественно, возбуждался вопрос о необходимости искания новых начал для более удовлетворительной установки народной жизни.
При таком положении дел, разумеется, важное значение должна была иметь личность нового короля. Вместо Людовика XIV, который умел так несравненно представлять короля, играть роль государя и этим очаровывать свой народ, страстный к великолепным представлениям, к искусному разыгрыванию ролей, вместо короля, который оставил много блеска, много славы, много памятников искусств и литературы, который если не успел дать Франции политическую игемонию в Европе, то удержал за ней игемонию языка и литературы, игемонию обычая французской общественной жизни, вместо такого короля явился король, соединявший в своей личности все условия для того, чтоб уронить верховную власть, явился человек, отличавшийся необыкновенным нравственным бессилием. У Людовика XV не было недостатка в ясности ума, но бессилие воли было таково, что при полном сознании необходимости какого-нибудь решения он соглашался с решением противоположным, какого хотели любовницы и министры, им созданные. Отсутствие воли сделало из неограниченного монарха притворщика и обманщика, интригана, любящего мелкие средства и извилистые дороги; мы видели, как он тайком от своих министров вел свою особую дипломатическую переписку.
Сознавая бессилие своей воли, Людовик XV не передал правления энергическому министру вроде кардинала Ришелье; он, как ленивый султан, заперся в гареме, оставив судьбы государства на произвол интригам любимых женщин и клиентов их; вместо короля, похожего на последних Меровингов, не управлял никто похожий на Мартелла. Подле своих королей Франция привыкла видеть блестящую аристократию: как великолепный король Франции служил образцом для государей Европы, так блестящее дворянство Франции служило образцом для дворянства остальной Европы. Воинственная и славолюбивая нация достойно представлялась своим дворянством, которое выставило столько героев, прославивших французское оружие, и приобрело значение первого войска в мире. Но по замечательному соответствию падение монархического начала во Франции вследствие слабости преемника Людовика XIV последовало одновременно с нравственным падением французского дворянства, с помрачением славы французского войска. Людовик XIV, который наследовал своих знаменитых полководцев от времени предшествовавшего, не воспитал новых, несмотря на свои частые войны: доказательство, что война может служить школою для существующих талантов, но не создает талантов, когда круг, из которого они могут явиться, ограничен и потому легко истощается частыми войнами. Таким образом, две силы, действовавшие постоянно в челе народа и достойно его представлявшие, отказываются от своей деятельности. Отказывается от своей деятельности и духовенство, которое не выставляет более из своей среды Боссюэтов и Фенелонов, не может нравственными средствами бороться против врагов религии, старается употреблять против них только материальные средства, что, разумеется, могло только содействовать падению духовного авторитета. Но как скоро действовавшие прежде на первом плане силы отказываются от своей деятельности, являются несостоятельными, то и начинает приготовляться болезненный переворот, перестановка сил, называемая революцией. Это приготовление обнаруживается в отрицательном отношении к тому, что имело авторитет и что представлялось теперь формою без содержания, без духа, без силы. В организме французского общества в это время происходило то, что происходит во всяком организме, где известный орган омертвеет или в организм втиснется какое-нибудь чуждое, бесполезное тело: в организме тогда чувствуется тоскливое желание освободиться от такого омертвевшего органа или чуждого тела, не участвующих в общей жизни, ничего не дающих ей.
Это отрицательное отношение к старым авторитетам необходимо должно было отразиться в общественном слове, разговоре, который становился все громче и громче. Прежде высоко поднимался двор, блестящий, несравненный двор Людовика XIV: здесь было действительное величие, внушавшее уважение, сила, с которою каждому должно было считаться; в этом храме действительно обитало божество, пред которым каждый преклонялся. Внимание всех было обращено туда, к этому действительному средоточию силы и власти. Но после Людовика XIV двор потерял прежнее значение, прежнее обаяние, которые давал ему великий король, дух исчезал, оставалось одно внешнее, и само значение переходит в другие частные круги, где сходятся пожить общественной жизнию, а для француза это значило играть роль, блистать, овладевать вниманием, нравиться. Но чем же блистать, возбуждать внимание, нравиться? Движение прекратилось: нет больше религиозной борьбы; нет больше борьбы партий, происходившей от честолюбивых стремлений принцев крови, могущественных вельмож; нет более таких сильных лиц, которые, привязавшись к народному неудовольствию, могли поднять движение вроде Фронды; нет более того сильного внутреннего, и особенно военного, движения, какое было поднято великим королем и так поразило воображение народа, так заняло его внимание; нет и тех печальных, страшных минут, какие пережила Франция в последнее время Людовика XIV; нет движения, деятельности; остается один разговор, но в чем же он мог состоять? Сочувственно относиться было не к чему, и относились отрицательно, враждебно. Но и здесь сериозное отношение, вдумывание в причины зла и придумывание средств к его уничтожению возможны были лишь для немногих; у большинства же неприязненное отношение к настоящему должно было выражаться в насмешке над ним, которой помогал и склад французского ума, и самая постановка окружающих явлений, где форма не соответствовала более содержанию, дела не соответствовали значению лиц, их совершавших, а такое несоответствие именно и возбуждает насмешку.
Насмешка не щадила ничего. Уже шел третий век, как западноевропейские народы переступили из своей древней истории, когда у них преобладало чувство, в новую, которая знаменуется развитием ума на счет чувства. Как обыкновенно бывает при этом переходе в жизни народов, ум западных народов, возбужденный к деятельности расширением сферы знания, знакомством с новыми народами и странами посредством мореплавания, открытия путей и земель, возбужденный изучением древнего классического мира, стал критически относиться к тому, чем до сих пор жилось, во что верилось; с этого времени, времени поклонения чуждому гению, гению классической древности, столь могущественному, так поразившему воображение памятниками искусства и мысли, начинается отрицательное отношение к своему, к своему прошедшему, к своей древней истории или к так называемым средним векам, к религиозному чувству, господствовавшему в эти века, и ко всем последствиям этого господства. Враждебность начала, стремившегося теперь господствовать, к прежде господствовавшему началу, мысли к чувству высказывалась очевидно: все, что напоминало чувство, основывалось на нем, происходило от него, все это было объявлено предрассудком. Исполненным предрассудков являлся прежний быт и потому подлежал коренным изменениям, после чего должен был явиться новый мир отношений человеческих, основанный на законах и требованиях одного разума человеческого. Это стремление обозначилось в самом начале новой истории и постепенно прокладывало себе все более и более широкую дорогу, встречая в разных странах более или менее сильные препятствия, притаиваясь на время при невзгоде и вырываясь наружу при первом благоприятном обстоятельстве. В сфере религиозной оно высказалось в восстании против авторитета римской церкви, в учениях крайних протестантских сект; но вслед за тем явились учения, которые совершенно покончили с положительною и даже со всякою религиею. Разумеется, сначала эти учения подвергались преследованиям от церкви и государства, должны были скрываться, но не исчезали. Во Франции в XVII веке эти учения встретили сопротивление в янсенизме, в сильном церковно-литературном движении при Людовике XIV, в поддержке, которую церковь нашла у великого короля, встретили сопротивление, но продолжали жить втихомолку, дожидаясь своего времени. Это время пришло, когда умер Людовик XIV, когда вследствие слабости и недостоинства его преемника началось высказываться отрицательное отношение народной мысли к существующему порядку. Вождем этого нового литературного движения является Вольтер. Он начинает легкими сатирическими стишками, по подозрению сидит в Бастилии и 24 лет ставит на театре свою первую пьесу – «Эдип», возбудившую сильное внимание и начавшую новую эпоху во французской и европейской континентальной литературе. Время чистого искусства, время Корнеля и Расина, прошло для Франции. В Англии вследствие раннего начала политических движений политические идеи вторглись в область искусства: здесь политические партии в стихах поэта, произносимых со сцены, в речах римлян, выведенных им в своей пиесе, видели указания на борьбу политических партий в Англии. Теперь во Франции в литературу вторгаются идеи, обозначавшие начала борьбы с существующим порядком, отрицательное отношение общества к нему. Мысли, которые занимают общество, которые составляют любимый предмет разговоров в гостиных, входят в литературу, в публичное слово; разумеется, в публичном слове они не могли высказываться в тогдашней Франции свободно, они должны были являться в виде намеков; сочинения же, в которых они высказывались с полною свободою, или ходили в рукописях, или печатались за границею. То сочинение могло рассчитывать на верный успех, где общество встречало мысли, которые его занимали, и сочинения Вольтера, появлявшиеся беспрестанно в разных формах – трагедии, повести, исторической монографии, полемической статейки, все были наполнены этими мыслями или намеками на них. То, что в гостиных и кафе, вошедших тогда в моду, высказывалось отрывочно, смутно, то даровитый автор обрабатывал в стройное целое, пояснял примерами, излагал увлекательно, с необыкновенным остроумием, не глубоко, но легко, общедоступно. Что было предметом сильных желаний, что могло откровенно высказываться только в своем кружке, в четырех стенах гостиной, то вдруг слышали произносимым в звучном стихе при многочисленной публике, на театральной сцене. Впечатление было могущественное, и автор приобретал чрезвычайную популярность: общество было благодарно своему верному слуге, глашатаю своих мыслей и желаний, удивлялось его смелости, геройству, решимости публично высказывать то, о чем другие говорили только втихомолку. Успех Вольтера был обеспечен тем, что он явился верным слугою направления, которое брало верх, для большинства было модным, явился проповедником царства разума человеческого и потому заклятым врагом, порицателем того времени, когда господствовало чувство, заклятым врагом церкви, христианства, всякой положительной религии, определяющей отношения к высшему, духовному миру, пред которыми разум человеческий несостоятелен и должен преклоняться пред высшим авторитетом, пред таинственными, недоступными для него явлениями. В «Эдипе» поклонники разума уже рукоплескали знаменитым стихам, которые вовсе не шли ко времени Эдипа, но в которых под языческими жрецами выставлялось современное духовенство: «Наши жрецы вовсе не то, что простой народ о них думает, наше легковерие составляет всю их мудрость».
Вы ознакомились с фрагментом книги.



