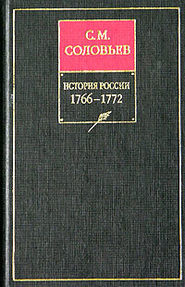 Полная версия
Полная версияИстория России с древнейших времен. Книга XIV. 1766–1772
В Погаре городским головою был выбран Денис Привалов, который и велел собраться всем жителям города для избрания депутата; но многие «из воинского звания и разночинцы» на выборы не пошли; и когда Привалов начал вести дело с одними мещанами и пришел в магистрат с пятью членами, избранными для написания наказа, то войт Панас со шляхетством выгнал их из магистрата. Когда в другой раз Привалов с мещанами хотел идти в магистрат для прочтения наказа, то Панас запер магистрат и их туда не пустил. Привалов, однако, настоял на исполнении указа и собрал жителей Погара в магистрат для слушания наказа. Два дня читали наказ спокойно, но на третий Панас стал толковать, что не надобно слушать новизны и склоняться к ней, не надобно смотреть ни на какие сторонние страхи, что новизне перед стариною во многом стыдно и показаться, новизна того, что встарину сделано, поправить не может, и наустил бывшего прежде войтом в Погаре Песоцкого, его сына, земского писаря войтовского товарища Соболевского, священникова сына Сороку, сыновей бывшего мещанина Джури и прочих чиновников, бывших прежде мещанами, казаков-урядников и некоторых мещан вооружиться против наказа, сочиненного для вручения депутату. Они стали шуметь, порицая тех пять человек, которые были выбраны для сочинения наказа, желая сами быть выбранными, но это им не удалось; когда же Привалов повестил всем гражданам собраться для слушания и подписи наказа, то противники объявили, что они уже послали к генерал-губернатору просьбу, чтоб выбрать другого голову, а Привалова отставить и до получения резолюции слушаться Привалова не будут. В просьбе своей они писали, что Привалов был выбран по большей части мещанами самыми простыми и неграмотными, голова он был «недостаточный», сам собою, без ведома горожан принялся за сочинение наказа, в магистрате шумел, бранился и многих исключал из общества, к сочинению наказа выбрал людей, которые и простого письма написать не умеют. Но они не дождались благоприятной для себя резолюции. Румянцев послал в Погар члена Малороссийской коллегии кн. Мещерского исследовать дело; посланный произвел следствие, отыскал неблагонамеренные письма Панаса к стародубскому полковому писарю Косачу, вследствие чего Румянцев донес Сенату о сумасбродстве Панаса, который, «стараясь своим велеречием и мнимым патриотическим усердием и твердостью к старине простосердечной будто наклонять, и в самом деле умышлял, исключая некоторые пункты, для себя токмо полезные, вперять отвращение ко всякой перемене, касаясь толковать и рассуждать дерзостно прямо, коль в сочинении новых законов мало пользы ожидать надлежит». Сенат приказал: генерал-губернатору над Панасом произвести суд и, чего он по законам достоин будет, представить с мнением в Сенат.
О Запорожье Румянцев писал, что там полковник Милорадович «препорученное ему дело со всею благопристойностию окончил». Но в том же 1767 году из Сечи пришел сильный донос. Доносил Войска Запорожского низового полковой старшина Павел Савицкий на кошевого атамана Кальнишевского: когда в 1766 году в октябре кошевой приехал домой от Румянцева, то, запершись в своей спальне, начал говорить своему писарю: «Как видно, нечего надеяться от них, а надобно отписать к турецкому императору и, выбрав в войске добрых 20 человек, послать с прошением принять под турецкое покровительство; а в войско напишем, чтоб все в готовности и исправности были к походу: напишем, что если великороссийская регулярная или гусарская какая-либо команда в запорожские дачи войдет, то чтоб ни одного человека не впустили в границу, а если б стали насильно входить в дачи запорожские, то поступили бы с ними как с неприятелями». «Писали ль к турецкому императору или нет, сказать не могу, – доносил Савицкий, – а в войско точно моею рукою сперва через полковника Антона Красовского в прошлом 1766 году в августе месяце, а потом через есаула в октябре писали, чтоб все в готовности были к походу против России и не пропускали б в свою границу ни зачем ни одного русского». На этот раз донос остался без следствий.
На восточной украйне относительно комиссии сделано было особенное любопытное распоряжение: оренбургскому губернатору Путятину Сенат писал указ, чтоб он отправляющимся из его губернии в комиссию депутатам сообщил подробные сведения и объяснения о разных способах, касающихся восстановления в губернии его безопасности от колеблющегося народа магометанского закона. Наконец, из далекой Сибири по поводу комиссии пришло известие веселого свойства. Сибирский губернатор Денис Чичерин писал брату своему генерал-полицеймейстеру Николаю Чичерину: «Поехали от меня два принца, получившие диплом на княжество от царя Годунова: один – Обдорский, а другой – Куновацкий Березовского ведомства, кочующие к самому Северному океану по устьям реки Оби. Выезд их по силе манифеста о депутатах, однако ж ни нужд, ни поверенности – ничего при себе не имеют, а только меня спросили: ездит ли государыня по улицам, и как им сказано, что изволит выезжать, то, упав в ноги, просили, чтоб я их, конечно, отправил. Желание их в том, чтоб в проезд увидеть государыню. И повезли в подарок 6 лисиц черных и дипломы с собой повезли ж объявить у вас: пущай знают, что мы князья, а не подлые. Не могу, братец, изъяснить, сколько здешние дикие народы искренности и верности имеют к государыне и как освящают все то, где указ императрицы Екатерины Алексеевны написан; и так принужден, когда в дикие улусы указы пишу, прописывать высочайшее имя. Как туда дойдет, сходятся великими толпами с женами и детьми, целуют губами и лбом написанное имя и маленьких детей прикладывают; и тот день, когда в указе им имя государынино упомянется, великое торжество – вот что сделала милость государынина учреждением поясачной комиссии, что они спокойнейшею жизнию доставлены. Вы найдете в сих моих принцах двух дикеньких зверьков, странных видом, странных и одеянием. По именному указу велено их, ежели полный ясак заплатят без доимки, дарить. Почему и подарил я их по сукну; и сделали себе платье своим покроем; знаю, как пойдут в Москве по улицам, запрут проезд, и дядьку с ними я послал. Как государыня изволит обо всех подробностях любопытствовать, то, кажется, не излишнее вам при случае об них донесть, может быть, не будет ли соизволение их видеть. Я за своих принцев ручаюсь, что не ударят себя лицом в грязь, фигуру сделают при дворе не хуже французских, а особливо танцевать и песни петь не итальянцам вашим чета; впрочем, братец, пожалуй их, приласкай и не оставь, особливо квартерою их снабди, по их дикости не могут найтить места».
В то время когда из всех концов России собирались ехать в Москву выбранные депутаты для комиссии о новом Уложении, сочинительница наказа путешествовала по Азии, как она любила выражаться в письмах к своим западноевропейским друзьям-философам. В конце апреля Екатерина выехала из Москвы, давши генерал-рекетмейстеру Козлову приказание: «Во время моего отсюда отсутствия продолжайте почасту ходить по коллегиям, дабы те порядки пока не пришли в упадок, которые, мы, слава Богу, хотя с трудом завели». 29 апреля она приехала в Тверь, где 2 мая села на суда и отправилась по Волге. 7 мая, не доезжая устьев Мологи, путешественники целый день задержаны были сильным противным и холодным ветром. На другой день Екатерина писала Панину, оставшемуся в Москве с великим князем: «Сегодня идем всячески и с нарочитым успехом, хотя погода и противна; только лихо дойти до устья Мологи: там уже река вдвое шире и меньше вьется. Мы все здоровы, и в гошпитале лишь 5 человек больных, хотя в моей свите близко двух тысяч человек всякого звания».
9 мая Екатерина приехала в Ярославль и на другой день писала Панину: «Собираюсь ехать на разные фабрики. Чужестранные министры все здесь в полном удовольствии. Изволь-ка мне прислать дела, я весьма праздно живу». В Ярославле в это время шло трудное для разбора и неприятное дело по поводу столкновения крупного купечества с мелким. К приезду императрицы купцов уговорили подать ей следующую просьбу: «Бьют челом ярославские первостатейные, и среднестатейные, и мелкостатейные купцы. Известно вашему имп. в-ству по прошениям здешнего сред-нестатейного купечества на первостатейных купцов, бывших в присутствии в магистрате, и старших с товарищи здесь следствие, и оттого между нами умножающиеся ссоры и междоусобия, и что оные угрожают нашему городу совершенным разорением. Мы являемся целым городом перед священное вашего имп. в-ства лицо. От междоусобия нашего недостойны не только таковой милости, ниже воззреть на ваше имп. в-ство. Угрызает же нас совесть, что мы высочайшего присутствия вашего имп. в-ства не употребляем в свою пользу и упадший наш город от несогласия между собою не обновим и воскресим примирением. Чего ради, собравшись в старшинский дом все наличное здешнего города всех статей купечество, в присутствии г. генерал-полицеймейстера Ник. Ив. Чичерина согласились между собою без малейшего от кого-либо принуждения единодушно учинить мир с истинным раскаянием, с таким между собою договором: первостатейным купцам взнесть в казну подушных денег за все ярославское купечество 10000 рублей; они же должны заплатить просителям – средне-статейным купцам за проезды и другие убытки по следственному делу 1500 рублей да на разные канцелярские расходы по тому следствию 500 рублей. А со среднестатейных состоящую на них с 759 по 764 год за неплатеж подушных и других поборов доимку 2019 рублев собрать, а с тех среднестатейных, которые пришли в упадок, той доимки не взыскивать». Екатерина осталась недовольна ярославским воеводою Кочетовым и велела Сенату заменить его другим, выставив в указе причину, что Кочетов «по нерасторопности своей должность свою исполняет с трудом и не может способствовать восстановлению мира между купечеством».
Дворяне разных уездов съехались в Ярославль со своими новыми предводителями и представлялись императрице в архиерейской трапезе. «Все это имело очень приличный вид», – писала Екатерина. Костромское дворянство прислало двоих депутатов просить высокую путешественницу остановиться в их городе, «кои то исполнили весьма изрядным комплиментом». Прием в Костроме особенно понравился Екатерине, которая писала Панину 15 мая: «Завтра поеду отселе, а иноплеменников (дипломатический корпус) отпущу к Москве. Они вам скажут, как здесь я принята была. Я их всех не единожды видела в слезах от народной радости, а И. Гр. Чернышев весь обед проплакал от здешнего дворянства благочинного и ласкового обхождения».
Свое пребывание в Нижнем Новгороде Екатерина ознаменовала утверждением устава купеческой компании, «понеже купцы Нижнего Новгорода по разным злоключениям пришли в упадок, по собственному их признанию, того для захотела ныне во время прибытия в сей город дать повод к поправлению сего падшего города. Как известно, что все почти купцы малые имеют капиталы, а по той причине не могут расторговаться, то составить им компанию» и проч. В Ярославле Екатерина осталась недовольна воеводою, а в Нижнем – архиереем, о котором писала к новгородскому митрополиту Димитрию Сеченову: «Здешний преосвященный, кажется, человек слабый, но по старости еще бодр, и видно, что он выбирает также людей слабых и таких, кои или сами весьма вольны, или таких опять, кои мало его слушают, а по большей части все простяки. Притом во всем здешнем духовенстве примечается дух гонения. Сия же епархия кажется весьма достойна особливого примечания, ибо число правоверных, думаю, меньше, нежели число иноверных и раскольников: итак, кажется, нужнее всего здесь, иметь священство просвещенное учением, нрава кроткого и доброго жития, кои бы тихостию, проповедию и беспорочностию добронравного учения подкрепляли во всяком случае Евангельское слово. Противное сему поведение было приметно, которое здесь для примера опишу: в дворцовом селе Городце, где мне случилось быть на освящении церкви, в находящемся близ того села Федоровском монастыре, умалчивая о том, что игумен так стар, что насилу служить может, и что монахи так мало его почитают, что громко с бранью наставляли, как ему служить, что и действительно он худо знал, еще приходские городецкие священники подали мне челобитную, чтоб сделано было рассмотрение о их пропитании, прописывая, будто лишились они всех прихожан за запискою оных в раскол. Приехав сюда, требовала я справки, много ли прибыло по ревизии оных, и нашла, что действительно много; потом пришли к Елагину того села раскольники и говорили ему, что священники с ними обходятся, как с басурманами, и если у кого родится младенец и пошлют по священника, то сей, гнушаясь их, не хочет ни молитвы давать, ни крестить младенца, о чем Елагин здешнему преосвященному донес, дабы послал приказания к священникам о молитвах и крещении младенцев. Из сего, кажется, заключить можно, сколь много огорчения в духах друг против друга, что не поспешествует тому спокойствию между гражданами, кое благоразумие старается везде установить; вашему же преосвященству известно, сколько кротость пастыря все сие прекратить может, ибо в вашей епархии и в Тверской очевидные примеры сему. Итак, прошу ваше преосвященство иметь бдение, дабы в сей Нижегородской епархии при случае ваканции было весьма осторожно поступлено в выборе персоны, ибо один человек слабостью и несмотрением иногда то испортит, что насилу в 20 лет поправить можно. Все сие пишу в крайней откровенности и доверенности к вашему преосвященству, желая все видеть к благу устроено, наипаче сию важную часть».
Касательно впечатления, какое произвел тогдашний Нижний Новгород на Екатерину, любопытно письмо ее к Панину от 22 мая: «Сей город ситуациею прекрасен, а строением мерзок, только поправится вскоре, ибо, мне одной надобно строить как соляные и винные магазины, так губернаторский дом, канцелярию и архив, что все или на боку лежит, или близко того; также корона близко 20 тысяч в год платит найма для поклажи соли и вина». А после из Чебоксар писала: «Чебоксар для меня во всем лучше Нижнего Новгорода». Зато Казань, куда приехали 26 мая, произвела самое благоприятное впечатление: «Мы нашли город, который всячески может слыть столицею большого царства; прием мне отменный; нам отменной он кажется, кои четвертую неделю видим везде равную радость, а здесь еще отличнее. Если б дозволили, они бы себя вместо ковра постлали, и в одном месте по дороге мужики свечи давали, чтоб предо мною поставить, с чем их прогнали. Кутухтой быть здесь недолго; однако, выключая сего эксцесса, везде весьма чинно все происходит; здесь триумфальные ворота такие, как я еще лучше не видала. Я живу здесь в купеческом каменном доме: девять покоев анфиладою, все шелком обитые; кресла и канапеи вызолоченные, везде трюмо и мраморные столы под ними». В другом письме Екатерина говорит: «Отселе выехать нельзя: столько разных объектов, достойных взгляду, idйe же на десять лет здесь собрать можно. Это особое царство, и только здесь можно видеть, что такое громадное предприятие нашего законодательства и как существующие законы мало соответствуют положению империи вообще. Они извели народу бесчисленного, которого состояние шло по сих пор к исчезанию, а не к умножению; таково же и с имуществом оного поступлено». Видно, что во время путешествия Екатерину постоянно занимала мысль о наказе и предстоящей комиссии, и занимала не без некоторого беспокойства насчет успеха предприятия, к чему путешествие, виденное и слышанное во время его могло подавать поводы. Она писала Вольтеру из Казани: «Эти законы, о которых так много было речей, собственно говоря, еще не сочинены, и кто может отвечать за их доброкачественность? Конечно, не мы, а потомство будет в состоянии решить этот вопрос. Представьте, что они должны служить для Азии и для Европы, и какое различие в климате, людях, обычаях и самих понятиях! Вот я и в Азии; мне хотелось посмотреть ее собственными глазами. В этом городе 20 разных народов, вовсе не похожих друг на друга. И однако, им надобно сшить платье, которое на всех на них одинаково хорошо бы сидело. Можно легко найти общие правила, но подробности? И какие подробности? Это почти все равно, что создать целый мир, соединить части, оградить и проч.».
И в Казани, как и в Нижнем, не обошлось без неприятности со стороны духовенства: два монаха Печерского казанского монастыря подали императрице жалобу на архимандрита, что он не дает им сполна положенного по штатам. Екатерина велела препроводить просьбу их к архиерею, чтоб разобрал дело и подтвердил по всей епархии не удерживать жалованья, причем написала: «А сим монахам в вину того ставить не велите, что они прибегли ко мне с прошением, поставя то им в простоту, как и я оный поступок их почитаю». Рассказали и неприятное из недавней старины. По осмотре развалин Болгар Екатерина писала Панину: «Все, что тут ни осталось, построено из плиты очень хорошей. Сему один гонитель, казанский архиерей Лука, при покойной императрице Елисавете Петровне позавидовал и много разломал, а из иных построил церковь, погреба и под монастырь занял, хотя Петра I указ есть, чтоб не вредить и не ломать сию древность».
Страна и состояние жителей по Волге от Казани произвели самое благоприятное впечатление. «Здесь народ по всей Волге богат и весьма сыт, и хотя цены везде высокие, но все хлеб едят и никто не жалуется и нужду не терпит. Хлеб всякого рода так здесь хорош, как еще не видали; по лесам же везде вишни и розаны дикие, а леса иного нет, как дуб и липа; земля такая черная, как в других местах в садах на грядах не видят. Одним словом, сии люди Богом избалованы; я отроду таких рыб вкусом не едала, как здесь, и все в изобилии, что себе представить можешь, и я не знаю, в чем бы они имели нужду: все есть и все дешево».
В противоположность Казани Симбирск произвел самое неприятное впечатление: «Город самый скаредный, и все домы, кроме того, в котором я стою, в конфискации, и так мой город у меня же; я не очень знаю, схоже ли то с здравым рассуждением и не полезнее ли повернуть людям их домы, нежели сии лучинки иметь в странной собственности, из которой ни коронные деньги, ни люди не сохранены в целости? Я теперь здесь упражняюсь сыскать способы, чтоб деньги были возвращены, домы по-пустому не сгнили и люди не приведены были вовсе в истребление, а недоимка по соли и вину только в сто семь тысяч рублей, к чему послужила как кража, так и разные несчастливые приключения». Из Симбирска Екатерина дала также любопытный указ. Казанский татарин Уразметев показал, что он сбирал с казанских татар деньги для подарка тамошнему губернатору. По закону дело должно было перенести в другую губернию, и Юстиц-коллегия распорядилась, чтоб татары подали свою челобитную в Оренбургской губернской канцелярии. Дело доведено было до сведения императрицы в Симбирске, и она написала: «Сего я не понимаю, а заключаю только, что сие учинено от небрежения или от неимения карты, а потому и от незнания расстояния мест; чего ради повелеваем о показании Уразметева исследовать Казанской адмиралтейской конторе, а прежнее определение Юстиц-коллегии о челобитьи тем татарам по сему делу в Оренбургской губернской канцелярии, миновав ближайшее место, т.е. Нижегородскую губернскую канцелярию, уничтожить и ей подтвердить, чтоб она впредь в таких случаях справлялась с картою, дабы за напрасным проездом от такого несмотрения челобитчики не претерпевали отягощения и убытков, о чем нужно и в другие правительства дать знать, ибо мы по дороге имели случай подобные сему определения видеть».
Из Симбирска Екатерина сухим путем возвратилась в Москву, жалея о спокойном плавании на галерах. Из Мурома от 12 июня она писала Панину: «Я на досуге сделаю вам короткое описание того, что приметила дорогою. Где чернозем и лучшие произращения, как-то: Симбирская провинция и половина Алатырской, там люди ленивы и верст по 15 пусты, не населены, а земли не разработаны. От Алатыря до Арзамаса и от сего места до муромских лесов земли час от часу хуже, селения чаще и ни пяди земли нет, коя бы не была разработана, и хлеб лучше, нежели в первых сих местах, и нигде голоду нет».
По возвращении в Москву 22 июня Екатерина присутствовала в Сенате и сообщила сенаторам записку, что во время путешествия из Москвы в Казань и обратно по всей дороге подано было ей больше 600 челобитен и из них не нашлось ни одной на воевод и на управление вообще, ни одной жалобы на взятки, была одна, и то по частной обиде, а не по делу или должности. Большая часть просьб подана была помещичьими крестьянами и заключала жалобы на тяжкие поборы от помещиков; все эти просьбы были возвращены с подтверждением, чтоб впредь таких не подавали. Были просьбы от пахотных солдат и новокрещен на завладение их землями и в недостатке земель, из чего видно, что в тамошних местах, а именно в Нижегородской и Казанской губерниях, большая нужда в межевании; а чтобы в земле подлинно был недостаток, этого по частным известиям не видно, ибо везде почти втрое против того, что могут разрабатывать. Императрица выразила удовольствие, что, так как ни на одно правительственное лицо жалоб не было, значит, правосудие находится в хорошем состоянии, правители и судьи ведут дело бескорыстно. Наконец, Екатерина объявила, что в Нижегородской губернии, по ее усмотрению, между иноверными народами происходят большие споры и междоусобия о землях и потому ей было бы весьма угодно, если б происходящее теперь межевание, чем скорее, тем лучше, перенесено было в эту губернию.
Большая часть просьб была подана помещичьими крестьянами; просьбы были возвращены челобитчикам; но в Сенат с начала года постоянно приходили известия о крестьянских восстаниях. Волнение на Липских заводах продолжалось. Воронежский губернатор Маслов доносил, что он спрашивал поверенного мастеровых людей Куприанова и пятерых мастеровых и Куприанов показал, что об обидах объявит реестрами и ведомостями, и когда губернатор сам приехал на место для следствия, в Сокольск, то 30 человек мастеровых объявили, что обо всех обидах и недостатках действительно поданы ведомости Куприанову; тот подал реестры и ведомости, но в них не означено, в какие годы и какими приказчиками нанесены обиды и сделаны недоплаты, причем Куприанов сказал, что об этом объявят мастеровые сами; но таких мастеровых было много, губернатору оставаться в Сокольске долее было нельзя, и он послал указ к правящему воеводскую должность в Романове асессору Мелехову ехать на заводы и производить допросы. Но Мелехов дал знать, что ни один работник к допросу не пошел, говоря, что они послали к императрице с просьбою. Сенат велел послать указ, что работники как бунтовщики подлежат наижесточайшей смертной казни и десятеро из них уже публично наказаны и сосланы; несмотря на то, мастеровые все еще пребывают в заблуждении. Сенат приказывает им войти в безмолвственное повиновение под страхом жестокого наказания. Измайловского полка сержант Собакин подал императрице прошение, что крепостные отца его Шуйского уезда, села Телешова, и других помещиков крестьяне, приехав разбоем в дом его в это село, мать его зарезали, а отца, бивши мучительски, оставили едва жива. Старались предупредить волнения заводских крестьян на востоке: в начале 1767 года учреждена комиссия на Нерчинских серебряных заводах для исследования о причиненных обидах, побоях и взятках с приписных к тем заводам крестьян асессором Кологривовым и шихмейстером Павлуцким с товарищи, также о прежде бывших и вновь оказавшихся там похищениях казенного серебра. Вслед за тем Сенат подал императрице доклад по делу Казанской губернской канцелярии о лихоимственных взятках бывшего в Казани у подушного сбора асессора Макулова с приписных к заводам крестьян. Оказалось, что дело производимо было канцеляриею очень слабо и с законами несходно, медленно; губернатор, несмотря на явность преступления, дал обвиненным присягу, и они, не помня суда Божия, присягнули, что взяток не брали; Сенат признал Макулова и товарищей его подозрительными и клятвопреступниками. Екатерина написала на докладе: «Губернатору учинить напоминание, чтоб впредь в подобных случаях осторожнее поступал, Я асессора Макулова и прочих по причине той, что Сенат их подозрительными признал, отреша от дел, впредь не определять». Мы упоминали о восстании крестьян Фролова-Багреева; когда они ушли в лес, то пойманы были из них только два человека, которые показали, что их к бунту склоняли провинциальной канцелярии подьячий Дулов, а за ним села Васильевского священник с детьми. Канцелярия, писал Фролов-Багреев, производит над этими двумя злодеями следствие очень медленно, как видно, делает Дулову поноровку. Сенат приказал написать воронежскому губернатору, чтоб следствие немедленно было окончено. В провинции Переяславля-Залесского пронесся слух, что находящиеся в этой провинции помещичьи деревни будут отписаны в казну и оброки с них будут собираться такие же, как и с монастырских крестьян. Кашинского уезда помещиков Олсуфьевых крестьяне подали императрице просьбу об освобождении их от помещиков. Воевода по именному указу объявил им, чтоб они оставались по-прежнему в должном послушании, на что крестьяне все единогласно отвечали, что у помещиков своих в послушании быть не хотят. Сенат приказал отправить против них воинскую команду. Но, несмотря на повторительные запрещения, подали императрице просьбы крестьяне помещиков Леонтьева, Лопухиных и Толстой. Екатерина велела просителей отослать в Сенат, но вместе прислала туда и указ: так как подобных просьб от крестьянства на помещиков подавалось и прежде немалое число, то ее императ. величество сомневается, чтоб оказующееся от крестьянства на владельцев своих неудовольствие не размножилось и не произвело бы вредных следствий, поэтому Сенату повелевает в предупреждение такого зла придумать благопристойные средства. Сенат приговорил донести императрице, что он считает самым удобным средством обнародовать печатным указом, чтоб крестьяне и дворовые люди отнюдь не отваживались на помещиков своих бить челом, кроме изображенных в Уложенье и прежних указах дел, а дерзнувшие подвергнут себя публично наказанию кнутом; указ этот читать во всех церквах; присланных теперь крестьян отослать в Московскую губернскую канцелярию и там велеть их допросить под пристрастием, кто им челобитные писал и сочинял; на кого покажут, тех сыскивать и, забрав под караул, рапортовать Сенату; потом немедленно помянутых крестьян одну половину, разделя по нескольку человек, наказать в Москве на разных площадях плетьми в торговый день с барабанным боем публично и отдать обратно помещикам, а другую половину наказать таким же образом в их жилищах, при собрании прочих крестьян, для предупреждения сим примером подобных преступлений. Но так как Сенат, рассматривая источник зла, находит, что может иногда и чрез меру строгий и нерассудительный поступок помещиков в рассуждении своих крестьян подать последним повод и достаточную, по их мнению, причину к таким челобитьям, то рассудил поручить некоторым из господ сенаторов переговорить с помещиками этих челобитчиков секретно о причине неудовольствия их крестьян, и чтоб они старались пользоваться правом господства, последуя человеколюбию и принимая в рассуждение силы крестьянские в обложении их работами и оброками. Это поручение на себя приняли: князь Мих. Никит. Волконский взялся переговорить с поручиком Степаном Лопухиным, граф Роман Лар. Воронцов – с полковником Абрамом Лопухиным, князь Александр Алекс. Вяземский – с генеральшею Анною Толстою, Петр Ив. Панин – с генерал-аншефом Леонтьевым.



