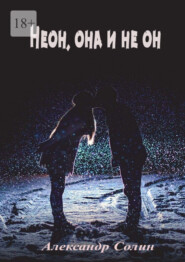скачать книгу бесплатно
В девяностом году, после школы она приехала в Ленинград и сходу поступила в университет на юрфак, имея наивное желание разобраться в той весенней отечественной картине, когда благие порывы, громоздясь, словно льдины при ледоходе, оборачиваются затором, наводнением и очередной исторической клизмой. Как она приживалась здесь – особый разговор. Всякий провинциал, прибывающий жить в этот город, рано или поздно вынужден свести знакомство с матерью бронхита – унылой влажностью, которая вместе со спертым дыханием недр наполняет его улицы, стирая громады домов и укрощая фонари. Ей пришлось смириться и даже полюбить те часы – нет, дни! – когда город похож на захудалую прачечную, где капает с потолка и течет по стенам. Увлеченная расхожими поэтическими представлениями, она, в конце концов, нашла в болотной испарине этого северного ската квазирациональный контекст, который, как и все непознаваемое в русской истории также верно вырастал из непогрешимого и абсурдного единства государственных интересов с гражданским самоотречением, как язва желудка и свободные нравы из святого служения искусству и жизни на колесах. Так мирятся с недостатками любимых супругов, так люди верующие в добро ищут его в злодеях. Иначе бы она открыла, что только болезненно впечатлительный человек может находить достоинства в тех архитектурных недоразумениях, что возведенные второпях для извлечения дохода, волнами разошлись от Зимнего дворца, камнем брошенного в гигантское болото.
Она быстро сошлась с однокурсницами, вернее, они сами потянулись к ней по силовым линиям ее доброго покровительства. Именно здесь, в Питере в полной мере оценили хрестоматийное обаяние ее имени и фамилии. Как известно, в стране в это время вовсю шел процесс, на котором Наташа и ее друзья, как и все советские люди, проходили свидетелями. Не стоит, однако, переоценивать ее озабоченность судьбой страны. Возможно, будь она в то время в другой, менее экзальтированной среде, она на многое не обращала бы внимания, мимо многого прошла бы стороной. Огромные кипучие пространства родины и температура отдельных ее частей сосредоточились для нее в немногочисленных объектах города, которые удостаивались ее внимания. Сюда входили факультет, общежитие, Публичка, магазины, а также прогулки по городу и места культурных мероприятий.
Из годов, проведенных ею в музыкальной школе, сколотился прочный помост, с которого она теперь могла тянуться к филармоническим плодам живых концертов. Кроме того, ее заворожил театр, куда она, имея стипендию и деньги от родителей, ходила довольно часто и исключительно в сопровождении подруг. Несмотря на то, что границы ее личной свободы раздвинулись, а разрушение моральных устоев советского общества дикими орхидеями набирало силу, ей хватало благоразумия держаться от противоположного пола на безопасном расстоянии, так что после двух лет совместного обучения сокурсникам оставалось только гадать, кому достанется этот прекрасный уральский самоцвет.
Когда в конце августа девяносто первого она вернулась в Питер, там только и разговоров было, что о недавних событиях. Все питерцы юрфака, бывшие на тот момент в городе, самомобилизовались и приняли посильное участие в демонстрациях и теперь, сверкая победными взорами, делились живописными подробностями того, как они отстояли демократию. Больше всех лавров в их группе собрал Мишка Равиксон, которого кто-то из команды мэра якобы использовал чуть ли не с секретной миссией. Кому он послужил и чем, Мишка, естественно, не распространялся, но взирать на себя заставил с уважением. В том числе и Наташу. Вот ему-то она, в конце концов, и досталась.
Это был высокий и гибкий красавец-еврей с тонким лицом, прямым изящным носом, ироническим, без всяких там зубов навыкате ртом, ровной и чистой кожей, черными кудрями и влажными искрометными очами, отчего в сборном виде он сильно смахивал на карточного валета. Речь имел свободную и убедительную, голосом владел, как пожарным краном, учился достойно. Рядом пусть и со способными, но неотесанными сверстниками он выглядел, как наследный принц ближневосточного шейха. С однокурсниками он, однако, держался с дружелюбным и сочувственным участием. Но присмотревшийся к нему внимательнее обнаружил бы в его глазах лелеемую искру тайного превосходства, которой он, как фирменным знаком, ставил точку в неизменно удачных для себя спорах. Никто не сомневался, что его, как юриста ждет завидная и славная участь. К тому же, так угадать с услугой в пользу нынешней власти…
Вскоре Наташа поймала себя на том, что ей приятно за ним наблюдать. На лекциях она стала искать место, откуда делать это было удобнее. Как-то раз она увлеклась и не успела отвести глаза. Он перехватил ее взгляд и улыбнулся, после чего принялся за ней аккуратно и ненавязчиво ухаживать. Его все чаще видели рядом с ней на лекциях. Дело дошло до того, что он повадился провожать ее после занятий до общежития, а потом, потеснив подруг, взялся сопровождать в ее прогулках по городу.
Не имея в ту пору никаких предубеждений против его народа, а стало быть, и его самого, Наташа относилась к его ухаживаниям настороженно. Его внимание льстило ей, волновало и пугало. Нет, нет, в себе она была уверена! Попытайся он скользким намеком или дерзким жестом нарушить границы пристойности, и она мигом вернула бы его на то место, откуда он ей улыбнулся. Ничего не поделаешь – ведь она была всего лишь красивой провинциалкой, которой рано или поздно следовало побеспокоиться о замужестве с кем-то из местных. Очевидно, что затевать серьезные отношения раньше времени – значит, дать им разогнаться до неудержимого состояния, отчего в самый разгар учебы можно заехать не туда. С другой стороны, откладывать их на последний момент – значит, хвататься второпях за первого попавшегося. Женщина должна быть расчетливой. Такова честная правда всякого существа, поставленного в неравные условия с более сильным. Только ведь все решения в нашем плоском биполярном мире сводятся в конечном счете к выбору меньшего из двух зол, и выбираем мы чаще всего все-таки большее зло.
После недолгих колебаний она остановила свой выбор на Мишке и взяла курс на осторожное с ним сближение, строго следя за тем, чтобы не запятнать себя тонким повизгивающим смешком, каким неуверенные в себе девицы встречают всякое слово их самодовольных кавалеров. В такой многозначительной тональности завершился третий курс и начался четвертый.
Тем временем страна, жившая своей жизнью, преподала будущим правоведам очередной урок правового нигилизма: в Москве люди, лишенные любви и страсти, с помощью танков делили власть, а поделив, отдали побежденных на препараторский стол Фемиды. Что ж, власть в нашей новейшей истории – такой же коммерческий проект, как прочие, а история России – это история власти и станет историей общества только тогда, когда общество станет властью. Пока же у подслеповатого правосудия не весы, а карманы, и от того, кто и что в них подбросит, зависит его полновесный вердикт…
Когда после зимних каникул она вернулась из Первоуральска, Мишка в первую же их встречу объявил, что хочет познакомить ее с родителями.
«Очень приятно вас видеть! Миша много о вас рассказывал!» – встретила ее мать Михаила, статной, жгучей, надменной красоты женщина, едва они проникли в квартиру на третьем этаже большого дома на Фонтанке с видом на закат. Наташа смутилась и, утопив ноги в тапочках, двинулась в сопровождении матери и сына в глубину коридора, где к ним присоединился отец семейства – невысокий, крепкий, румяный человек с прицельным смеющимся взглядом. Все вместе они расселись в гостиной за большим старинным столом и принялись знакомиться.
«Конечно, Миша о вас много рассказывал, даже можно сказать – все уши прожужжал, но я и не предполагала, что вы такая милочка!» – просто и сердечно выразилась мама, Раиса Моисеевна.
«Да что там милочка – настоящая красавица!» – добродушно прогудел папа Леонид Львович.
«Папа, мама… – встал слегка побледневший Михаил, – я пригласил Наташу, чтобы при вас сказать ей, что я безумно ее люблю и прошу стать моей женой!»
«Я так и знала, я так и знала…» – сказала мама и приложила к глазам платочек.
«Но это же замечательно! Молодец, сынок!» – прогудел довольный папа.
Наташа, пораженная громом его слов, сидела не шелохнувшись и широко открыв глаза. Все-таки, предложение громыхнуло на годик раньше, чем следовало.
«Что скажешь, Наташенька?» – умоляюще обратился к ней Михаил.
«Я согласна… Но что скажет мой папа?» – потупилась Наташа.
«С вашим папой я поговорю сам, после того, как мой сын официально попросит у него вашей руки!» – с мрачной торжественностью объявил папа, что напротив.
«Дайте, я вас поцелую, Наташенька!» – сказала, вставая, мама.
«И я! Как-никак, помолвка!» – вскочил папа.
Они поцеловали будущую невестку, потом сына, затем поцеловались сами. После этого Михаил подошел к Наташе и поцеловал ей руку.
«Это еще не все! – объявил он, залез во внутренний карман, достал небольшую кубическую коробочку и открыл: – Это тебе, Наташенька, в знак моей любви!»
И достав из коробочки колечко, верхом на котором восседал небольшой самоуверенный камешек, надел его на безымянный пальчик совсем растерявшейся Наташи.
«Я так и знала!» – прослезилась мама, еще раз поцеловала Наташу и пошла на кухню готовить чай.
За чаем было много разговоров, в том числе было сказано следующее:
«Я всегда была против, чтобы Миша женился на русской, но глядя на вас, Наташенька, нисколько не жалею! Знаете, еврейская порода в этой стране выродилась! И это даже хорошо, что наша кровь смешается с вашей!» – так сказала мама.
«У вас прекрасные еврейские волосы, Наташенька, а это главное! В остальном мы сделаем из вас настоящую еврейку!» – это, конечно, сказал папа.
«Не слушай ты их! Они просто помешаны на чистоте крови!» – это сказал сын.
Кроме того наметили свадьбу на июль этого же года.
«Жить будете у нас!» – сказал в заключение папа.
При расставании ее снова расцеловали. Теперь уже и Михаил. Она не сопротивлялась: в конце концов, поцелуй за предложение жениться – это не кровать.
Ее родители спорить не стали. Только папа сказал:
«Знаешь, Наташка, я не люблю евреев, но случись погромы – я первый буду их прятать».
Оставалось прояснить самый главный вопрос, касающийся ее поведения в постели в первую брачную ночь. Имея о соитии отдаленное и заумное представление, она, приехав в конце июня домой, обратилась за инструкциями к разбитной Катьке.
«Э-э, Наташка! Наше дело – раздвинуть ноги и не дергаться! – снисходительно пояснила милая ее сердцу Катька, давно забывшая, когда, где и как потеряла невинность. – Да ты не волнуйся, девка! Сама поймешь, что к чему! Только имей в виду – в первый раз будет больно и будет кровь…»
Родители, кажется, понравились друг другу, жених был неотразим, такой невесты здесь еще не видели, и прогремела грандиозная еврейская свадьба, после которой некий Мишкин родственник отвез молодых в укромную квартиру, где и оставил одних.
8
Пожелав спокойной ночи и многозначительно улыбнувшись, родственник удалился, и то, к чему Наташа с нарастающим замиранием весь вечер готовилась, предстало перед ней во всей своей восклицательной неизбежности. Ею неожиданно овладел тягучий, сладкий страх.
«Хочешь чаю?» – заботливо обратилась она к мужу.
«Потом, потом!» – просипел Мишка и, не имея терпения, тут же обхватил ее жаркими руками, завладел губами и проник в нее винным дыханием. Он собрался было подхватить ее и нести в спальную, как того требовал красивый мещанский обычай, но она воспротивилась и пожелала сначала посетить ванную. Прихватив халат и укрывшись там, она долго разглядывала себя в тусклом зеркале. Зеркала, как люди: бывают жалостливые, бывают бессердечные. Этому же было на все наплевать.
Подрагивая от волнения (но не от желания, что подтвердят дальнейшие события), Наташа привела себя в порядок, накинула поверх новой шелковой сорочки халат и прошла со свадебным платьем в спальную, где в кровати уже маялся Мишка. Под прицелом его жадных глаз она расправила на кресле платье, отделилась от белой ночи занавесом неплотных штор, прошла к своей половине кровати и села спиной к мужу. Помедлив, собралась с духом, освободилась от халата, затем, скрючившись, скинула сорочку и, сверкнув стремительной наготой, юркнула в постель к своему первому голому мужчине. Так на Руси испокон веку учат плавать: бросают под одеяло, и плыви, как знаешь…
В отличие от нее Мишка кое-что уже познал. Откинув вместе одеялом неуместную более деликатность, он уверенно и нервно бросил тонкие пальцы на клавиатуру ее тела и приступил к прелюдии. С первым же аккордом у нее перехватило дыхание. Впервые мужские руки касались ее груди, живота, бедер и – о, ужас! – хозяйничали там, где кроме нее никто и никогда не бывал! Что он делает?! Зачем он мнет и целует ее грудь?! Зачем его электрические пальцы пытаются проникнуть в ее святилище?! Неужели ему не стыдно?! Неужели так надо?! Неужели без этого нельзя обойтись?! И что – отец с матерью делают и чувствуют то же самое?! Сжав ноги, зажмурив глаза, отвернув пылающее лицо и совершенно не представляя, как себя вести, она испытывала малоторжественное смятение: самый важный из всех инстинктов отказывался ей помочь! Мысли ее путались, бесстыжие, небывалые ощущения следовали одно за другим, требуя у ее безволия освободиться из цепких Мишкиных рук и укрыться в ванной.
«А когда он залезет на тебя, расслабься…» – вспомнила она Катькины наставления, почувствовав на себе тяжелую, горячую Мишкину дрожь. Помогая себе коленом, он принялся нетерпеливо расталкивать ее ноги. Поняв, что от нее требуется, она последовала Катькиному совету и, сгорая от стыда, раздвинула их. Но Мишке этого оказалось мало – шире, шире, еще шире! – и она развела их так широко, что стала похожа на некрасиво раздавленную лягушку. Мишка устроился на ней, вцепился снизу в ее плечи, въелся в нее губами и замер, как на старте упоительного забега. Она же, впервые придавленная мужским голым телом, никуда бежать не хотела и застыла с опечатанным ртом и бьющимся сердцем, испытывая отчаянный, душный стыд. Мишка задвигал бедрами, и Наташа почувствовала, как что-то инородное, мягкое и слепое тычется в нее, требуя впустить, но вместо того чтобы раскрыться, стиснула зубы и напряглась, готовясь, как учила ее Катька, не к удовольствию, а к боли. Обнаружив в ее укреплениях брешь, настырный инородец просунул туда голову и с болезненным распирающим усилием принялся продираться внутрь. Оскорбленное неслыханным обращением лоно заставило ее рывком свести колени, но Мишкины бедра помешали, и тогда она судорожно выгнула спину. Прилипший к ней Мишка, вероятно, решил, что она хочет освободиться и с испуганной силой пронзил ее до самого копчика. Внезапная, преувеличенная ожиданием боль обдала пах, отчего она жалобно вскрикнула и дернулась. Мишка вжался в нее и больно заворочался. Задохнувшись от боли и плохо соображая, она снова выгнула спину и, вильнув бедрами, исторгла из себя нахального гостя. Потеряв сладкую цель, Мишка кинулся ее искать, но вдруг смешно замычал, задергался и, испачкав ее чем-то сырым и теплым, обмяк, затих и уткнулся лицом в подушку. Было тяжело, но она терпела, понимая, что произошло что-то неловкое и досадное. Когда он сполз, она провела рукой по лобку, и ладонь ее покрылась густой слизью. Растопырив пальцы и подхватив чистой рукой халат, она устремилась в ванную.
Особая минута, примечательный момент! Именно отсюда проистекает ее брезгливое отношение к мужскому семени. Скорее всего подспудной причиной тому – ненавидимый ею с детства кисель, который, прилипнув к ложке, тянулся за ней, пока его несли ко рту. Как сопли – говорили в детском саду. Туда же следует отнести густые носовые выделения, которые по очереди выбивали из себя незатейливые мальчишки, а так же сгущенное молоко. Так или иначе, но смотреть на все липкое и скользкое без отвращения она не могла с детства.
Вернувшись, она нашла Мишку в постели. Не глядя на него, разделась и спряталась под одеялом. Мишка склонился над ней, нежно поцеловал, потом откинул одеяло и, тыча пальцем в направлении ее лона, радостно сообщил: «Смотри!» Она быстро села и в крепнущем свете зари, что сочился через неплотные шторы, разглядела под собой небольшие черные пятна крови. Все дальнейшие Мишкины попытки водрузить на ее скважине древко победы успеха в эту ночь не имели – мешали спазмы и боль. Она была смущена и расстроена, он же в перерывах между бесплодными попытками нежно и заботливо утешал ее, пока она не заснула в его объятиях. На том их первая брачная ночь и закончилась. Разочарование – вот ее итог. Все вышло совсем не так, как ей представлялось. Она ждала торжественного, небывалого откровения, посвящения в таинственный мир запретного, а вместо этого кровь, боль, стыд, неловкость и бледная немощь за окном.
Утро они провели в осторожных попытках преодолеть возникшее препятствие, следя за тем, чтобы рвением не перебить охоту, и это им, в конце концов, удалось. Мишка предельно деликатно проник в ее святилище, где достаточно долго и со вкусом обживался, после чего скрепил их семейный союз первой порцией любовного раствора. Остатки боли в виде ее страдальчески прикушенной губы только способствовали его удовольствию…
Таким вот малоромантичным образом жизнь ее прорвала тонкую запруду невинности и устремилась в новое, неизведанное русло. Потеряв вместе с девственностью певучую фамилию, она превратилась в Равиксон, что перед оформлением заграндокументов повлекло за собой смену паспорта. Париж отложили на осень, а пока уехали на дачу в Комарово, где заполняли антракты между постельными сценами уходом за гнездышком, походами в магазины и на залив. В выходные дни они менялись с родителями на городскую квартиру, где продолжали наслаждаться вкусом новобрачного меда.
Дорвавшись до сладкого, чем она несомненно и безусловно являлась, Мишка домогался ее страстно, жадно и неутомимо, и ей, чтобы оттянуть очередную дегустацию, часто приходилось прибегать к отговоркам и невинным хитростям. Помимо регулярного недосыпания, бледности и прыщиков здесь примешалось еще одно обстоятельство, которое если не обеспокоило ее, то насторожило.
В том памятном разговоре с Катькой накануне свадьбы, когда она среди прочего пыталась выяснить, чего ей следует ждать от неведомого соединения мужского и женского начал, Катька в ответ закатила глаза: «М-м-м, это не описать! Оргазм называется. Сама все узнаешь, когда кричать начнешь…»
Кричать ей, однако, не пришлось, и даже стонать не получалось. Ощущения, которые она переживала, походили на истому жаркого полдня, на теплый песок и дрему под пляжную разноголосицу, на убаюкивающий шорох волны, словом, на все то многочисленное и приятное, что существует вокруг нас, но не стоит того, чтобы придавать ему особое значение. Порой к этой благости подбиралось что-то грозовое и мутное, но гремело где-то вдалеке, так и не накрывая ее. Между тем, молодой муж обставлял их утехи с жеребячьим рвением. Обычно он начинал с затяжного, отдающего табаком поцелуя, пытаясь проникнуть языком внутрь ее рта. Она терпела и внутрь не пускала. Тогда его мягкие женственные губы съезжали ниже, где становились подобны жадному клюву голодного петуха, склевывающего зерна нетерпения с ее тела. Он любил тревожить и целовать ее изящную грудь, умиляясь фарфоровому отсвету и хрупкости божественной девичьей принадлежности и между делом подсматривая, как ей это нравится. Грудь отзывалась недовольным, неромантичным волнением. Закусив губами и грудью, он отправлялся к главному блюду, и по мере его приближения к нему она начинала нервничать, но не от возбуждения, а от крайней неловкости. На самом пороге бесстыдства она отталкивала его голову, и он, вскарабкавшись на нее, заканчивал дело обычным образом. Роясь в ее опушенном душистом саше, как в собственном кармане, он лихорадочно и обстоятельно обшаривал его уголки в надежде отыскать там предназначенный ему в награду крик или хотя бы стон. Проявив в конце темперамент отбойного молотка и запятнав ее испариной, он покидал драгоценный мешочек, ничего там не найдя, а она, в очередной раз неудовлетворенная, отделялась, тихо радовалась, что все кончилось и, прильнув к нему, горячему, влажному и пустому, легкими ладонями сглаживала изъян их неравного партнерства.
Ей нравилось его тело – чистое, гладкое, слегка смуглое и что особенно важно, почти непотливое. Он, не скрываясь, мог встать с кровати и разгуливать по комнате нагишом. Она украдкой на него засматривалась, минуя взглядом неприличные подробности, потому что невозможно воспитанной девушке вместе с невинностью в одночасье потерять стыдливость. Сама она продолжала дорожить наготой, и как только необходимость в ней отпадала, тут же натягивала на себя одеяло.
Пытаясь избавить ее от стеснительности, он прибег к сеансам эротического видео, склоняя ее затем к воспроизведению увиденного. Однако новые позы и приемы (разумеется, те, что она находила приличными) дела не меняли, но польза от просмотров все же была, хотя бы в части звукоизвлечения, имитирующего кайф. В первый раз, когда она это сделала, он даже растрогался:
«Ну, слава богу! А я уж думал, что я плохой муж!»
В двадцатых числах июля к ним пришли их общие первые месячные. Скважину запечатали, укрепили трусиками и поместили на карантин. У нее сильнее обычного болело там, где положено, отдавало в спину, подташнивало. Она часто отдыхала, крепилась и пыталась улыбаться. Умиленный ее слабостью, Мишка нежно жалел ее, живо интересовался подробностями, и она, подбирая слова, объясняла, как устроен ежемесячный женский крест. Мишка обнимал ее, с чувством прижимал к груди и говорил: «Бедная моя девочка, ей так больно!..» Он стоически перенес четырехдневное воздержание, выходя курить на воздух, что в плохую погоду делал обычно на кухне.
Однажды, как и следовало ожидать, он все же спустился ниже пояса. Она пыталась отталкивать его голову, но он решительно отверг слабый протест тонких рук и припал к ее шелковистому бутону. Умирая от стыда, она, кажется, перестала дышать, а он никак не мог оторваться. После этого он повадился ходить туда всякий раз, особенно когда желал надежно возбудить свои отсыревшие пороховницы. Он считал, что доставляет ей неописуемое удовольствие. Никакого, однако, удовольствия, кроме пунцовой неловкости она не испытывала, а что именно от нее требовалось взамен, она прекрасно поняла, когда однажды он уговорил ее посмотреть принесенное откуда-то порно. «Фу, какая гадость!» – терпела и морщилась она в ответ на многозначительные взгляды мужа, но когда на экране женщина соединила пихательное с дыхательным, она вскочила и вспыхнула: «Какой ужас!» – имея в виду прозрачное приглашение брать пример с проституток.
За этим последовала их первая размолвка. В ту ночь она спала отдельно, он же поутру вынужден был пуститься в путаные объяснения своих намерений, вызванных, якобы, исключительно ее пользой. В чем, однако, заключалась польза при глотании этой гадости, не говоря уже о способе ее извлечения, она так и не поняла. Как бы то ни было, за все время их совместной жизни ему ни разу не удалось ее к этому склонить. Теперь, по прошествии стольких лет она понимает, что это был первый случай, когда ее несовременное целомудрие восстало против демонов сексуальной революции, жертвой которых стал ее бывший муж. Разве обязана она была следовать его инструкциям, имея на этот счет свое брезгливое мнение?
Все же небольшой реванш он получил. Когда в августе ее одолела вторая в их совместной жизни женская немощь, он довольно прозрачно дал ей понять, что в таком случае нужно делать – взял ее руку в свою и, поместив куда надо, сопроводил ритмичными инструкциями. Она подчинилась, но после того, как все кончилось, поспешила с брезгливо растопыренными пальцами в ванную…
Как-то ночью ей приснилось, что она завороженно наблюдает со стороны за их упражнениями. Подбрасываемая скакуном, она колышется в седле, и движения ее, начинаясь в бедрах, через живот, грудь и шею волной достигают головы и складываются в змеиный полет. Вдруг что-то горячее и бурное взорвалось внутри нее, заставив проснуться. Она распахнула глаза, приходя в себя и побуждаемая единственной заботой – разбудить спящего мужа, чтобы оседлать и догнать остывающее желание. Но не разбудила и не оседлала, а взяла себя в руки, успокоилась и заснула.
Постепенно ей становилось ясно, что по каким-то причинам, выяснение которых она отложила на осень, из них двоих наслаждается пока он один. Следовало посоветоваться со знающими людьми, полистать энциклопедию, а пока набраться терпения и надеяться на лучшее…
9
В добавление к постели, как основному блюду были еще закуски – то самое ассорти милых пустяков, которое подается новобрачным в перерывах между горячим. Пустяков, возможно, даже более важных, чем постель, потому что из них, собранных воедино и расплавленных пышущим жаром постели, отливаются и при остывании получаются те самые слоники, что идут потом по семейному комоду к миражам призрачного счастья.
Например, завтрак в кровать, который он, если просыпался раньше, нес ей с грацией заправского официанта, получая за это чаевые в виде поцелуя. Она в свою очередь загадывала проснуться раньше, и если удавалось – спешила на кухню. На участке были грядки зелени и клубники, и она успевала посетить их, перед тем, как его разбудить. Все ее жесты, выражения лица, значения слов, действия, цели были теперь подчинены новому смыслу, вытекающему из заботы о случайном человеке, с которым, как она полагала, жизнь свела ее навсегда.
Он любил наблюдать, как она готовит, убирает, читает, дремлет, мечтает. Подглядывал за ее утренним туалетом и подготовкой ко сну. Перебирал ее скляночки, тюбики и прочие колдовские штучки, умиляясь при этом и не забывая припадать к ее обнаженным рукам и плечам. Когда она садилась, он располагался у нее в ногах и клал голову ей на колени. Он не забывал напоминать ей о времени приема противозачаточных таблеток, которые она, посоветовавшись с матерью, а та, в свою очередь с кем-то еще, начала принимать за неделю до свадьбы. Находя ее, одинокую, в раздумьях, он заходил сзади и обнимал, прикладываясь к ее голове щекой и бормоча: «Натали, ты моя, Натали…". Прижимая ее к себе, он искренне ужасался, что мог не встретить ее никогда. Она же находила эту мысль скорее философской, чем роковой.
В жаркую погоду они ходили на залив. На пляже он находил место подальше от остальных, словно не желая, чтобы чужие взгляды касались того обнаженного, что принадлежало теперь только ему. Зайдя с ней в воду по плечи, он заключал ее в объятия и, становясь похожим на видеогероя из хлорированного бассейна, приспускал плавки, пытаясь сделать то же самое с подводной частью ее купальника. И только ее решительное нежелание служить помпой для грязной воды останавливало его.
Возвратившись, они принимали душ. Затем она готовила обед, а он путался под ногами. Она притворно сердилась и, входя в роль строгой еврейской жены, пыталась прогнать его со своей территории. Затем был неспешный обед и отдых. Они ложились в постель, и Мишка, дав ей подремать, подвергал ее ласковым пыткам. Ему это не просто нравилось – он этим жил. Во всяком случае, тем летом. И так на его месте поступал бы каждый, чью постель на законных основаниях разделила стыдливая, очаровательная нимфа. Вечером на гарнир были звезды и твердая уверенность, что оргазм совсем рядом. А иначе как терпеть это однообразное, утомительное и бессмысленное занятие, в которое превращается неполноценный секс! Каково это – чувствовать себя абсорбентом спермы, этаким бестрепетным подгузником! Она не баловала мужа разнообразием поз и, довольствуясь миссионерской участью, с большой неохотой взбиралась на него, когда он ее к этому принуждал. Нежась под опахалом ее вялого усердия, Мишка созерцал ее покорную фарфоровую наготу и словно не веря, что эти хрупкие сокровища принадлежит ему, смаковал и оглаживал все, до чего могли дотянуться его горячие руки. «Не торопись!» – просил он, но роль голой наложницы ей быстро надоедала, и она энергично и безжалостно доводила его до белого каления. Каждая их попытка была для нее, как запечатанный лотерейный билет, и каждый билет оказывался, увы, проигрышным.
Наступила осень, а с ней пора учебы. За лето она под действием Мишкиных гормонов выгодно изменилась, превратившись в цветущую молодую женщину, глядя на которую хотелось плакать и завистницам, и обожателям. Отдавая должное ее законному женскому опыту, подруги-девственницы спрашивали: «Ну, как у вас с этим делом?» «Прекрасно!» – отвечала она, лучезарно улыбаясь и твердо зная одно: удел женщины – доставлять мужчине удовольствие. Даже ценой собственного унижения.
Они заняли самую дальнюю комнату квартиры на Фонтанке, где звуковое сопровождение их однобокой страсти гасло в антиквариате, которым было набито их гнездышко. Ее обаяние, приветливость и рассудительное благоразумие выступили ходатаями перед Мишкиной матерью и обеспечили ей благожелательное отношение. Про отца его и говорить нечего – не чая в ней души, он носил с собой их свадебную фотографию, с удовольствием демонстрируя ее при случае и коллекционируя искреннее восхищение молодоженами.
В середине сентября она посетила женскую консультацию. Пожилая обстоятельная докторша осмотрела ее и отклонений не обнаружила.
«Все у тебя, деточка, нормально. Что касается твоих жалоб, то, во-первых, поменяем тебе таблетки, не знаю, кто тебе их прописал. Во-вторых, мужу своему скажи, чтобы не только о себе думал. В-третьих, не надо на этом зацикливаться и сама будь поактивнее. В общем, дерзай, деточка, и через месяц покажись!»
Легко сказать – дерзай! Она и рада бы, но как? Смешно сказать, но обратиться за наставлениями ей было не к кому. И дело даже не в том, что рядом не было искушенных подруг, а в том, что просить их об этом – значит, признаться в стыдной неполноценности. Стало быть, полагаться приходилось только на инстинкт и вдохновение.
Той же ночью она оседлала мужа и попыталась получить свое законное наслаждение. Ее ступа летала туда-сюда, силясь подставленным пестиком продолбить стену, за которой прятался неуловимый оргазм. Ей даже почудилось, что она ухватила его за хвост, и он вот-вот окажется пойман, укрощен и поставлен на службу! Она извлекла из себя хриплое победное глиссандо, но тут изо рта загнанного Мишкиного скакуна брызнула пена, поджилки его задергались, ослабли, и он упал. Соскользнув с мужа, она взвыла от досады, а отдохнув, повторила попытку. Вначале медленно, не торопясь ворочала бедрами, рассчитывая нащупать внутри себя зудящий отклик и им, как искрой запалить бикфордов шнур оргазма, но вместо отклика возникли некрасивые, похожие на слипшиеся леденцы звуки «глюк, гляк, глёк, глик…". Они отвлекали, от них хотелось избавиться, и она прибегла к позе, которую берегла, так сказать, прозапас. Повернувшись к изумленному Мишке спиной, она кое-как пристроилась и продолжила. Было непривычно и неудобно, а кроме того, приходилось следить за тем, чтобы не потерять Мишку. «Раскорячилась, прости господи!» – мелькнуло у нее. Вернувшись в прежнее положение и пришпоривая себя животными «ы-ы-ы…", она нанизывала себя на Мишку до тех пор, пока он не застонал. Затем была еще одна попытка – до того безнадежная, что она прервала бы ее, если бы под ней не бесновался муж. «Натали, ты у меня сегодня просто чудо!» – только и смог пробормотать он, перед тем, как заснуть.
Несмотря на все последующие старания, ей так и не удалось добиться желаемого, отчего она постепенно сникла и впала в пассивное состояние. Про себя она решила, что во всем виноват Мишка: его самозабвенному упоению, видите ли, не хватало огня, чтобы запалить фитиль ее страсти. О том, что с ней происходит на самом деле, она благоразумно умалчивала и к врачу, как было условлено, не пошла – статья в энциклопедии ее изрядно охладила.
Ничто, однако, не помешало им отправиться в середине октября на десять дней в Париж. Впервые оказавшись там, как, впрочем, и за границей, она пережила восторг совпадения идеального с реальным. Именно таким она представляла себе Париж – город-мечту, город-любовь, город-аромат. Город-узор, сотканный вкусами и временем на холсте прибрежных холмов, город-лавочник, сделавший возвышенный порок своим самым ходким товаром, город-женщина, питающийся любопытством и обожанием, уставший от них и продолжающий их требовать. Ожившие достопримечательности, восставшие из книг романтичные имена и названия, снисходительные французы и француженки, открывающие рот, чтобы через трубочку губ выпустить певучую стайку круглых цветных птиц. Ощущение театральности, яркого представления, что разыгрывается круглый день, не покидало ее. Чтобы не утонуть в новизне восприятия, глаз ищет подобие, знакомые черты и находит их. Мишка здесь был похож на француза, она – на жену француза. На нее таращились, и это ей льстило. Париж разбудил в ней чувственность. Ей показалось, что здесь она могла бы испытать оргазм, и однажды ночью у нее чуть было не получилось. Во всяком случае, грохотало где-то совсем рядом со скрипучей кроватью.
10
Вольно же ей загружать чужую память всплывающим окном своего изображения! Его невозможно удалить, ни задвинуть на задний план. Его опасно открывать – разрушительный любовный вирус грозит покалечить материнскую плату незадачливого пользователя. Единственный способ уберечься – отыскать хозяйку вируса и просить о пощаде.
Он провел утро в радостных раздумьях. Всё вокруг и внутри него пришло в движение. В нем легко и обильно возникали наброски чувств, каких ему давно не доводилось переживать. Хорошо знакомое охотничье нетерпение овладело им. Он принял решение, набросал план и кинул его, словно якорь на два часа вперед, в мнимые воды будущего, после чего принялся подтягивать туда свою лодку, перебирая минуты, как увесистые звенья якорной цепи.
К часу дня он был готов – одет, побрит, едва надушен. В сравнении со вчерашним днем погода отбросила сухую сдержанность. Наверху было пасмурно и тесно. Можно было предполагать дождь, который смыл бы надежду на ЕЕ появление, но пока что их обратная зависимость складывалась в его пользу. Он даже возвел глаза к небу: «После встречи – хоть потоп!» Войдя в парк, он попал на дорожку из серого песка и двинулся вдоль растительной недвижимости, понуро внимавшей утешениям остывающей земли. Стайка детей, общавшихся между собой во всю пронзительную силу своих маленьких легких, обогнала его. Закинув руки за спину и окрасив ожидание волнением, он направился на главную аллею.
Хронология жизни, как веревочная лестница парусного корабля: чем выше перекладина, тем ближе небо. Будем надеяться, что до неба ему все же дальше, чем до верхней палубы, с которой ему в свое время открылся выпускной вузовский простор. Много ли помнит он из тех далеких сосредоточенных лет, и следует ли вскрывать капсулу памяти с событиями, что выплеснулись из жерла истории, растеклись по ее склонам и стали застывшей лавой фактов? Так ли уж необходимо ворошить грязное белье, если можно принять обряд очищения и облачиться в чистое?
…В начале девяностого он расстался с финэком и очутился на машиностроительном заводе, преследуемый с одной стороны призраком советских нарукавников, а с другой – неким устойчивым сквозняком перемен, который совсем скоро станет гулким бездомным ветром и пойдет гулять по стране. Он провел в финансовом отделе несколько месяцев, внимательно прислушиваясь к разноголосице споров и слухов, принюхиваясь к веселому запаху всеобщего разложения и укрепляясь в намерении бежать оттуда при первой же возможности. Два неслыханных события способствовали его побегу – в Москве открыли первую биржу, и оттуда же народу разрешили иметь в частной собственности банки, заводы, газеты, пароходы и прочие средства угнетения. Новое солнце, на этот раз неоновое вставало над страной, готовясь осветить и обласкать тех, кому раньше и в тени было тепло, и погрузить в еще более густую тень тех, кого его лучи никогда не баловали, с какого бы боку оно ни всходило.
Страну выставили на торги и, проработав на заводе полгода, он покинул захиревшую обитель производственного капитала, увлекшись капиталом совсем иного рода. Биржевые игры захватили его воображение своей реальной возможностью обналичивать фиктивный капитал. Надо было только научиться плавать. С доброй помощью старого друга своего отца он устроился в доморощенную фирму с громким, ничего не говорящим названием, с пятью столами, шестью стульями, двумя телефонами и компанией авантюристов с кипящими глазами. То было время плохих новостей, шальных денег и ошарашивающих слухов. Они шли по зыбкой трясине того болота, в которое стремительно погружалась страна вместе с ее почтой, телеграфом, вокзалами, банками, мостами, Зимним дворцом и кремлевскими мечтателями. Своей чуткой сосредоточенностью они напоминали бродячего фотографа, который, сбросив на землю потертое пальто и продев руки в рукава, перезаряжает пленку, с той разницей, что под пальто не фотоаппарат, а толстый пучок разорванных проводов, среди которых нужно нащупать верные и соединить.
И вот в самом конце девяностого раздался тот самый звонок судьбы, который и обеспечил его благополучие и независимость. Однажды ему домой позвонил бывший однокурсник Юрка Долгих, зарабатывавший на хлеб в одном из банков. Среди прочего сообщил, что Риге нужны переводные рубли, а где их взять, да в таком количестве он не знает. И если ему, Димке, это интересно, то вот ему рижский телефон, и пусть он не забудет его в своих молитвах. Телефон он записал, поблагодарил и ушел к бывшей однокурснице, на которой в то время оттачивал свою любовную технику.
На следующий день он улучил момент и позвонил в Ригу. К своему удивлению, приятный женский голос на другом конце провода подтвердил нужду ее министерства в тех самых рублях, что как гнилые нитки трещали вместе с тканью, нас соединявшей. Он уточнил детали и пообещал позвонить в ближайшее время. Единственный человек, к которому он мог обратиться, был все тот же старый друг отца. И надо же было такому случиться, что именно в его объединении, имеющем право на торговлю с капиталистами, как раз и оказались в достаточном количестве те самые рубли, от которых, к тому же, там мечтали избавиться! Другими словами, его руки под пальто нащупали верные провода. Но перед тем как по ним побежал ток, пришлось освободить их от изоляции подозрительности, зачистить до блестящего интереса и крепко скрутить.
Взяв компаньоном Юрку Долгих, он срочно зарегистрировал фирму и посетил Ригу. Там он остановился в той самой гостинице, которую совсем недавно обстреляли не то наши, не то аборигены. Знакомясь, девушка-администратор показала выбоину в мраморе вестибюля, что напомнила ему мемориальные следы из времен блокады. «Как же вы здесь живете?» – спросил он. «Вот так и живем!» – улыбнулась белокурая красавица. В министерстве его хорошо приняли и в письменном виде согласились с его комиссией. Дальше был тот самый основной, до предела насыщенный предосторожностями договор сторон, куда он влез впитывающей прокладкой. Вскоре основные стороны обменялись безналичными реверансами, а еще через два месяца, накануне исторического развода, Рига расплатилась с ним сполна. Через Юрку он обналичил сто тысяч долларов и рассчитался с ним и с другом отца. Оставалось еще двести тысяч, которые любым способом следовало увести со счета до окончания полугодия. Юрка взялся сделать это через свой банк, но нужна была фирма за рубежом.
Дмитрий в очередной раз обратился к другу отца, и тот познакомил его с молодым потомком русских эмигрантов по имени Патрик, который с вежливой улыбкой и изящной бесцеремонностью мародерствовал в ту пору на советских развалинах. За отдельную плату он согласился принять Дмитрия в Париже, чтобы помочь ему открыть счет и приобрести оффшорную компанию, о которых в то время мало кто у нас знал.
Он полетел туда из Москвы. Был конец мая. Сев в самолет, он обнаружил там шумную актерскую компанию, из которых самыми известными были Всеволод Абдулов, Александр Абдулов и Александр Беляев. Всеволод смотрел на попутчиков мягким, добрым, нездешним взглядом, Александр, напротив, был конкретен, и сидя рядом с Беляевым, весь полет напролет жонглировал бутылкой коньяка и сигаретой. Популярное лицо его отдавало краснотой и грешной человечностью. Беляев изредка подавал реплики и был серьезен. Когда прилетели, их долго не выпускали, но, наконец, подъехал трап, и первым, поместившись в иллюминатор, на французскую землю ступил не кто иной, как Примаков. Через некоторое время освободили остальных. «Какие, однако, удивительно разные интересы слетелись вместе со мной во Францию!» – подумал он тогда.
Его встретил Патрик, и через час, задыхаясь от эмоций, он уже поселился в четырнадцатом округе. До вечера он жадно поедал Париж, а утром они отправились в Люксембург – игрушечную страну, приветливую и снисходительную. Ехали не меньше трех часов, общаясь на русском и английском, который прекрасно ладил с его картавостью. В одном месте Патрик указал направо и сказал, что это и есть та самая знаменитая Шампань. Мимо проплыл крепкий остроконечный палец каменного собора, вдали кудрявились рукотворные красновато-зеленые морщины, и солнечный пот стекал на них с трудолюбивого светила. Когда до границы оставалось совсем немного, Патрик опять ткнул направо – там белые купола атомной станции остановились на самом краю горизонта. На подъезде к границе Патрик указал ему на пограничников и велел молчать, если те станут его о чем-то спрашивать, но они обратились к Патрику и, судя по всему, ответом остались довольны. В Люксембурге он оформил покупку оффшора, открыл банковский счет и дал обед в честь банкира и двух дружелюбных сотрудников управляющей компании.
На следующий день с утра Патрик свел его с местными коммерсантами, с которыми он договорился о поставках в Россию подержанных компьютеров. Пригласив Патрика с женой поужинать и, положившись на их выбор, он ринулся на Елисейские поля. Фланируя мимо шикарных витрин и снисходительно посматривая на покорно склонившиеся цены, он ощущал новую, властную силу своего кошелька. В плотном потоке жизнерадостных лиц, навстречу гладковолосым невозмутимым красавицам и розово-лиловому цветению он переместился к Эйфелю, потом к Нотр-Дам, а затем в Люксембургский сад.
Полнясь восторгом финансовой состоятельности, он приобрел по пути песочного цвета брюки, терракотовый пиджак, рубашку и галстук. Напротив Люксембургского сада он купил плейер и несколько кассет – Арт Тэйтум, Эррол Гарнер, Тэдди Уилсон – и в самолете большую часть обратного пути провел, поместив в черных наушниках черный рояль и черных музыкантов, один из которых был почти слеп, другой не знал нот, а третий, зрячий и образованный, стал певцом белого салонного лицемерия.
Но перед этим был ужин в «Куполь». Патрик с женой заехали за ним к семи часам и под чистым вечерним розовым небом повезли на Монпарнас, выдувая через вытянутые трубочки губ похвалы своему выбору.
«О, Куполь, это нечто грандиозное! – говорили они, округляя глаза. – О! Арагон, Пикассо, Модильяни, Сартр, Дали, Ив Монтан и все, все, все!.. О! Богема, устрицы, ягненок!.. Тысяча квадратных метров, почти пятьсот посетителей одновременно! О, это лучшее, что есть в Париже! О, это грандиозно, это обязательно надо видеть!..»
Их провели между рядами столов, расположение которых показалось ему похожим на тесноватые загоны, и усадили недалеко от центральной скульптуры планетарного масштаба, в которой каждый при желании мог увидеть, что хотел. Он, например, увидел невообразимое эротическое сплетение, своей абсолютной нескромностью доставлявшее разборчивому наблюдателю пикантное удовольствие.
Как и положено заказали устрицы, а кроме того, рыбное ассорти. Хозяева настоятельно рекомендовали ему жаркое из ягненка, выбрав для себя тушеного лосося. На серебряных вазах им принесли несчастных устриц, и жена Патрика показала, как с ними расправляться. Когда он поддевал их крючком, ему чудилось, что они жалобно пищали. «Лимону, лимону побольше!» – советовал Патрик. Но даже с лимоном они в тот раз ему не понравились. Не понял он также, что такого необыкновенного его спутники нашли в вине, поднося его к губам, словно для поцелуя.
В ожидании главного блюда он улучил момент и по русской привычке стал разглядывать тех, до кого мог дотянуться взглядом. Кругом бок о бок сидели мужчины и женщины совершенно незнакомой человеческой породы, занятые только собой и своими собеседниками. Лишь один раз их внимание оказалось всеобщим – когда у всех на виду выступила когорта официантов и пропела здравицу случайному имениннику. Лица присутствующих изобразили умиление, а Патрик заметил, что здесь так принято.
Наконец подали горячее. На большом квадратном блюде, как на кремовом полотне уместилась красочная продуктовая композиция больше художественного, чем гастрономического содержания. По неясной причине ягненок ему тоже не понравился, хотя он и съел его из уважения к почтенному заведению. В конце, как и положено, был десерт, кофе и необыкновенно крепкий арманьяк. Весь ужин обошелся ему почти в четыре тысячи франков, но это расходная, так сказать, сторона дела.
Надежно укрыв деньги за границей, он приобрел в Питере две квартиры, записав их на отца и тетку. Перед тем, как уйти, бездетная тетка вернула ему квартиру, добавив к ней свою, так что теперь кроме большой квартиры на Московском, в которой он жил с матерью, у него имелись еще три. Сдавая их, он имел доход пусть и не такой значительный, как от прочих операций, но постоянный и стабильный, который при получении даже не пересчитывался. Кроме того, здесь у него имелось активов не менее чем на два миллиона долларов, которые пройдя через крах и реинкарнацию, отложились капиталом в виде ценных бумаг и акций. Имелся также счет в иностранном банке на такую же сумму.
Безусловно, по нынешним временам он не был вызывающе богат – скорее был достаточно обеспечен, чтобы, к примеру, содержать взбалмошную любовницу. Он держал в голове намерение перебраться за границу, но откладывал его до той поры, когда в стране отчетливо запахнет жареным. Со своими женщинами он был снисходителен, щедр и великодушен. Однако по мере того как живое, трепетное чувство теряло вкус, запах и новизну, его одолевали скука и желание одиночества. Они-то и привели его в ту аллею, где так хорошо отпаиваться воздухом живительной голубизны и куда гипертонические листья-эмигранты заманили и ее.
11
Через полгода после свадьбы, как раз накануне Нового года их родители, скинувшись, купили им двухкомнатную квартиру на Васильевском. Квартира была не в лучшем состоянии, зато рядом с метро. Они переехали и стали там осваиваться, постепенно приводя ее в порядок. Веселые горластые друзья и сокурсники любили бывать у них, оставляя на кухне после себя запах спиртного, закусок и табака. Иногда его личные друзья приводили подруг и просили пустить их в одну из комнат, чтобы побыть там наедине. Мишка никому не отказывал, и когда они возвращались на кухню, посмеивался над их взъерошенным видом. После их ухода она сердито выговаривала ему за снисходительность. «Да будет тебе, Наташка! – отмахивался он. – Что мне, дивана жалко?» Однажды во время очередной случки она случайно зашла в смежную комнату и застыла, услышав за стеной взмывающий на удивленных качелях сдавленный стон, в котором в отличие от ее стонов трепетало неподдельное страстное мучение. Она жадно вслушивалась в его модуляции, чувствуя, как ее первоначальное легкое недовольство обращается в черную зависть. Она не вышла провожать гостей, а после их ухода сухо велела Мишке впредь не превращать квартиру в бордель.