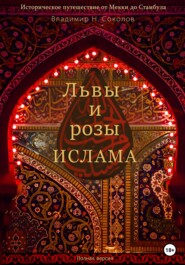скачать книгу бесплатно
Состав населения в пойме Окса был многообразен. На равнинах жили боле или менее цивилизованные таджики – торговцы и земледельцы, предпочитавшие персидский язык. В пустыне обитали неприхотливые кочевники, говорившие на тюркском. В дельте Амударьи жил особый народ, чей язык, по словам современников, напоминал щелканье клювов и кваканье лягушек. В горах обосновались княжества горцев – изолированные и неприступные, почти не общавшиеся с окружающим миром и говорившие на наречии, которого больше никто ее понимал. В прошлом в этих местах проповедовал Заратустра, македонцы и греки строили мраморные храмы и гимназии, а персы собирали дань для шахиншаха. Здесь проходил Великий шелковый путь, тянувшийся из Китая на запад.
Завоевание этих областей далось арабам нелегко. Местные жители всегда отличались воинственностью и плохо мирились с властью как Персии, так и соседнего Китая. Больше всего трудностей для арабской армии создавали тюрки.
Если жизнь арабов была больше связана с верблюдами, то для тюрков основой существования был конь. Ездить верхом они учились раньше, чем ходить. Они пили кобылье молоко и лошадиную кровь, одевались в конские шкуры, из них же делали палатки и обтягивали ими щиты. Конское мясо шло в пищу, грива – на плетение веревок, копыта – на рукоятки мечей. Все, что им было нужно, кроме коней, это железо, из которого делались оружие, лошадиная сбруя и женские украшения. Кроме металла и кожи, в обиходе тюрков можно было найти только ткани или посуду, выменянные у оседлых народов, и добытую охотой кость.
Тюрки были выносливы еще больше, чем арабы, хорошо приспособленные к жаре, но не знавшие жестоких зимних холодов Средней Азии. Так же, как арабы, они жили набегами и скотоводством. Воинами тюрки были не хуже, если не лучше арабов: они всю жизнь буквально не слезали с коней, легко стреляли и метали копья на ходу (арабы предпочитали сражаться пешими).
Абдаллах и Муса
Войну на востоке осложняли постоянные междоусобицы. Племенная рознь была старой болезнью арабов, от которой они не могли избавиться ни до, ни после принятия ислама. Стоило только ослабнуть центральной власти, как на дальних границах просыпался дух бедуинской вольницы. Вновь начиналась борьба за власть, стычки между кланами, поединки и подвиги героев.
Как раз накануне вторжения в Трансоксанию в Хорасане разгорелась вражда между тремя арабскими семьями: Рабиа, Мудар и Бакр. Глава мударцев Абдаллах ибн Хазим захватил власть в столице и убил глав семей Рабиа и Бакр. Представители проигравших кланов укрылись в соседнем Герате, но Абдаллах взял город штурмом. Он дал клятву убить всех, кого захватят до захода солнца, и действительно устроил бойню, перебив 8 тысяч пленников.
Хроники рисуют его могучим рыцарем и рассказывают, как Абдаллах сражался один на один с предводителем семьи Рабиа Харишем. Схватка закончилась вничью, и Хариш, как положено достойному арабу, написал об этом поэму.
Подстать Абдаллаху были и противники. Рассказывали, что Зухайр, оборонявшийся в осажденной крепости, обладал такой силой, что во время вылазки раскидал четверых воинов, пытавшихся крючьями стащить его с коня, и ускакал к своим, весь утыканный вонзившимся в кольчугу копьями.
На время Абдаллах стал могущественным правителем Хорасана, независимым от халифов Дамаска. Но как только власть в центре укрепилась, враги подняли голову и взяли его в кольцо. С немногими сторонниками он бежал из своей резиденции и по дороге был схвачен и убит. Его голову отослали в Дамаск.
Говорили, что Абдаллах отличался неимоверной гордостью. Он не только отказался заключать союз с новым халифом аль-Маликом, но и приказал посланцу съесть его письмо. Настигнутый преследователями, он сражался до последнего и даже перед смертью смеялся над своим убийцей, назвав его сыном пастуха, за которого не дадут и горсти финиковых косточек. Арабский поэт писал, что после его смерти на земле уже не слышно львиного рыка – остались только лающие собаки.
У Абдаллаха остался сын Муса. Еще в ранней молодости Муса отличился тем, что уговорил отца перебить всех захваченных в бою пленных, хотя тот собирался их помиловать. Когда дела у семьи стали плохи, он отправился за Окс, где сколотил бродячую банду и долгое время наводил страх на все соседние города и княжества. Позже, втершись в доверие к правителю города Тирмида, он силой сверг его с трона и превратил город в собственную крепость. Его армию укрепили сотни арабов, бежавшие из Хорасана после смерти Абдаллаха.
Муса воевал со всеми – арабами, персами, тюрками – и в то же время вел двойную и тройную игру, заключая союзы с соседями, играя на их противоречиях и поражая всех безрассудной храбростью и дерзкими вылазками. Бывали моменты, когда его город со всех сторон осаждали сразу и тюрки, и арабы, но ему каждый раз удавалось разбить одних и обмануть других. По характеру это был авантюрист, герой и франт: он повязывал на свой шлем алый кушак и украшал его сверкающим сапфиром.
Могущество Тирмида росло. Город превратился в независимое царство, куда стекались все, кто был недоволен местной властью или искал славы и приключений. К Тирмиду примкнули и 8 тысяч арабских солдат, взбунтовавшихся против халифа и перешедших на сторону Мусы. Командуя этой серьезной армией, Муса заключил союз с местными персидскими княжествами и изгнал за Окс войска халифа. Позже он сумел разбить огромное 70-тысячное войско тюрков. Муса заманил их в предместье города и внезапно ударил с тыла, бросив в бой три тысячи тяжеловооруженных конников. Отрубленные головы врагов он сложил в городе, выстроив из них две пирамиды.
Муса правил Тирмидом 15 лет. Казалось, он достиг вершин могущества, но на самом деле его положение было ненадежным. В городе назревал раскол между арабами, персами и местными племенами. Арабы требовали, чтобы Муса избавился от своего первого министра, перса Табита, обвиняя его в предательстве. В конце концов, тот ушел из города и увел с собой часть армии. С оставшимися воинами Муса сумел разбить Табита, но его силы уже были на исходе. Бывшие союзники персы отвернулись от Тирмида и заключили сделку с арабами из Хорасана. Муса попытался сбежать из города и погиб, упав со споткнувшегося коня (704).
Завоевание Трансоксании
Дела арабов на востоке неважно. Два наместника Хорасана, Умайя и Мухаллаб, совершили неудачные походы за Амударью.
Во время похода Умайи его главный военачальник решил вернуться и сам захватить власть в провинции. Когда армия была на марше, он неожиданно отделился от других, ушел обратно в Хорасан и сжег за собой все мосты через реку, оставив арабов на вражеской территории. На упреки в вероломстве полководец с усмешкой заявил, что Умайя и его солдаты – воины хоть куда, нигде не пропадут и дойдут хоть до Китая. Отрезанные Амударьей арабы оказались в ловушке и едва сумели откупиться и вырваться из окружения.
Наместник Мухаллаб действовал немногим лучше: два года он безуспешно осаждал город Кеш и отступил, ограничившись взятием дани.
Все изменилось, когда за дело взялся новый правитель Хорасана – Кутайба ибн Муслим. Это был один из тех железных руководителей, которые добиваются своей цели любыми средствами, будь то сила, дипломатия или прямая жестокость. Он начал с того, что произнес горячую речь, призвав хорасанских арабов к джихаду и пообещав им богатую добычу. Если кто-то погибнет в бою, заявил он, пусть они не боятся, ведь в Коране сказано: «Не считай тех, которые убиты на пути Аллаха, мертвыми. Нет, живые! Они у своего Господа получают удел».
Многих арабов эти призывы вдохновляли. Рассказывали, что одна жена плакала по ратнику, уходившему на войну с тюрками. Тот спокойно ответил: «Как бы ни выла по мне земная женщина, я отвергну ее ради черноглазых гурий рая». Слова он подтвердил делом: во время битвы бросился в самую гущу врагов и погиб как мученик.
В 706 году армия огромная армия Кутайбы пересекла Амударью и обрушилась на первый стоявший на пути крупный город – Пайкенд. Его стены считались неприступными, а сам город называли просто Крепостью, настолько надежной казалась его защита. Но арабы сумели сделать подкоп под крепостную стену и ворвались в образовавшийся пролом. По традиции, все мужчины в городе были перебиты, а женщины и дети обращены в рабство.
Арабы захватили сказочные сокровища, в том числе две гигантских жемчужины, будто бы принесенные с неба птицами. Другой трофей, тяжелую серебряную статую Будды, они переплавили на монеты, чтобы раздать жалованье солдатам.
Следующий удар Кутайба нанес по цветущей Бухаре. После трех или четырех неудачных попыток взять город арабы разгромили главную армию тюрок. В этом бою отличился Ваки, грубый и сильный бедуин из племени тамим: держа в левой руке знамя, а в правой – железную палицу, он бросился с пехотой через реку и захватил господствующий холм. Узнав о взятии Бухары, царь соседней Согдианы сам попросил мира и согласился выплачивать дань, если арабы не придут на его землю.
В Бухаре после победы мусульман сложилось необычное положение – она была занята арабами, но не до конца. В центре города, где находилась крепость, по-прежнему жил старый правитель города, сохранявший формальную власть над областью. Во внешних предместьях вокруг города обитали местные жители. Сами же арабы поселились в среднем кольце города, разделив его, по своему обыкновению, на отдельные районы по племенному признаку. Они разрушили здесь храмы других религий (христиан и огнепоклонников) и построили множество мечетей.
Такой «слоеный пирог» устраивал арабов и точно отражал реальное положение вещей: на завоеванном Востоке арабы были только прослойкой, диктовавшей свою волю местным властям и собиравшей налоги с населения. Это позволяло им обходиться минимальными силами, контролируя огромные территории с помощью небольших гарнизонов или просто кабальных договоров. Но это же делало их власть неустойчивой и грозило мятежами и восстаниями.
Инструкторы. В Бухаре новообращенные мусульмане не знали ни арабского языка, на котором был написан Коран, ни правил поведения на пятничной молитве. Приходилось приставлять к ним специальных инструкторов, которые командовали на персидском, когда молящимся надо было кланяться или простираться ниц. Каждому жителю, приходившему на молитву, платили по два дирхема, чтобы стимулировать распространение ислама.
Первый из мятежей вспыхнул в Тохаристане. Тюркский хан Найзак, прежде заключивший союз с арабами, возглавил местное сопротивление и заручился поддержкой соседних князей. Но как только войска Кутайбы начали захватывать города и жестоко расправляться с непокорными, этот союз быстро распался.
Сам Найзак попытался сбежать в Кабул, однако был взят в плен и вскоре казнен. Чуть позже был разгромлен Шуман, самый дальний оплот бунтовщиков (современный Душанбе): Кутайба успешно применил катапульты и вынудил защитников дать бой за стенами города, в котором погиб шуманский князь и большинство его воинов.
Следующей целью арабов стал Самарканд, столица Согдианы. Сопротивление согдийцев было быстро сломлено, и царь Гурак заключил с Кутайбой мир, согласившись выплачивать большую дань. Кутайба потребовал, чтобы все старые храмы в городе были уничтожены, их сокровища изъяты, а идолы сожжены в костре. На их месте он построил мечети.
В отличие от Бухары, арабы почти целиком оккупировали Самарканд, вынудив Гурака удалиться из города. По закону в Самарканде постоянно могли жить могли только арабы. Все остальные считались чужаками и не имели права даже оставаться на ночь: приходя в город утром, они должны были покинуть его вечером. Чтобы следить за выполнением этого приказа, каждому входящему в городские ворота ставили на руку печать из влажной глины: если у кого-то она успевала высохнуть раньше, чем он выходил обратно, ему отрубали голову.
Набрав в захваченных землях новых солдат, Кутайба двинулся дальше, к Фергане и Китаю. Ему удалось дойти до китайских границ и даже отправить посольство к императору, однако этим дело ограничилось. В халифате произошла очередная смена власти, которая положила конец завоеваниям Кутайбы.
Не дожидаясь отставки, Кутайба решил сам бросить вызов новому халифу Сулейману. Он понимал, что к власти в Дамаске пришли другие люди и лучше не ждать, когда на него обрушится их немилость. Ведь и до него таких примеров было немало: новые правители снимали успешных полководцев с должностей, сажали в тюрьму или казнили.
Кутайба обратился с речью к войскам, напомнив о своих заслугах перед армией, о победах и богатствах, которые они получили благодаря ему. Он ожидал, что армия его поддержит и провозгласит правителем. Но солдаты молчали. Никому не хотелось ввязываться в гражданскую войну, даже ради столь достойного полководца.
Тогда Кутайба пришел в ярость и начал осыпать их оскорблениями. Он называл солдат лжецами и предателями, людьми без гордости и чести, паршивыми верблюдами и «задницами диких ослов». В отчаянии Кутайба попытался сбежать из лагеря, но его не подпустил к себе любимый конь. Это окончательно сломило его волю: он уединился в своем шатре и лежал, повторяя: «Да помилует меня Аллах», – пока его не убила разъяренная толпа. Семья Кутайбы тоже погибла: брата Абд аль-Рахмана забили камнями на базаре, а остальные родственники были распяты по приказу Ваки.
Ваки стал новым наместником Хорасана, но ненадолго. От его грубости и дикости всех воротило: ему ничего не стоило прилюдно помочиться. Вскоре в провинцию прибыл новый наместник Мухаллад и арестовал Ваки, подвергнув его пыткам.
Два Саида и Джунайд
После мощной фигуры Кутайбы следующие наместники Хорасана выглядели очень бледно. Два из них, оба по имени Саид, оставили по себе плохую память. Поэт о них писал:
Получили мы Саида взамен Саида:
Не уйдешь от беды, коли зла судьба!
Правление первого Саида, которого звали Хузайна, запомнилось только смелым рейдом арабов против тюрков, осадивших маленький городок Каср аль-Бахили. Самаркандский полководец Аль-Мусайаба всего с тысячей воинов обрушился ночью на тюркский лагерь и сумел вывезти из осады мусульман раньше, чем подошла основная армия врага. Арабы сложили об этом подвиге много песен и стихов.
Второму Саиду, по имени Амр аль-Хараши, удалось взять Пенджикент, уничтожив при этом большую часть города. Но общее положение от этого не стало лучше. К 728 году арабы потеряли почти все земли за Амударьей, удержав в своих руках только Самарканд.
Ислам и харадж. Желая обратить согдийцев в ислам, наместник Хорасана Ашрас пообещал освободить от податей всех новообращенных. Это предложение имело такой успех, что скоро в Согде не осталось ни одного немусульманина и не с кого стало брать налог. Когда об этом сообщили Ашрасу, он сказал: «В харадже сила ислама», – и потребовал обложить налогами тех, кто принял ислам «неискренне». В конце концов, джизью стали брать вообще со всех согдийцев, и тогда они подняли восстание.
Когда в Хорасан прибыл новый наместник Джунайд, тюрки как раз окружили самаркандские стены и готовились взять их штурмом. Комендант Самарканда, Савра ибн аль-Хурра, написал, что внешние укрепления уже пали и он с трудом удерживает город. Джунайд поспешил собрать небольшую армию и бросился на помощь. Чтобы сократить путь, он пошел через горный перевал, где его встретил крупный отряд тюрков. Понимая, что силы неравны, Джунайд пообещал рабам свободу, если они будут сражаться вместе с арабами. Не имея оружия, рабы стали рубить деревья на дубины, а вместо доспехов надели на головы конские попоны, сделав в них прорези для глаз. По рассказу летописца, сражение было таким яростным, что «мечи затупились от ударов».
Победа не досталась никому, но арабы не смогли пробиться к Самарканду. Рискуя попасть в окружение, Джунайд обратился к коменданту с требованием покинуть Самарканд и идти к нему на помощь. Все понимали, что для Савры ибн аль-Хурра это равносильно самоубийству, но Джунайд настоял на своем. Савра повиновался и попытался пробиться сквозь армию тюрков, но попал в окружение и погиб в бою. Из 12 тысяч его солдат одиннадцать тысяч были убиты. Позже арабы утверждали, что видели над полем битвы небесные шатры, разбитые для погибших мучеников, а от земли, политой их кровью, исходил запах мускуса.
Битва с Саврой отвлекла силы тюрков, и Джунайд смог прорваться к Самарканду и спасти город. Но репутация его была навсегда погублена. Об этом походе тоже остались песни, где Джунайда называли трусом и «девочкой в женском шатре» (внешне он был красив):
Лучше бы тебе провалиться в яму в день битвы,
Чтобы тебя засыпало комьями сухой грязи!
В довершение всех бед в войсках арабов вспыхнул очередной мятеж. Вождь мятежников аль-Харис ибн Сурайдж объединился с тюрками и вторгся во владения арабов. Восстание продолжалось два года и сильно ослабило власть халифата.
Асад и Наср
Владычество арабов в Средней Азии висело на волоске, но тут в Хорасан назначили нового наместника Асада ибн Абдаллаха. Это был мудрый и дальновидный политик, предпочитавший военной силе миролюбие и дипломатию. Ему удалось заключить союз со многими местными князьями и даже склонить их к принятию ислама. Это сыграло ключевую роль в подавлении мятежа и полном разгроме тюрков. Тюркский каган был убит собственными подданными, а его царство развалилось.
После смерти Асада его дело продолжил Наср ибн Сайар. Он пошел на смелый шаг, который имел далеко идущие последствия: приравнял в правах арабов с другими мусульманами. Правда, это было сделано только в одной, но зато самой важной сфере – налоговой. Вся тяжесть податей отныне ложилась только на неверных: мусульмане, в том числе и не-арабы, от них освобождались. Быть мусульманином становилось важнее, чем быть арабом.
Наср завоевал расположение согдийских богачей, простив им все долги, и пошел так далеко, что амнистировал бывших отступников от веры, хотя в исламе это было преступлением, каравшимся смертной казнью. А чтобы подтвердить, что все это делается не из слабости, а исключительно ради миролюбия, он провел военный рейд в Фергану и подчинил себе несколько городов.
Результаты всего этого для халифата были самые благоприятные. Население стало более охотно переходить в ислам. Бывшие противники арабов теперь пополняли их армию и занимали ведущие посты. В это время зародились многие правящие мусульманские династии, такие, как Саманиды в Самарканде и Бармакиды в Балхе. Новый принцип лег в основу будущей политики халифов, где религиозную и национальную агрессию сменили расцвет культуры и мирное сосуществование. Но он же подготовил почву для будущего переворота, в результате которого к власти в халифате пришла новая династия, а вместе с ней – и новая эпоха.
Последняя граница
В это время арабы установили самую дальнюю восточную границу своих владений. Их неудержимая лавина остановилась перед бескрайними степями Казахстана и Киргизии, где жили дикие и вольные кочевники. Правда, еще дальше на востоке находился великий Китай, и арабы не были бы арабами, если бы не попытались сделать шаг в этом направлении. В борьбе за Фергану и Шаш им пришлось столкнуться с китайскими интересами: дело дошло до военных действий.
Китайская армия во главе с корейским полководцем Гао Сяньчжи вторглась в Фергану и встретилась с арабским войском, которым командовал Зийад ибн Салих. В июле 751 года произошла битва при реке Тараз (Талас). Сведения о ней довольно туманны, но в целом победа осталась за арабами. Бой при Таласе иногда называют «малой битвой народов», поскольку, кроме китайцев и арабов, в ней участвовали персы и тюрки. Но судя по тому, что о ней почти не упоминают ни арабские, ни китайские хроники, вряд ли ее масштабы и значение были велики.
Арабских историков больше волновал роскошный перстень с яхонтом, который Зийад захватил у какого-то знатного китайца и подарил в качестве трофея халифу Абу-ль-Аббасу. Потом этот перстень переходил по наследству от одного халифа к другому, пока Харун аль-Рашид не потерял его во время стрельбы из лука.
Историки считают, что китайские пленники, взятые в этом сражении, передали арабам секрет изготовления бумаги. Благодаря этому будущая арабская культура стала не пергаментной и не папирусной, а бумажной.
После битвы при Таласе можно было ожидать продолжения войны, но в это время и в китайской империи, и в арабском халифате наступил период смуты, и на этом их противостояние закончилось. Возможно, это не очень расстроило арабов. Образцом земного величия для них был Александр Македонский, которого они тщетно старались превзойти. Александр Македонский не был в Китае, зато был в Индии. И арабы не обошли своим вниманием эту страну.
Завоевание Синда
Индийское царство Синд находилось у моря, в нижнем течении реки Инд, у арабов называвшейся Михран. Здесь правил царь из касты брахманов, а подданными были в основном полукочевники, полуземледельцы, которых арабы называли «зутты». Удобным поводом для вторжения арабов послужили синдские пираты, напавшие на арабские корабли.
Во главе войска встал молодой Мухаммед ибн аль-Касым, который уже с семнадцати лет занимал в армии высокие посты. Он перешел через безводную пустыню Макран, где некогда чуть не погиб великий Александр, окружил столицу страны Дайбул и начал обстреливать город с помощью гигантской катапульты. Это адское орудие обслуживали 500 с лишним человек, у нее было даже собственное имя – «Невеста».
Центром Дайбула была буддийская ступа с высокой мачтой, на которой развевались алые флаги. Когда катапульта сбила мачту, дух защитников был сломлен. Арабы штурмом взяли стены и устроили в городе резню, уничтожив буддийский храм и перебив всех его священников. Вместо ступы была возведена мечеть.
Остальные города почти не сопротивлялись. По словам летописца, их добровольно сдавали миролюбивые буддисты, не желавшие войны. Четыре тысячи зуттов присоединились к Мухаммеду и усилили армию арабов. Последнее сражение состоялось на берегу Инда. Царь Синда Дахир ехал впереди на белом слоне, вооружившись только луком и жуя дурманящие листья бетеля. Арабы выпустили в него стрелы с горящими наконечниками, слон бросился в воду, а царь упал и был обезглавлен, как писал поэт, «в грязи и с пылью на впалых щеках». Его жены покончили с собой. Впрочем, некоторые рассказывают, что на одной из них, по имени Лади, женился сам Мухаммед ибн аль-Касым.
После смерти царя следующие города уже не просто сдавались, а встречали Мухаммеда плясками и музыкой, как нового правителя. Он захватил весь Синд и правил страной три с половиной года, пока новый халиф Сулейман не отозвал его в Дамаск. Здесь его арестовали и подвергли страшной казни: завернули в сырую шкуру, которая стала высыхать и сжимать его, пока не задушила насмерть. При Сулеймане мусульмане сохранили власть над южной Индией, а позже еще больше расширили свои владения. Что касается зуттов, то, по мнению некоторых ученых, они являются предками современных цыган.
6.2. Завоевания на западе
Поход Укбы
Еще при халифе Османе арабская армия захватила часть Северной Африки (Ифрикии) вплоть до Карфагена. Муавия поставил во главе этих земель Укбу ибн Нафи аль-Фихри – племянника Амра, великого завоевателя Египта. Укбе предстояло совершить беспримерное предприятие: идти дальше на запад и подчинять исламу все земли и народы, пока арабы не доберутся до края земли. Отправляясь в поход, он попрощался со своим сыном, сказав, что вряд ли они еще увидятся. В его войске было всего несколько тысяч человек.
Стратегия Укбы была проста: разбивать всех, кто попадется по пути, и двигаться дальше. Выполняя эту программу, он успешно громил и римские войска, и племена берберов. Укба по очереди взял Танжер, Волюбилис – древние города, брошенные римлянами и уже наполовину погребенные в песках, – и добрался до самого берега Атлантики. Здесь он въехал в воду по брюхо лошади и воскликнул: «О Аллах, если бы меня не остановило море, я прошел бы по всей земле, как Александр Македонский».
Достигнув конечной точки своего похода, Укба совершил странный и самоубийственный поступок: распустил почти всю армию и с кучкой воинов напал на берберского царя Коциллу, восставшего против арабской власти. Очевидно, Укба искал смерти – и нашел ее.
Убив Укбу, Коцилла вскоре захватил новую столицу Ифрикии – Кайруан, и арабам пришлось отступить к морю, в порт Барку. Почти все завоевания Укбы были потеряны. Коцилла основал новое государство «Ифрикия и Магриб», просуществовавшее всего четыре года.
Зухайр, Хассан и Муса
Отвоевывать Северную Африку пришлось новому наместнику Зухайру. Коцилла тщательно подготовился к вторжению арабов и собрал против них большую армию, но это не помогло: Зухайр, имевший всего 4–6 тысяч воинов, наголову разбил его под Кайруаном. Сам Коцилла был убит в сражении.
Почти одновременно с этим византийцы, все еще удерживавшие Карфаген, напали на арабов с моря и захватили Барку. Зухайр попытался отвоевать ее с небольшой армией и погиб.
Но это была только пауза перед новой, более мощной волной арабского нашествия на Запад. В Северную Африку прибыл с полномочиями главнокомандующего Хасан аль-Гассани из рода Гассанидов, бывших союзников византийцев. У него был титул «шейх амин», то есть «верный старец», и армия в 40 тысяч человек.
Некогда великий Карфаген, которым 800 лет владели римляне, сдался без боя. В нем оставалась только горстка жителей, обитавших в грандиозных развалинах. Перед появлением арабов они просто собрали свои вещи и уплыли на лодках. Арабы вошли в пустой город – и почти сразу вышли обратно, оставив его в том же виде, в каком он находился раньше. С византийским (и европейским) присутствием в Северной Африке было покончено.
Однако берберы не собирались сдаваться так быстро. Как ни странно, сопротивление возглавила женщина, некая Кахина, то есть «пророчица». Рассказывали, что эта смелая воительница из племени заната ходила с длинными космами волос и вдохновляла кочевников на бой. Ее пророчества, в чем бы они ни состояли, и харизматическая власть так воодушевили берберов, что они буквально смяли войска арабов. Хасану пришлось бежать в Барку и собирать новую армию.
Кахина понимала, что арабы вернутся. Если верить легенде, она использовала против оккупантов тактику «выжженной земли». Жрица берберов нарочно разрушала собственные крепости и города, вместе с хранившимися в них богатствами, а также все рощи и сады, чтобы сделать свою землю непривлекательной для арабов. Ее царство пряталось в горном массиве Орес, изрезанном узкими ущельями и очень неудобном для ведения войны.
Но все эти хитрости и предосторожности оказались бесполезны. Хасан выступил из Барки, присоединив к своему войску 12000 берберов. В двух битвах он разбил врага и убил саму Кахину, отправив ее голову в Дамаск. По преданию, открыв мешок и взглянул на ее лицо, халиф сказал: «В конце концов, это была всего лишь женщина». Новой штаб-квартирой Хасана стал Кайруан.
Положение Омейадов в самом халифате тем временем пошатнулось, и власть в Египте захватил Абд аль-Азис, брат дамасского халифа аль-Малика. Аль-Азис сместил Хасана и поставил на его место Мусу ибн Носсейра – человека незнатного происхождения, который добился всего благодаря личным способностям.
Муса ибн Носсейр продолжил завоевание Северной Африки. В отличие Персии или Византии, это была пустынная и сравнительно бедная земля, не дававшая обильной добычи в виде денег, товаров и скота. Но арабы нашли им хорошую замену – людей. Уже Укба охотно брал в плен молодых берберок, которые высоко ценились на невольничьем рынке: цена на одну девушку доходила до 1000 динаров. Но при Мусе ибн Моссейре захват пленников и работорговля приняли в халифате массовый характер. Когда после захвата Магриба Муса написал аль-Азису, что пришлет ему 30 тысяч рабов, тот подумал, что писец ошибся – цифра была слишком велика. Но на самом деле рабов оказалось вдвое больше.
Принцесса. После смерти ифрикийского царя Джурджира его дочь стала добычей одного из арабских воинов. Посадив ее на верблюда, он отправился домой, напевая: «О дочь Джурджира, пришел твой конец! В Хиджазе есть для тебя хозяйка!» Принцесса спросила: что говорит эта собака? Когда ей перевели его слова, она бросилась вниз с верблюда, сломала шею и умерла.
В Танжере Муса поставил во главе города Тарика ибн Заида, местного бербера. Танжер стал удобной базой для вторжения в Испанию – от арабов ее теперь отделял только Гибралтарский пролив, такой узкий, что в хорошую погоду на другом берегу было видно Европу.
Испания
Инициатором похода в Испанию, или аль-Андалус («Страну вандалов»), как называли ее арабы, стал Тарик ибн Заид. Танжер стоял на побережье Северной Африки и был пограничным форпостом, где жили почти одни берберы. Разглядывая через Гибралтар берега Испании, Тарик долго вынашивал план опасной экспедиции, которая в случае удачи сулила богатую добычу. Как когда-то Амр в Египте и как позже многие другие завоеватели, он предпринял этот поход на свой страх и риск, рассчитывая только на собственные силы.
Проблема была в том, что по ту сторону пролива берберов ждали не разрозненные банды варваров, разложившихся и одуревших от бесконечных войн и грабежей. В Испании уже триста лет существовало мощное визиготское государство, скрепленное единой христианской верой и властью короля.
По легенде, Тарику помог случай. Недалеко от Танжера на побережье Африки находился город Сеут. Здесь правил некий Юлиан, христианин, дочь которого жила при дворе визиготского узурпатора Родриго. Когда распространились слухи, что Родриго обесчестил его дочь, Юлиан решил отомстить и предложил берберам свои корабли для переправы через Гибралтар. Договорившись с мусульманами, он отправил в Танжер торговые суда, которые вернулись в Сеут уже нагруженные армией во главе с Тариком. В Испанию эти корабли прибыли плод видом купеческого флота. Высадившись на берег, предусмотрительный Тарик отправил корабли вдоль берега Испании на север, чтобы они могли забрать берберов в случае военной неудачи.
Родриго в это время воевал с басками на севере. Узнав о вторжении арабов, он срочно вернулся в Кордову, собрал большую армию и двинулся на юг. Тарик тоже не стал сразу бросаться в бой, а дождался подкрепления из Африки, доведя численность своего войска с 7 до 12 тысяч человек. Решающая битва состоялась в 711 году на реке Гуаделете. Во время сражения часть визиготского войска, которым командовали сыновья бывшего короля Витица, оставила поле боя и бежала, подставив Родриго под удар арабов. У сыновей Витица были свои расчеты: они считали власть Родриго незаконной и хотели избавиться от узурпатора руками восточных кочевников, а потом захватить трон. Армия визиготов была разгромлена, и Родриго погиб.
После этого арабы без труда захватили Кордову и столицу королевства Толедо. Архиепископ Синеред бежал в Рим словно «наместник, а не пастырь», как сообщала испанская хроника.
Добыча, взятая арабами в Андалсуии, не уступала той, что была захвачена у персов. После взятия Кордовы два бербера обнаружили ковер, сшитый из золотых полос с жемчугом, яхонтами и хризолитами: он был так тяжел, что его не смогли унести, пока не разрубили пополам. В крепости Фирас, в двух днях пути от Толедо, солдаты нашли «стол царя Соломона», доверху наполненный золотом и драгоценностями. Многие воины пытались утаить свои трофеи, чтобы не отдавать их для обычного дележа. Одни отламывали клинок у меча и наполнял ножны золотом и самоцветами, а сверху вставляли рукоятку; другие прятали золото в полой трости или в мешочке, подвешенном в паху; третьи использовал жидкую смолу, которая застывала вместе с залитыми в нее монетами и рубинами. Какой-то солдат поймал кота, распорол ему живот, набил его драгоценностями и бросил у дороги, словно падаль, а потом вернулся и забрал добычу.
Поход Тарика расчистил путь для основной арабской армии, вторгшейся вслед за ним в Испанию. Она насчитывала уже 18 тысяч человек и состояла в основном из арабов. Командовал ею все тот же наместник Ифрикии – Муса ибн Носсейр. Муса стремительным рейдом прошел по югу Испании и захватил Севилью, Сарагосу и Мериду. Только в последней он встретил серьезное сопротивление: город сдался после длительной осады.
Поход был более, чем успешным, но награда за все эти подвиги со стороны халифа оказалась своеобразной: он отозвал Тарика и Мусу в Дамаск, арестовал обоих и посадил в тюрьму. Арабская империя слишком разрослась, и военные успехи на границах вызывали подозрения, поскольку грозили мятежом. Не будь Тарик и Муса так послушны и лояльны к центральной власти, они вполне могли бы отделиться от далекого Дамаска и образовать собственный эмират, как это и произошло впоследствии.
В Испании остался сын Мусы, Абд аль-Азис, который продолжил завоевания отца. Он заключил договор с еще одним визиготским князем, Теодомиром. Тот обещал не предпринимать никаких действий против арабов, не давать приюта их врагам и ежегодно выплачивать дань – оливковым маслом, медом, зерном, «сгущенным соком», уксусом и деньгами (по динару с каждого жителя). Теодомир сохранил всю полноту власти на своем куске земли и, видимо, считал такую сделку выгодной, поскольку дань была совсем невелика. Но мусульмане знали, что делали: не прошло и ста лет, как все эти земли стали мусульманскими, а местные жители перешли в ислам.
Абд аль-Азис женился на дочери Родриго и унаследовал ее права на трон и власть над королевством. Но убили его свои же, в результате заговора: арабам не понравились кичливость и надменность, которую наместник приобрел вместе с короной. Летописи говорят, что в этом была виновата жена Абд-аль-Азиса, требовавшая, чтобы арабы оказывали ее мужу варварские знаки почтения: кланялись, падали ниц и т. д. Она даже уговорила его сделать в зале для приемов маленькую дверь, чтобы все входившие поневоле сгибались чуть ли не до земли. Заговорщики напали на аль-Азиза в севильской мечети, отрубили ему голову – на полу еще долго была видна кровь – и доставили ее в Дамаск халифу Сулейману, который показал голову сына его отцу Мусе.
Пророчество. С захватом Анадусии связана легенда о таинственной комнате, расположенной в недрах королевского дворца. Будто бы каждый король визиготов запирал дверь в эту комнату на один замок, так что со временем их образовалось больше десятка. Не сомневаясь, что там спрятаны несметные сокровища, Родриго вскрыл все замки и вошел в комнату. Но вместо золота и драгоценностей он увидел нарисованное на стене изображение арабов и надпись, говорившую, что когда комната будет открыта, этот народ завоюет Пиренеи.
Конец экспансии
В завоеванной Испании почти сразу началось христианское сопротивление. Знатный гот Пелайо укрылся в горах Астурии и собрал армию, которая разбила арабов в битве у Ковадонги (717). После этой победы на свет появилось одно из мелких христианских королевств, которые со временем распространились по всей северной Испании и не давали арабам чувствовать себя полными хозяевами. Все это не помешало арабам перейти через Пиренеи и вторгнуться в южную Францию. Их амбиции были безграничны: судя по мусульманским хроникам, они собирались пройти через всю Европу, вторгнуться в Византию и, захватив ее, с севера вернуться в родную Сирию.
Конец этим планам положили франки, уже набравшие большую силу и собиравшиеся объединить под своей властью всю Европу. Вторжение мусульман заставило их консолидироваться. В 725 году арабы были уже в Бургундии, захватив города Бордо и Каркассон. Но в решающей битве при Павии вождь франков Карл по прозвищу Мартелл (Молот) одержал сокрушительную победу. После этого арабы уже не решались делать набеги во Францию и ограничились Испанией, где благополучно существовали еще несколько сотен лет.
Причины наступившего перелома называют разные. С чисто военной точки зрения арабы были оккупантами, но, обращая местных жителей в ислам, они делали их своими сторонниками. Ислам был арабской религией: становясь мусульманином, человек тем самым переходил на сторону арабов. Но христиане франки явно не желали принимать мусульманство. Оно было для них чуждо, в отличие от берберов, коптов, персов или тюрков.
Второй причиной могло стать разразившееся в это время восстание берберов, едва не покончившее с властью халифата в Африке. Берберы были плохими мусульманами и вечно бунтовали. Дело было не только в работорговле, на которой наживались халифские наместники, но и в общем отношении завоевателей к берберам. Арабы презирали и ненавидели берберов – людей, по их мнению, жестоких и примитивных, бунтовщиков, отступников, часто менявших веру, или, наоборот, слишком фанатичных.