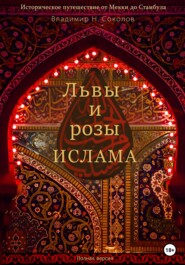скачать книгу бесплатно
В Мекке ежегодно проходили знаменитые ярмарки, где проводились состязания воинов и поэтов, составлялись торговые союзы и заключались деловые сделки. Ярмарки длились по 4 месяца, во время которых во всей Аравии царил мир. В это время в город стекались паломники из многих арабских племен, чтобы поклониться стоявшим в нем богам и идолам, и главному из них – Каабе.
Посреди Мекки, как и во всяком городе, имелась рыночная площадь, а на краю ее стоял храм, имевший форму куба, поэтому ее называли Кааба – игральная кость.
Незадолго до появления ислама авторитет Мекки был оспорен христианами. Когда в Йемене властвовала абиссинская династия, правитель по имени Абраха решил перенести религиозный центр Аравии из Мекки в свою столицу Сану. Он построил в городе большой собор, но арабы осквернили христианский храм, разбросав по нему навоз. Тогда разъяренный Абраха собрал большую армию и отправился в Мекку, чтобы сокрушить Каабу. В его войске был привезенный из Африки боевой слон, поэтому армию Абрахи прозвали «людьми слона», а год, в который состоялся поход, – Годом слона.
Сила йеменцев была так велика, что курейшиты в Мекке даже не пытались ей сопротивляться: они оставили город и удались на соседние холмы, заявив, что бог Каабы сам о себе позаботиться. И действительно, произошло чудо: Абраха не смог войти в город, его армия была разгромлена, а сам он с позором отступил. По легенде, на солдат напали птицы и забросали их камнями и осколками скал. В Коране говорится, что Аллах «превратил их в мертвое поле соломинок и стеблей с разъеденным нутром» (105: 1–5). Сохранилось даже подробное описание этих птиц: зеленых, с желтыми клювами, размером с ласточку; в клювах они держали по большому камню, и еще по одному – в каждой из лап.
Слава южноаравийских царств к этому времени закатилась. Счастливая Аравия дряхлела и разваливалась на части. Аравия Пустынная, наоборот, процветала и крепла. В 570 году персидский царь Хосров I отправил в Йемен горстку головорезов, заключенных-смертников, в насмешку поручив им завоевать эту страну или погибнуть. И пара сотен бандитов, которым нечего было терять, без особого труда свергла династию Абрахи и захватила власть. Так пало великое Сабейское царство, одно из древнейших арабских государств, некогда бывшее символом восточной роскоши и несметного богатства.
В Год слона (570) в Мекке родился Мухаммед ибн Абдаллах, Пророк Аллаха.
Мухаммед
По преданию, Мекку основал сын библейского патриарха Авраама, Исмаил. Он дал начало роду амаликитов, которых сменило племя джурхум. Джурхум со временем вытеснил род хуза, а хузу – курейш, племя Пророка.
Племя курейшитов состояло из нескольких кланов, которые жили в разных кварталах города. Самым могущественным и богатым считался клан омейядов, а одним из мелких и незначительных – клан хашим. Из хашим происходили отец и мать Мухаммеда: Абдаллах и Амина.
О рождении Абдаллаха тоже есть предание: его отец Абд аль-Муталиб будто бы пообещал божеству Хубалу, что если у него будет десять сыновей, он принесет в жертву одного из них. Десять сыновей действительно родились, и по жребию жертвой оказался Абдлаллах. Тогда, чтобы уклониться от выполнения своего обещания, Абд аль-Муталиб обратился к гадалке из Йасриба, которая сказала, что вместо сына можно отдать 100 верблюдов. Для любого араба это было целое состояние, но Абд аль-Муталиб не пожалел денег и спас сына с помощью верблюдов.
Рассказывали также, что в ночь рождения самого Мухаммеда подземные толчки сотрясли царский дворец в персидской столице Ктесифоне и погасили священный огонь, горевший 1000 лет. Произошло это, конечно, не случайно: следом за огнем по вине Мухаммеда угасла и сама персидская династия.
Абдаллах умер очень рано, в 25-летнем возрасте, возвращаясь с караваном в Мекку и не успев увидеть родившегося сына. Семье осталось небогатое наследство: пять верблюдов, несколько коз и одна рабыня. То ли из-за бедности, то ли по давнему обычаю Мухаммеда отправили на воспитание бедуинке, жившей в предместье Мекки. Женщина по имени Халима из племени хавазин вскормила его грудью, а потом растила в своем доме.
Уже в раннем в возрасте у Мухаммеда произошел один из тех загадочных приступов, во время которых он падал в обморок. Кое-кто из критически настроенных к исламу ученых до сих пор считает, что причиной его припадков была нервная болезнь, проявлявшаяся в разных симптомах и прикидывавшаяся разными недугами. Она то оборачивалась лихорадкой, то повергала в столбняк, то вызывала лицевые судороги, во время которых у него дрожали губы и язык, вращались глаза и непроизвольно качалась голова. В исламских источниках эпизоду с детским приступом дают другое объяснение: к мальчику явился архангел Гавриил и удалил из Мухаммеда первородный грех, вырвав из его груди некий кровавый кусок со словами: «Эта часть от дьявола». Затем, омыв его сердце водой из священного источника Замзам, Гавриил вернул сердце на место и закрыл грудную клетку, на которой с тех пор остался глубокий шрам.
Когда Мухаммеду исполнилось шесть лет, его мать умерла, и рабыня увезла мальчика к его деду Абд-аль-Мутталибу. 80-летний дед баловал внука и позволял ему сидеть возле Каабы на своем ковре, на что не осмеливались даже его сыновья. Через два года, когда дед умер, попечение о Мухаммеде перешло к его дяде Абу Талибу. Дядя имел многочисленное семейство – двух жен и не меньше десяти детей – и был небогат, поэтому Мухаммеду пришлось самому заботиться о своем пропитании. Он кормился тем, что пас чужой скот овец и собирал за городом дикий виноград. Позже на вопрос, пас ли он овец, Мухаммед с гордостью отвечал: да, как и все пророки.
Когда племянник повзрослел, дядя стал брать его с собой в купеческие поездки. Однажды, идя с караваном в Басру, Мухаммед встретил христианского монаха по имени Бахира, который уже давно ждал пришествия последнего Пророка, предсказанного в какой-то имевшейся у него книге. Мухаммед точно подходил под это описание, но монах на всякий случай осмотрел его спину, на которой между лопатками должен был стоять особый знак – печать пророчества. Знак был на месте. После этого сомнений уже не оставалось: Мухаммед – последний пророк, которого следует беречь как зеницу ока.
В 24 года Мухаммед начал самостоятельную жизнь. Он расстался с дядей и поступил на службу к богатой вдове Хадидже. В то время ей было сорок лет, она похоронила уже двух мужей, имела троих детей и сама вела свое хозяйство. Мухаммед начал с должности погонщика мулов, но вскоре выдвинулся и стал помощником и управляющим. В его обязанности входило совершать поездки с торговыми караванами, в состав которых входили и верблюды Хадиджи.
Молодой Мухаммед произвел хорошее впечатление на Хадиджу, и дело кончилось браком. Но родные невесты встали на дыбы: Мухаммед был бедняк, неровня их богатой семье. В конце концов, отца Хадиджи пришлось напоить вином, чтобы вырвать у него согласие на брак. Протрезвев, тот сильно разгневался, но дело было сделано.
У Мухаммеда и Хадиджи родились двое сыновей, умершие во младенчестве. Больше повезло четырем его дочерям: Зейнаб, Рукайе, Умм-кулсум и Фатиме, – они достигли взрослых лет и составили выгодные браки. Несмотря на разницу в возрасте, к своей жене Мухаммед относился с любовью и уважением, и даже смерть обоих сыновей не заставила его взять вторую жену, хотя отсутствие наследников считалось для араба несчастьем и позором. Говорили, что после ее смерти он имел обычай резать барана и раздавать мясо беднякам в память о Хадидже. Говорили также, что до брака с первой женой Мухаммед хранил целомудрие: не потому, что по природе был воздержан, а потому, что во время своего пастушества совсем не видел женщин. Раза два он собирался пойти в город, чтобы познать сладость женской любви, но разные препятствия каждый раз его задерживали и не давали осуществить это намерение.
Люди, лично знавшие Мухаммеда, отмечали, что он был необыкновенно мягок и кроток в речах. В его внешности и поведении не было обычной для бедуина суровости и мужественности: наоборот, он отличался неровным характером, склонностью к меланхолии и женской чувствительностью. Он не переносил дурных запахов, во время болезни мог жаловаться и плакать как ребенок. Не доставало ему и деловой хватки, практичности в делах: не будь брака с Хадиджей, вряд ли ему удалось бы достигнуть заметного положения в обществе.
Что касается его внешности, это был человек среднего роста, крепко сбитый, широкоплечий, большеголовый, с высоким ясным лбом и румяным, но худым лицом, обрамленным длинными вьющимися волосами и густой бородой. Нос у него был продолговатый и слегка изогнутый, брови сросшиеся и черные, походка решительная и тяжелая.
Когда ему исполнилось 35, произошел важный эпизод, указавший Мухаммеду на его будущее назначение. В Мекке отремонтировали храм, окружавший Каабу, и после ремонта никто не решался взять священный камень и положить его на место. Было решено, что это сделает первый человек, который войдет в Каабу: им и оказался Мухаммед.
К сорока годам будущий пророк стал состоятельным и уважаемым человеком. Он смог усыновить сына своего благодетеля Абу Талиба, по имени Али, и отпустить на свободу любимого раба Зейда, которого затем тоже усыновил. Так он обрел двух новых сыновей вместо умерших. В это время у него появилось много досуга, чтобы предаваться своим размышлениям, которые неотступно преследовали его уже много лет.
Поначалу религиозные взгляды Мухаммеда ничем не отличались от взглядов его соплеменников, по крайней мере, внешне. Своего первого сына он назвал Абд-Менаф, то есть раб Менафа, одного из языческих идолов: имя, которое вряд ли мог дать почитатель единого божества аль-Илаха. Но старая религия в это время уже многих перестала устраивать. Мухаммед волей-неволей общался и с иудеями, и христианами, и с арабами, искавшими новой веры. Его родственник Варака ибн Науфаль, недовольный первобытным и бессмысленным идолопоклонством бедуинов, обратился в христианство и начал переводить Евангелия на сирийский. Будущий Пророк близко знал многих христиан, одно время даже странствовал вместе с ними и слушал проповеди наджранского епископа ал-Касса ибн Саида, славившегося своим красноречием. Историки находят близкое сходство между отрывками его ярких и поэтичных проповедей и некоторыми местами из Корана.
Несмотря на это, Мухаммед имел смутные представления о христианстве. Знания о нем он черпал из апокрифов и еретических сект, часто имевших мало общего с ортодоксальной верой. В Коран вошли сказания, почерпнутые из апокрифических Евангелий, полных волшебства и чудес, например, эпизод, когда Иисус оживил вылепленных из глины птиц или заговорил еще в люльке. Мухаммед считал, что христианская Троица – это Отец, Сын и Мария, а Святой Дух – просто посредник и посланник, то же самое, что архангел Джабраил (Гавриил). От многих еретиков он слышал, что Христос – не Бог, а человек, и что Его страдания на кресте были призрачными. Разнообразие мнений в разных христианских сектах наводило на мысль, что в Евангелиях нет полной истины и что эти книги искажены.
Одной из идей, твердо усвоенных Мухаммедом у христиан, был Страшный суд – неотвратимая и окончательная кара, которая ждет всех грешников и идолопоклонников. На деле это означало, что и сам он, и все его соплеменники обречены на адские муки: ведь они занимались идолопоклонством. Со временем Мухаммед все больше приходил к убеждению, что поклонение идолам – это заблуждение, которое ведет к погибели. Существует только единый Бог, «у которого нет товарища».
Что же нужно делать, чтобы спастись? Христианская вера, раздробленная, противоречивая и слишком мудреная, не подходившая ни обычаям, ни нравственному складу арабов, не удовлетворяла Мухаммеда. Он искал свой путь, новое откровение, которое должно было дать ответ на все его вопросы. В этой новой религии не должно было быть ни отвлеченных размышлений, ни логических выкладок: нужны были ясные и конкретные указания, что и как нужно делать. Причем эти указания должны были быть абсолютно достоверными и авторитетными, то есть исходить напрямую от Бога.
За Мухаммедом начали замечать странности. Богатый купец все чаще впадал в мрачное настроение, старался уединиться и отправлялся в долгие прогулки по соседним холмам. Среди возвышенностей возле Мекки, примерно в часе ходьбы от города, была гора Хира, а в горе – пещера, где часто проводил время Мухаммед. Местность здесь была живописна, но уныла: никакой зелени или ручьев, только скалы, камни и обрывы. Днем огромные глыбы раскалялись на солнце так, что прикосновение к ним вызывало ожог. В одном из таких мест он заснул после очередной прогулки, и ему показалось, что кто-то подошел к нему близко и сказал: читай! Мухаммед стал читать появлявшиеся перед ним слова, и когда проснулся, они ясно отпечатались у него в памяти. Так появились пять первых строчек Корана, священной книги, название которой происходит от слова «читать».
Потрясенный своим сном, Мухаммед бросился домой и рассказал обо всем Хадидже. Призванный в дом родственник Варака объявил, что Мухаммеду явился Святой Дух, тот самый, что говорил с Моисеем.
Это значило, что Мухаммед – новый пророк, посланный арабам.
Но первое откровение едва не оказалось последним. Долгое время Мухаммед больше ничего не видел и не слышал и только в тоске скитался по горам. Им овладело такое отчаяние, что он подумывал о том, чтобы броситься в пропасть и умереть. Наконец, пришло новое видение – некоего божественного существа, архангела Гавриила или самого Господа, спустившегося с неба на высоту в «два выстрела стрелы». Мухаммед вернулся домой, весь дрожа от волнения, и попросил завернуть его теплое одеяло. В этот момент он услышал слова: «Закутанный, встань и увещевай!» (74:1). После этого Мухаммед долгое время пребывал в почти постоянном озарении, принимая поток изливавшихся на него слов, которые составляли все новые главы Корана.
О новом пророке пошли слухи, и скоро у него появились первые последователи. Сначала обратилась его семья: жена, дочери и оба приемных сына – Али и Зейд. К кружку первых мусульман присоединились несколько дальних родственников Мухаммеда: Саид ибн Абу Ваккам, Зубейр ибн аль-Аввам, Тальха ибн Убейдулла. Большим приобретением для Мухаммеда стал и его давний друг, купец Абу Бакр. Сам Мухаммед был человек экзальтированный и неуравновешенный, склонный к сомнениям и меланхолии, а Абу Бакр воплощал в себе спокойную твердость и надежность, соединенную с ясным разумом и добрым нравом. В будущем он проявил себя как его самый надежный помощник и союзник, ни разу не усомнившейся ни в одном его слове и поступке.
Утвердив веру среди родных и близких, Мухаммед собрал весь клан хашим, чтобы объявить о своей священной мисси. Но его слова были встречены с недоумением. «Будь ты проклят, так вот зачем ты нас собрал!» – воскликнул его дядя Абу Лабах. После этой встречи Аль Лабах разорвал помолвку своего сына с дочерью Мухаммеда, красавицей Рукайей, и Мухаммед выдал ее за одного из омейядов, Османа, тоже ставшего последователем Пророка. Число его почитателей, называвших себя мусульманами (по-рабски муслимуна, то есть «вручившие себя Богу») достигло 43 человек, включая женщин и рабов.
Окончательно осознав себя пророком, Мухаммед решился объявить о своих откровениях всем мекканцам, но в ответ встретил только насмешки и ругань. Когда он шел по улице, мальчишки швыряли в него грязью и кричали: «Смотрите, вот идет сын Абдаллаха, он несет нам вести с неба!» Во время его проповедей зрители поднимали шум, начинали громко петь или читать стихи, чтобы заглушить его слова. Его называли помешанным и больным, предлагали лечить лекарствами и пытались вразумить. Скептики спрашивали, чем он может подтвердить свои слова, и требовали чуда: пусть он воскресит своих родителей. Глава омеяйдов Абу Суфийян относился к нему с вежливым презрением, другие не скрывали откровенной вражды. Валид ибн Мугира, шейх клана махзум, собрал в своем доме авторитетных и знающих людей, которые должны были поймать его на противоречиях и доказать, что Мухаммед – лжец и самозванец.
Мухаммеда все это не смущало: он не сомневался в своем призвании. На насмешки он отвечал, что он не чудотворец, а обычный человек, который просто передает слова Аллаха. Они ему не верят, как не верили другим пророкам, но Господь их за это наказал, разрушив целые города. Пусть это послужит им предостережением. В ответ мекканцы кричали, что все его рассказы о Божьих карах – только повторение библейских преданий, «старые сказки», которые он слышал от евреев, а теперь выдает за свои откровения.
На пятый год проповеди произошло обращение еще одного крупного сподвижника Мухаммеда, Омара. Сын негритянки, богатырь огромного роста, Омар был на голову выше всех остальных. Его называли «двуруким», потому что левой рукой он владел так же хорошо, как правой. По преданию, как-то вечером Омар отправился в кабак, чтобы выпить и развлечься, но дверь оказалась заперта. Слоняясь без дела возле Каабы, он услышал, как Мухаммед читает 69 суру из Корана. «Как хорошо написано, наверно, это поэт», – подумал великан. Но Мухаммед продолжал читать: «Это речь не поэта; в вас мало веры». «Должно быть, он колдун, раз знает мои мысли», – решил Омар. Но Мухаммед продолжал: «Это речь не колдуна». Услышав эти слова, Омар уверовал.
Омар стал третьим выдающимся приверженцем ислама, после самого Мухаммеда и Абу Бакра. Если первый был вдохновителем и источником новой веры, второй – ее разумом и здравым смыслом, то третий – силой и энергией. Мухаммед изрекал откровения, Абу Бакр говорил речи и вел переговоры, а Омар действовал.
Но приобретение Омара, хотя и очень ценное, было только каплей в море по сравнению со стеной враждебности и неверия, которая окружала Пророка в родном городе. Десять лет Мухаммед твердо и мужественно проповедовал свою веру в Мекке, несмотря на притеснения и гонения, доходившие до угрозы смерти. Мужья изгоняли дочерей Мухаммеда из своих домов, новообращенных мусульман морили голодом, заключали в тюрьму, избивали и выставляли днем на солнечное пекло. Несколько рабов были убиты, других удалось выкупить Абу Бакру. Сам Мухаммед сделать этого уже не мог: после начала откровений он забросил свои дела, и его состояние расстроилось. Преследования привели к тому, что большая часть верующих, около сотни человек, бежали из города и, переплыв через Красное море, поселились в Абиссинии.
В это трудное время даже сам Мухаммед на минуту пошатнулся в вере: он согласился признать трех языческих богинь аль-Лат, Оззу и Манат, если мекканцы признают Аллаха. Сделка состоялась, но в тот же день к Пророку явился архангел Гавриил и укорил его за отступничество. Мухаммед поспешил отказаться от своих слов, заявив, что его соблазнил дьявол.
Бойкот
Проповедуя новую веру, Мухаммед отрицал самые основы арабского общества: семейно-клановую связь и связанное с этим почитание древних идолов. Однако в Мекке его защищала та самая система родовой поруки, которую он отвергал. Семья хашим не приняла пророчеств Мухаммеда, но она горой встала на его защиту, как только ему стал угрожать другой клан. Каким бы ни был этот горе-провидец, он принадлежал к клану, и это было намного важнее его личных качеств. Разногласия в семье были ее внутренним делом, а по отношению к внешним она составляла единый монолит.
Воевать с Мухаммедом означало воевать со всем кланом хашим, а это было трудным и опасным делом, даже для омейядов. Главы курейшитских кланов попытались обратиться к шейху хашимитов, дяде Мухаммеда Абу Талибу, прося его запретить проповедовать своему племяннику или изгнать его из семьи. Но они получили отказ: Абу Талиб считал, что каждый в его клане имеет право говорить и думать так, как считает нужным. Понимая, чем грозит междоусобица, он все-таки попросил Мухаммеда прекратить публичную проповедь – ведь это может навлечь беду на всю семью. Мухаммед пришел в волнение, заплакал и ответил: «Если бы мне грозили смертью или если бы предложили дать в одну руку луну, а в другое – солнце, я бы и тогда не оставил своего дела!» Это тронуло дядю, и он пообещал, что никогда не лишит племянника своей защиты.
Разозленные курейшиты объявили семье хашим бойкот: не иметь никаких дел с хашимитами, не вести с ними торговлю и не заключать браков. Соплеменники Мухаммеда оказались изолированы в своем квартале, обнесенном каменной стеной: их лишили возможности отправлять своих верблюдов с общим караваном, и им неоткуда было брать деньги и еду. Хашимиты бедствовали и голодали, но держались стойко. В конце концов, их упорство возымело действие: бойкот отменили, а мир был восстановлен. Но гонения на Мухаммеда не прекратились. Наоборот, его положение стало даже еще более тяжелым, поскольку в это время он потерял своего верного покровителя, дядю Абу Талиба. Почти одновременно с ним умерла и его любимая жена Хадиджа.
Миссия в Таифе
Потрясенный двумя этими ударами, Мухаммед попытался вырваться из враждебной Мекки и найти убежище в Таифе. Это был курортный городок, куда в летний зной летом приезжали жители Мекки: роскошный оазис, похожий на те прекрасные и волшебные места, которые так любили воспевать арабские поэты. Здесь росли сладкие дыни, виноград, оливки и инжир, цвели пышные персидские розы и гелиотропы. В легкой тени, овеваемой прохладным ветерком и шумом качающихся пальм, журчала проточная вода. Таиф казался раем для бедуинов, измученных вечным зноем, пустыней и песком.
Большим уважением и авторитетом в Таифе пользовалось трое братьев-купцов, наживших огромное состояние торговлей: к ним и обратился Мухаммед, надеясь через них привлечь на свою сторону весь город. Но они встретили его ничуть не лучше, чем мекканцы. «Если бы Бог хотел послать пророка, он нашел бы кого-нибудь получше», – сказал один из них. Другой добавил, что говорить им не о чем: если Мухаммед посланник Божий, то с ним вообще нельзя спорить; а если он обманщик, то не стоит тратить на него время. Третий не только отказался встретиться с Мухаммедом, но и подговорил народ забросать его камнями. Пророку и его спутникам едва удалось сбежать из города. Избитые и окровавленные, они укрылись в каком-то пригородном саду, где два добрых брата, Утба и Шейба, угостили его блюдом со свежим виноградом. Мухаммед был так испуган и удручен этой неудачей, что не решался вернуться в Мекку, пока за него не поручился знатный мекканец аль Мутим. Только после того, как тот гарантировал ему свое покровительство и безопасность, Пророк вступил в город, обошел семь раз вокруг Каабы и укрылся в своем доме.
Йасриб
Проходили годы. Убежденной в своей правоте, Мухаммед неустанно продолжал искать сторонников везде, где мог: не добившись успеха с мекканцами, он взялся за паломников, в изобилии посещавших город. Но и здесь его усилия долго ни к чему не приводили: бедуины, приезжавшие почитать своих идолов, не спешили верить проповеди новой веры, да еще из уст человека, имевшего дурную репутацию в Мекке. Все шло к тому, что Мухаммед останется «семейным» пророком, а его немногочисленные приверженцы – одной из множества второстепенных сект, которые могут прозябать какое-то время, прежде чем исчезнуть в небытии.
И вдруг ему улыбнулась удача. В потоке паломников Мухаммед встретил горстку людей из племени хазрадж, живших в Йасрибе, большом оазисе к северу от Мекки. Пророк завел с ними разговор и рассказал об Аллахе и своих пророчествах. Хазраджи часто слышали от иудеев о грядущем мессии и решили, что перед ними тот самый пророк, которого ждут их еврейские соседи. Они приняли ислам и пообещали рассказать о нем своим соотечественникам. На следующий год в Мекку прибыло уже 12 мусульман из Йасриба. Мухаммед отправил вместе с ними своего сподвижника Мусаба ибн Умейру, способного проповедника, который должен был увеличить число обращенных в Йасрибе. Мусульманская община в городе стала быстро расти.
Мухаммед подтвердил знаменитые слова Христа: нет пророка в своем отечестве. Мекканцы, хорошо и близко знавшие Мухаммеда как человека из своей среды, не приняли его пророчеств, так же, как жители Назарета не поверили в божественность Иисуса. Слишком уж земными, обыденными выглядели эти пророки в их глазах. Другое дело чужаки йасрибцы: они слышали о Мухаммеде как о необычном проповеднике, человеке исключительном, особенном, с какими-то чудесными видениями, таинственном и уже имевшем много приверженцев. Ситуация, сложившаяся в их городе, еще больше склоняла их к принятию новой веры. Когда-то Йасриб был целиком еврейским, но бедуинские племена хазрадж и аус потеснили иудеев и начали воевать между собой. Это была одна из тех кровавых безнадежных междоусобиц, которые легче начать, чем закончить. Измученные бесконечными столкновениями и кровавыми стычками, йасрибцы надеялись, что мекканец Мухаммед, этот долгожданный Пророк, сможет их примирить и восстановить мир и процветание.
Переезд
Мухаммед продолжал жить в Мекке, но почти не выходил из дома и мало с кем общался: все его мысли были уже в Йасрибе. Пророк задумал неслыханное: оставить свой родной город, разорвать все племенные связи и переехать вместе со своими приверженцами в Йасриб, где его почитали и любили. Для этого он должен был официально объявить о своем желании выйти из собственного рода хашим и перейти под покровительство другого.
Мирадж. По мусульманскому преданию, как раз в эту зиму произошло его знаменитое путешествие в Иерусалим – миражд, продолжавшееся не дольше секунды. Глубокой ночью, когда Мухаммед крепко спал, его разбудил архангел Гавриил и посадил на чудесное животное по кличке Сполох (Аль-Бурак) – крылатого коня с человеческими лицом. Аль-Бурак мгновенно перенес его в иерусалимский храм, где пророка встретили Авраам, Моисей и Христос. После того, как они вместе помолились храме, Мухаммеду предложили выбор из трех сосудов, наполненных вином, водой и молоком; и пророк предпочел молоко – более питательное и не затемняющее разум.
Затем перед ним открылась лестница, и Мухаммед поднялся на небо к ангелам. Один из них, по имени Малик, показал ему адское пламя и души грешников, которых Адам отправлял в геенну криком «тьфу!». От этого зрелища Пророк пришел в ужас и попросил поскорей закрыть от него преисподнюю. Потом он последовательно прошел все небеса, встретив Иоанна Крестителя, Иосифа Прекрасного, патриарха Еноха и других персонажей Библии, и, наконец, попал к самому Аллаху, который предписал ему читать каждый день по 50 молитв. Мухаммед, ссылаясь на немощь людей, упросил снизить эту цифру сначала до 10, а потом и до 5. Затем он в один миг вернулся в Мекку и застал свою постель еще теплой, а опрокинутую чашку – не успевшей пролиться.
Рассказ Мухаммеда был так чудесен, что даже многим правоверным показался слишком сомнительным. Только Абу Бакр твердо заявил, что если Мухаммед так сказал, значит, так и есть. За это Пророк прозвал его Ас-Сиддиком – «свидетелем правды».
На следующий год в Мекку прибыла новая делегация паломников из Йасриба. В глубокой тайне были проведены переговоры верующих йасрибцев с Мухаммедом. Разрыв с семьей и родом означал, что уезжавшие теряли насиженные места, связи, имущество и средства к существованию: без договора с йасрибцами они превратились бы в чужом городе в кучку бесправных изгоев. От имени рода хашим выступил один из дядей Мухаммеда аль-Аббас, человек дальновидный и практичный, считавший, что оказанная новой секте услуга может принести пользу в будущем. Как законный представитель рода, он передал Мухаммеда и его людей под покровительство жителей Йасриба, которые поклялись защищать их так же, как «защищали бы своих жен и детей».
В Мекке быстро узнали об этом совещании, но сделать ничего не могли: по закону каждый мекканец мог отправляться куда хотел, и никто не имел права ему препятствовать. За несколько дней мекканские мусульмане покинули город вместе со своими семьями, взяв только то, что смогли унести с собой. Последними уходили Моххамед и Абу Бакр. По легенде, курейшиты не хотели отпускать Мухаммеда и даже договорились его убить. Узнав об этом, он ночью тайно сбежал через окно из дома, оставив вместо себя племянника Али, который, завернувшись в его зеленый плащ, изображал для врагов фигуру Пророка. За городом Мухаммеда уже поджидал Абу Бакр с двумя быстрыми верблюдами; они укрылись в горах и три дня жили в пещере, ожидая, когда затихнет погоня. Чтобы скрыть беглецов, вход в пещеру заткал паук, а голубь свил перед ней гнездо. Через восемь дней Мухаммед и Абу Бекр, сделав большой крюк по берегу моря, въехали в предместья Йасриба.
Местные жители сбежались посмотреть на знаменитого пророка. Он ехал по городу, отпустив поводья, чтобы дать верблюду остановиться в том месте, где Аллах предопределил найти себе новое пристанище. Верблюд встал перед домом Абу Аюба аль-Ансари из клана хазраджитов. Хозяин выделил ему несколько комнат и поручил своей жене готовить для Пророка. Мухаммед поселился у них скромным постояльцем, который сам прибирался у себя в комнате и нахваливал стряпню хозяйки.
Жены Мухаммеда
Свой первый год в Йасрибе Мухаммед жил в этом доме вместе с присоединившимся к нему женами и дочерьми. Пророк глубоко почитал свою первую жену Хадиджу, но это не помешало ему через два месяца после ее смерти жениться на Саиде, некрасивой и немолодой вдове одного из своих соратников. Еще через несколько месяцев он обручился с Аишей, шестилетней дочерью Абу Бакра. Через три года она переехала к нему в дом и стала его женой. В то время Моххамед был так беден, что даже не смог сделать ей свадебный подарок. На деньги Абу Бакра он построил для Саиды и Аишы два новых дома, а позже, когда жен стало больше, для каждой из них строил новый дом, пока их число не достигло девяти. Обстановка в этих домах была скромной: стены из необожженного кирпича, крыша из пальмовых ветвей, на полу циновка и на ней матрац, набитый пальмовыми волокнами.
Ранний брак. Вокруг малолетства Аишы и ее раннего замужества в свое время было сломано немало копий. Европейцы и сейчас нередко упрекают Мухаммеда в педофилии. Стоит отметить, что по арабским законам девочка могла вступать в брак в возрасте одиннадцати лет. Но некоторые исламские богословы и историки пишут, что и в браке с девятилетней не было ничего не обычного, поскольку в таких южных странах, как Аравия, месячные у девочек начинаются в 8 лет, а в 9 или 10 они становятся невестами. Кроме того, в мусульманской литературе нет единого мнения о том, в каком возрасте Аиша вступила в брак с Мухаммедом: по разным источникам выходит 12, 17 и 27 лет. Правда, эти цифры нигде не указаны прямо, а получаются в результате косвенных хронологических вычислений.
Аиша стала любимой женой Мухаммеда. Он ценил ее выше всех, давал ей ласковые прозвища – Хумайра («Румяненькая»), Шукайра («Беленькая») и аль-Муаффака («Счастливица»), – и одаривал подарками. С каждой из жен пророк проводил одну ночь, но только в ту, когда он приходил к Аише, его посещали божественные видения. Он позволял ей много вольностей – например, давал подсматривать за играющими в мечети суданцами, прикрыв ее полой халата, – и молился в то время, когда она лежала рядом с ним в постели. Словно дети, они бегали наперегонки и мылись из одного сосуда. Аиша гордилась тем, что была единственной девственницей среди жен Пророка. Она часто спрашивала его, насколько крепка его любовь к ней, и Мухаммед всякий раз отвечал – «как канатный узел». Даже умер он, положив голову на ее колени, и был похоронен в ее доме.
Об остальных женах Пророка известно гораздо меньше. Четвертой женой Мухаммеда, следующей после Аиши, стала восемнадцатилетняя Хафса, молодая вдова бин Умара, погибшего в битве с мекканцами при Бадре. Биографы пишут, что она отличалась «непокорным характером» и по натуре была раздражительна. В одном предании рассказывается, что однажды она застала Пророка со своей служанкой и дело едва не кончилось разводом. Но тут возмутился отец Хафсы: чем провинилась его дочь, что Пророк с ней разводится? Тогда архангел Джабраил объявил, что Мухаммед не должен разводиться с Хафсой, поскольку она благочестива, и дело было закрыто.
Пятая жена по имени Зайнаб бинт Хузайма умерла всего через три месяца после замужества, поэтому о ней мало можно что сказать. Шестой женой была еще одна вдова, Умм Салама, тоже пожилая женщин, имевшая несколько детей, а седьмой – Зайнаб бинт Джахш, бывшая жена его приемного сына Зайда, который с ней развелся. Причиной развода обычно называют высокомерие Зайнаб, гордившейся своим древним родом и считавшим Зайда – бывшего раба – себе неровней. Женитьба на разведенной жене собственного пасынка была настолько необычным делом, что для оправдания ее понадобился специальный аят в Коране: «Мы женили тебя на ней, чтобы верующие не испытывали никакого стеснения в отношении жен своих приемных сыновей после того, как те удовлетворят с ними свое желание» (33:37). После этого Зайнаб стала гордиться тем, что стала женой Пророка не по воле людей, а по велению самого Аллаха, – чем сильно раздражало ревновавшую к ней Аишу.
Среди жен и наложниц Мухаммеда было несколько иноплеменниц и иноверок. Пророк брал жен из пленниц и рабынь, как правило, дочерей вождей захваченных племен или красивых вдов, чьи мужья были убиты мусульманами. Христианку Марию он получил в подарок от египетского правителя, и она родила ему единственного сына, Ибрагима. К этой красивой египтянке Аиша ревновал больше всего. Мухаммед с гордостью показывал ей на малыша: смотри, как похож на меня! – на что Аиша мрачно бурчала: совсем не похож. К несчастью, ребенок умер, не прожив и полутора лет.
О точном количестве жен Пророка историки до сих пор спорят. Не все его сватовства были удачными. В Мекке Мухаммед хотел жениться на дочери убитого мекканца. Когда он вошел к ней в дом, она воскликнула: «Прибегаю к помощи Аллаха!» – и Мухаммед, устыдившись, отступился от невесты. Была у него и неудачная попытка развода с Саудой, которой уже исполнилось 60. Усевшись на улице с вещами, она начала так громко возмущаться, что Пророку пришлось принять ее обратно, при условии, что свой день она уступит Аише.
Год хиджры
День переселения (по-арабски – хиджры) в Йасриб стал начальной точкой нового мусульманского летоисчисления. До этого у арабов не было единого календаря, и счет они вели по-разному: то от «года слона», то от смерти легендарного основателя арабской нации Кусая. Но когда арабская держава разрослась, такие разночтения стали неудобны: читая отчеты из дальних областей, халиф часто не мог понять, к какой дате отнести описанные в них события. После долгих раздумий и обсуждений было решено взять за точку отсчета переезд в Йасриб – 24 сентября 622 года. К этому времени название города поменялось на Медину, точнее, на Мадинат ан-Наби – «город Пророка».
В Медине Мухаммед очень скоро стал непререкаемым авторитетом. Если раньше он был только лидером религиозной группы, то теперь превратился в лидера политического. Произошло это не сразу. В 1-й год хиджры в городе жило два арабских племени, хазрадж и аус, и три еврейских – бану кайнука, ан-надийр и курайза. Мухаммеду пришлось с ними договориться, чтобы определить свой официальный статус и права. Все стороны, включая иудеев, согласились не воевать друг с другом, вместе выступать против внешнего врага и подчиняться авторитету Мухаммеда при решении общих дел. Пророк стал чем-то вроде мединского верховного судьи, к которому обращались для рассмотрения личных тяжб и межплеменных раздоров.
В договоре с мединцами мусульмане выступили как новый клан, в который при желании могли переходить представители других кланов. Семейно-родственные отношения здесь уже не имели значения – важней была близость к Пророку и заслуги перед исламом. Первая община делилась не на хазраджей, аусов и курейшитов, вечно враждовавших друг с другом, а на ансаров, то есть местных мусульман, и мухаджиров (совершивших хиджру), приехавших с Мухаммедом из Мекки. Мединские и мекканские мусульмане к тому же побратались – религиозное единство было скреплено кровными связями.
Договор. В соглашении, заключенном в Медине, подробно перечислялись все племена, как мекканские, так и мединские, и для каждого оговаривались их права. В то же время все верующие объединялись в одну общину, противостоящую язычникам. Про каждое племя говорилось, что оно остается, как есть, распределяя внутри себя свои прежние права и обязательства. Кроме того, оговаривалось, что все верующие должны заботиться друг о друге и вместе выступать против неверующих. В договоре было сказано: «Не убьет верующий верующего из-за неверующего и не будет помогать неверующим против верующих»; «поистине верующие – покровители друг другу от остальных людей»; «верующие мстят друг за друга за кровь, пролитую на пути Аллаха». В союз на равных правах включались и иудеи, по крайней мере, те, «кто следует за нами». Им предлагались «помощь и равенство, их не притеснят и не будут помогать против них».
Внутри мусульманской общины – по-арабски уммы – Мухаммед обладал безраздельной властью. Он единолично устанавливал все законы, как религиозные, так и светские, определял имущественные отношения между членами общины, предписывал новые правила исполнения обрядов, количество молитв, нормы поведения в личной и семейной жизни. Во всем этом было много привычного, старого, основанного на давних племенных традициях и обиходе бедуинов. В мусульманской умме сохранялись кровная месть, правило виры (выкупа) за убитого и подобные им обычаи.
В Медине ислам стал не только идеологией, но и повседневной практикой. Раньше у арабов не было храмов, кроме Каабы. Теперь Мухаммед построил для мусульман масджид, то ест «место поклонения», – первую мусульманскую мечеть, где могли собираться правоверные. Это было большое квадратное сооружение из камня и кирпича, с пальмовыми стволами вместо колон и крышей из пальмовых листьев вместо крыши. По повелению Аллаха мусульмане молились в сторону Иерусалима пять раз в день: на восходе, в полдень, после полудня, на закате и перед сном. Правоверным предписывались обязательные омовения перед каждой молитвой или в других случаях, требовавших ритуальной чистоты.
Неимущие, ожидавшие помощи от Мухаммеда, жили прямо вокруг его дома: их называли «люди веранды», суффа. Чтобы содержать бедных, все правоверные должны были давать милостыню, позже превратившуюся в обязательный налог.
В новых установлениях Мухаммед намеренно подчеркивал отличие ислама от других религий. Например, посещение мечети было обязательным по пятницам – в этот день в полдень в храме собиралась вся община, – а не по субботам, как у иудеев, и не по воскресеньям, как у христиан. Был установлен 40-дневный пост, как у христиан, но не перед Пасхой, а в месяц рамадан. Вместо христианских колоколов и иудейских труб на молитву созывали голосом. Один из подвижников пророка, Билал, обладал очень зычным голосом – он забирался на крышу дома Мухаммеда и звал всех мусульман в мечеть, возглашая: «Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммед Пророк его». Этот призыв стали называть азаном, а провозглашающего – муаззином. Вместо «доброе утро» мусульмане говорили – мир с тобой (салам алейкум), при каждом упоминании об Аллахе прибавляли «святой» или «высочайший», а если заходила о каком-то будущем действии, обязательно добавляли «иншалла» – если будет угодно Аллаху.
Мусульман в Медине становилось все больше, и вскоре местные жители совсем перестали поклоняться идолам. Недовольные и несогласные с исламом постепенно теряли влияние и авторитет, выдавливались из общества и уходили из города. Так ушел Абу Амир, местный религиозный лидер, ханиф, возглавлявший в Медине кружок почитателей единого Бога. Он стал заклятым врагом Мухаммеда и сражался с ним до последнего вздоха. Многие принимали ислам только формально, по примеру большинства. Таких Мухаммед называл «лицемерами»: они поддерживали Пророка внешне, но втайне были недовольны властью чужака и про себя вспоминали арабскую поговорку: «Откормишь собаку, она тебя и съест».
С иудеями отношения сложились менее удачно. Поскольку Мухаммед утверждал, что продолжает традицию Авраама и Моисея, они стали задавать ему вопросы, проверяя его знания Торы, и обнаружили, что эти знания неудовлетворительны. Евреи смеялись над невежеством Мухаммеда в учении Торы, а он называл их «ослами, нагруженными священными книгами», то есть людьми, которые сами не понимают, что проповедуют. Мухаммед заявлял, что его учение подлинное и первоначальное, а иудеи отпали от Бога и исказили истину. Бог заключил союз с Авраамом именно в Мекке, говорил он, и распорядился построить здесь дом – Каабу, чтобы ее почитали все его потомки. Сын Авраама Исмаил – родоначальник арабов. Значит, религия Авраама древнее и истинней религии иудеев и христиан. Религия Авраама и есть ислам.
Дело кончилось тем, что мединские иудеи отвергли Пророка и превратились из его союзников во врагов. Тогда Мухаммед распорядился молиться не в сторону Иерусалима, а в сторону Мекки. Главной святыней стала считаться мекканская Кааба. Обязательным стал хадж – паломничество в Мекку. А отсюда уже можно было сделать вывод, что и сама Мекка должна быть мусульманской.
Битва при Бадре
Недостаток средств после переселения Мухаммед решил пополнять чисто бедуинским способом – грабежом караванов. Его целью было перерезать все пути торговли для мекканцев.
Первые атаки на караваны мекканцев были неудачны, но через год небольшой отряд верных – человек 10–12 – сумел неожиданной атакой застать врасплох мекканцев, взять двоих пленных и захватить товар. Один из мекканцев был убит. Эта удача придала Мухаммеду смелости, и в следующий раз, собрав больше людей, он напал уже на огромный караван, состоявший из тысячи верблюдов и перевозивший товары на сумму в 50 тысяч динаров. Караван сопровождала охрана из 70 человек, тогда как в отряде Мухаммеда было 78 мухаджиров и 230 ансаров. Правда, с конницей у них было плохо: всего два коня и 70 верблюдов, на которых приходилось ехать по очереди.
Мекканцы заранее узнали о грядущем нападении и, возмутившись наглостью мусульман, решили преподать им урок. Старейшина рода абдшамс Абу Джахл возглавил войско из 1000 человек, 100 коней и 700 верблюдов.
Однако все пошло не так, как рассчитывали мекканцы. Возглавлявший караван Абу Сафьян успел ускоренным маршем пройти мимо города Бадр, где его поджидал Мухаммед, и сообщил Абу Джахлу, что опасность миновала и помощь больше не нужна. Мекканское войско стало расходиться, остались только те, кто хотел отомстить за убитого ранее жителя Мекки. Однако и среди них было много колеблющихся, поскольку далеко не все были связанны с убитым мекканцем узами кровного родства, зато приходились ближайшими родственниками Мухаммеду и его сподвижникам.
Несмотря на численный перевес противника, мусульмане решили дать бой. Мухаммед первым занял выгодную позицию у Бадра – так, чтобы солнце било мекканцам в глаза, – засыпал колодцы на стороне врага, чтобы лишить их воды, и пообещал своим людям помощь Аллаха.
Битва оказалась короткой – мекканцы бросили в бой конницу, и когда пехота мусульман выдержала удар и перешла в контратаку, развернули верблюдов и бежали с поля боя, оставив 50 человек убитыми и столько же пленных. Мертвецов победители бросили в сухой колодец, а пленников со связанными на затылке руками повели в Медину. (Только одному из них, Ан-Надир ибн ал-Харису, некогда высмеивавшему Мухаммеда в Мекке, тут же отрубили голову). Мусульмане захватили богатую добычу, в том числе 150 верблюдов и 30 коней. Мухаммед взял себе знаменитый меч Зу-л-факар и самого быстрого рыжего верблюда, принадлежавшего убитому шейху. Успех был таким поразительным, что обе стороны пришли к убеждению, что на стороне Мухаммеда воевали ангелы. Очевидцы описывали небесное воинство на пегих конях, облаченное в желтые чалмы. Будто бы ангелов были три полка по тысяче в каждом, а руководили ими Гавриил, Михаил и Сарафиль. Говорили также, что в решающий момент сам Пророк швырнул во врагов горсть песка и это определило ход сражения.
Вернувшись в Медину победителем, Мухаммед нанес удар по иудеям, не признававшим его авторитет. Еврейский клан бану кайнука был заподозрен в измене или, по крайней мере, во враждебности к исламу. После нескольких уличных столкновений иудеи заперлись в своем квартале и две недели выдерживали осаду мусульман. Другие иудеи, ал-надийр и кузейра, их не поддержали. В конце концов голод заставил осужденных сдаться. Все племя было изгнано из города, а его имущество конфисковано: изгнанники взяли только то, что могли унести с собой. Мухаммед получил из этой добычи пятую часть.
Войдя в силу, Мухаммед позаботился и о том, чтобы расправиться с инакомыслящими. Он не отдавал прямых приказов, а лишь жаловался вслух на тех, кто ему досаждал. Женщина Асма бинт Марван написала на него сатиру, призывая мединцев покончить с властью чужеземца, который без жалости расправился с собственными соплеменниками. «Кто же освободит меня от этой несносной женщины?» – с досадой спросил Мухаммед. Некий Умейр в ту же ночь проник в дом Асме, нашел ее спящей среди своих детей и пронзил мечом. «Ты оказал услугу и Аллаху, и Его Пророку!» – воскликнул Мухаммед, узнав об этом. В другой раз так же ночью в своем доме убили Абу Афака, посмевшего высмеять Пророка в своих стихах.
С Каб ибн Ашрафом, еще одним противником Мухаммеда, вышло сложнее: он держался настороже и не давал возможности напасть на него врасплох. Тогда его молочный брат Абу Наила, ревностный мусульманин, уговорил его ночью прогуляться без оружия. Каб ибн Ашраф решил, что от своего родственника ему опасаться нечего, и согласился. Когда они оказались в уединенном месте, Абу Наила по-братски его обнял и начал трепать ему волосы, как бы играя; но вдруг крепко схватил за кудри, бросил на землю и держал до тех пор, пока подоспевшие из укрытия мусульмане не добили жертву. Утром они принесли Мухаммеду голову убитого, и тот восславил Аллаха. Иудеям, пришедшим к нему с жалобой на убийство, Пророк объяснил, что так будет с каждым, кто посмеет обидеть мусульманина. Евреи притихли и больше не смели выступать против Мухаммеда.
Ухуд
Мекканцы не сразу решились отомстить за позорное поражение при Бадре. Долгое время тянулся выкуп пленных: за каждого захваченного в битве мекканца мусульмане требовали по 80 верблюдов. Впрочем, многих своих родственников, попавших к нему в плен, Мухаммед отпустил без выкупа. Некоторые пленники, не имевшие денег, заплатили тем, что обучили грамоте мусульманских детей.
В это время купцы из Мекки втайне отправили небольшой караван с серебром; Мухаммед узнал об этом от пьяного мекканца, проболтавшегося в харчевне, атаковал караван и захватил добычу в сто тысяч дирхемов, из которых двадцать тысяч взял себе. Чаша терпения у мекканцев, наконец, переполнилась: они собрали огромную армию в 3000 человек и двинулись на Медину.
Битва произошла к северу от города у горы Ухуд. Мусульман было втрое меньше, но они дрались храбро и едва не одержали победу: все уже бросились грабить вражеский лагерь, когда с тыла ударила конница курейшитов во главе с Халидом ибн-Валидом и рассеяла нападавших. Мухаммед получил такой сильный удар по голове, что края его железного шлема врезались ему в лоб; соратники едва утащили его с поля боя, отбиваясь от наседавшего со всех сторон противника. Битва была проиграна. Мекканцы сочли себя отомщенными и ушли, не добив поверженного врага.
Однако Мухаммед, как искусный политик, сумел обратить неудачу в свою пользу. Ссылаясь на новые откровения, он объяснил, что все произошло по воле Аллаха и виноваты те, кто не проявил достаточно веры и рвения в борьбе. Обвинив в вероломстве второе племя иудеев, ал-надийр, якобы покушавшихся на его жизнь, он заставил их уйти из города. Мусульманам досталось оружие иудеев и все их имущество, которое те не смогли унести с собой.
Битва у рва
Следующее столкновение мекканцев с мединцами произошло через два года. Мекканцы и их союзники снова двинулись на Медину, собрав почти десять тысяч человек. Мусульман опять было втрое меньше, поэтому они перешли в оборону и применили хитрость, позаимствованную у персидской армии. Город с трех сторон окружили шестикилометровым рвом, через который не могла перебраться мекканская конница. Все попытки прорвать эту оборону: внезапные атаки Халид ибн-Валида, ночные вылазки, – ни к чему не привели. Один раз курейшитам даже удалось прорвать оборону и перейти через ров, но вместо того, чтобы закрепить успех, глава отряда предпочел бросить личный вызов зятю Али. В завязавшейся схватке мекканец проиграл, и весь отряд вернулся обратно.
Через две недели осады мекканцы ушли, потеряв троих человек и убив шестерых мединцев.
Расплачиваться за все пришлось последнему иудейскому племени курайза, которое обвинили в пособничестве мекканцам. Теперь уже некому было оказать им помощь, и Мухаммед не церемонился с бывшими союзниками. Все мужчины у евреев были казнены, а их жены и дети проданы в рабство. Головы рубили с утра до вечера, погибло несколько сотен человек. Убивали даже мальчиков 12–13 лет: мужчинами считались те, у кого уже появились волосы на лобке. Аиша потом вспоминала, как казнили одну женщину, чем-то оскорбившую Пророка: «Она громко смеялась, в то время как посланник Аллаха убивал ее людей. Один из людей схватил ее и обезглавил. Я не забуду, как громко она смеялась, даже зная, что ее собираются убить».
Племя курайза перестало существовать, а в Медине у Мухаммеда больше не осталось ни религиозных, ни политических противников.
Из тех, кто оказался в эмиграции, некоторые тоже не избегли своей участи. Рука Пророка протягивалась далеко. Он послал пятерых человек в отдаленный северный оазис, где жил Абу Рафи, иудей из племени надир, которому исполнилось уже сто лет. Мухаммед считал его своим давним врагом. Один из посланных проник ночью в дом Абу Рафи и в темноте стал звать его, чтобы найти по голосу. Убийца вспоминал: «Я пошел на голос, как будто я хочу помочь ему, и нашел Абу Рафи, лежащего на спине. Я воткнул саблю ему в живот и давил на нее, пока не услышал звук треснувшей кости». Позже все пятеро пытались приписать себе честь убийства Абу Рафи, но Пророк опознал настоящего героя по его мечу – на нем осталась еда из живота Абу Рафи.
Паломничество
Все это время, словно ведомый тайной силой, Мухаммед неизменно действовал правильно и впопад. Любые, самые неожиданные и необдуманные его поступки оказывались кстати и приводили к благоприятным результатам. Все было ему на руку и все вело к успеху.