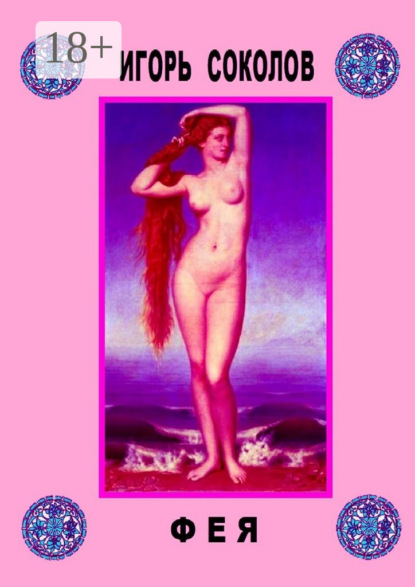
Полная версия:
Фея
И пусть я не знал никогда этих людей, уж перед смертью-то не смущаются, – ее или боятся, или со спокойной улыбкой принимают, или, на худой конец, так боль в себе пересиливают, что ни до чего им, грешным, и дела никакого нет. А вместе с тем, увидел я и воочию убедился, что все эти болезни и заразы всякие из души берутся, из пустоты ее темной и бездеятельной, когда у человека уже совсем руки опускаются, и он сам не живет, а доживает по инерции или по еще какой-то необъяснимой оплошности, но так или иначе, а все они сами себя боятся и что-то лишнее наговаривают, а потом и муки их душевные в телесные перерождаются, а что до болезней, так у них своя природа имеется, более простая и научная, где уже все понимание на костях и на мышцах держится!
Ну, а что касается тайны, то абсолютное большинство ее просто игнорирует, нарочито и заумственно вздыхая над всякими детскими и божьими сказками, иногда даже и совсем позабывая, что их личная жизнь, в сущности, и есть еще одна, чудом рожденная сказка. Отсюда и Дух Святой, и непорочное зачатие Марии, и хождение Иисуса по воде, и многое другое, отчего глупому человеку очень смешно становится в то время, как умные плачут. Недаром же Соломон сказал, что от слишком большой мудрости слишком много печали?!
Я устроился на «скорую» в конце сентября. Главный врач Лазарь Соломонович, кстати, очень умный и хитрый еврей, довольно быстро, но все-таки пристально взглянул на меня, выслушал мою просьбу, и тут же кивнув головою, бросил только одно слово: «Подходишь!»
Этой фразы, заключенной в одном всего слове, было достаточно, чтобы обрадовать меня на долгое время. Никто еще не оценивал меня так просто и так по-человечески! Это уже потом, в процессе работы я ощутил, что мгновение может стоить жизни, а посему мне мои новые коллеги в своем большинстве казались порой в критических ситуациях слишком холодными и равнодушными, в то время как ими на самом деле владела чувственная машинальность, и они делали все, чтобы спасти человека. Я не хочу их всех идеализировать, но по себе знаю, что огромное нежелание видеть чужую смерть двигало нами иногда до абсурда. Помню холодную полночь, когда врач, фельдшер и я – санитар выехали по вызову на самоубийство.
Бедолага выбросился с пятого этажа вниз, на асфальт, и в голове у него была такая дыра, что даже не профессионалу стало бы ясно, что он не жилец. Однако мы, как заведенные механические куклы, делали ему повязку, накладывали на переломы шины и вообще делали все, как будто пытались вызволить с того света все еще дышавший каким-то чудом труп. И даже привезли в реанимацию, где рассмешили всех реаниматоров до колик.
Ибо эти живые человеческие останки действительно слишком цинично поглядывали на всех оскалом быстро надвигающейся смерти. Можете себе представить, когда вместо мыльных пузырей кровавые выдуваются одновременно изо рта, из носа и ушей, и все это еще как-то шевелится, дышит! Вот в таких ночных видениях я и закалял свой робкий дух школяра!
Даже всегда пьяный Темдеряков заметил явное изменение моей наружности.
– Что-то ты какой-то не такой, – то ли с удивлением, то ли с испугом поглядывал он в мои глаза.
Я же, благодушно усмехаясь, проходил мимо, хотя в душе у меня скребли кошки и я думал только о Фее…
Она была чужой реальностью и моей мечтой, она жила во мен и как бы сопротивлялась своему нахождению в моих мыслях… я трогал ее волосы, ее набухшие соски еще не рожавшей женщины, я раздвигал ей ноги и вводил в нее свое земное сущее… Это был сон…
Я стонал и мучился по ночам, чувствуя, что совсем рядом, за стеной, она, бедная и несчастная, также мучается и страдает… И тогда я наполнял свои глаза слезами и долго плакал, как побитая собака…
Можно сказать, что в этих наивных мечтаниях и снах я выплакивал свое последнее детство… Первая любовь… последний всплеск несозревшего разума… Потом радость и жалость по ушедшему… Время уже никому не нужного разума…
Утро застает меня врасплох, как прошлое в настоящем… Я дежурю через ночь, и поэтому все мои ночи перепутаны, иногда я с удовольствием обнаруживаю себя проснувшимся в машине или на станции «скорой помощи» в комнате отдыха или в этой снимаемой мною квартире.
В любом случае жизнь спешит неумолимо, с каждой новой секундой она все сильнее стучится у меня в висках, с каждой новой смертью я все явственнее вижу ее необозримые горизонты… И мне начинает казаться, что наш мир ужасно мал для настоящей любви.
Этим утром я просыпаюсь в квартире, я вспоминаю, как я этой ночью представлял себе в постели Фею, как я мучился и стонал, ощущая вместо прохладного воздуха ее горячее тело… Я вижу изгрызенный мною за ночь краешек подушки… И мне становится стыдно, ибо я тут же вспоминаю, что в своих видениях я кусал ее соски. Я пил ее молоко, и оно было горьким, как молоко лошади… А сам я был таким маленьким…
Я сочетал любовь с игрою в прятки со Смертью…
Мне хотелось опять оказаться в ее лоне только крохотным зародышем… Схорониться в ее темноте и перестать думать… А только спокойно дышать, стуча ножкой в ее мягкий, упругий живот… И лежать в ней всю Вечность, пока она когда-нибудь снова меня не родит…
Может, этого она никогда не будет знать… И ее отнимут у меня также неожиданно, как наша память проваливается в черное забытье, где всякий образ сначала делится пополам, а потом на множество всяких других, и так до бесконечности, пока все не умрут и не родятся до конца…
Но где он, этот конец, если все это ползет и движется в неизвестном направлении?! Я снова думаю о Фее и, как в тумане, выхожу на улицу. У дверей дома лежит пьяный Темдеряков.
Возможно, он пьян еще со вчерашнего дня, но лицо его подозрительно искажено болью, рука его держится за сердце, а сам он тихо стонет.
И тут до меня доходит, что у него сердечный приступ. Я тут же опускаюсь и нащупываю его пульс. Удары с перебоями наполняют меня чувственной машинальностью…
Я тут же убегаю к себе к себе и возвращаюсь со шприцем и двумя кубиками коргликона. Это все, что у меня есть, но этого вполне достаточно, чтобы вернуть Темдерякова к жизни…
Я быстро делаю ему внутривенный укол и кладу ему под язык нитроглицерин… Лицо Темдерякова заметно светлеет, и вскоре он открывает глаза. Хмель его мгновенно испаряется. Он пытается встать, но не может, тогда я беру его осторожно под руки и увожу его к нему домой… Мне снова открывает несчастная Фея… Наши глаза снова встречаются…
Теперь она уже безо всякого смущения принимает от меня ослабевшего мужа и бережно кладет его на диван.
Грязные ботинки и такие же заляпанные брюки Темдерякова, его свисающая с дивана взлохмаченная голова и чистый ангельский лик…
Ангел и Дьявол, а вместе АД, ад на этой земле, ад в моих мыслях… Я без слов выбегаю из их квартиры и убегаю к себе… Я теперь как дурак плачу и бросаю учебу… Теперь мне на все наплевать, и все как будто бы кончено…
День в мучениях незаметен так же, как и в радости.
Вечером к восьми я спешу на «скорую». «Скорая» спасает меня как больного, она не дает мне времени подумать о самом себе. А что может быть лучше отсутствия, хотя бы мысленного… Ведь мысли летают, как призраки…
Их любовные дуновения жалят неукротимою похотью, а взгляд становится стеклянным, как у наркомана, которого мы только что вывели из комы…
Передозировка не всегда приводит по лестнице Иакова к Богу. И здесь, на земле, оказывается, этот грязный подонок еще кому-то нужен… Драные обои на стене, треснувшая статуэтка Богоматери на окне, старый телевизор на стиральной машине, а ванной дырявый презерватив…
А на полу куча разбросанных порножурналов… И ни одной книги… А в мозгах висят только фиги, да ампулы разбитые сверкают… Иголки от шприцов, как будто елки хвоя, прозрачной сетью укрывают пол…
Кстати, многие алкоголики и наркоманы словно лишены своего пола, словно они его променяли на этот смертельный яд забытья… А не лучше ли просто так умереть, чем время от времени забываться и существовать, как амеба… Люди исчезают, а их голоса все еще вибрируют в наших ушах… Наркоман вроде как умер, но все еще продолжает говорить.
Он говорит нам всякие гадости, словно мы его обидели вместе с этим несчастным миром… Оказывается, он и сам хотел отсюда уйти, но мы ему помешали…
Да, и эта любопытная соседка, увидевшая сначала распахнутую настежь дверь, а потом его в куче собственного дерьма… Это уже потом он будет благодарить сначала нас, а потом соседку…
Это потом врач Золотов брезгливо пожмет на прощанье его руку, которую он протянул ему в таком нетерпенье, что было понятно, что если врач ее не пожмет, то сразу же начнется истерика…
Больной, как капризный ребенок, требует к себе постоянного внимания, уважения и чего-то еще, чего и сам не знает, но все равно хочет и подозревает, что оно существует… И потом: если его спасли, то значит было указание, указание с того света!
Напуганная до усрачки соседка все еще выглядывает из-за своей двери… Есть люди, которых как и этого спятившего мавра надо держать взаперти… И, конечно, его надо отвезти в больницу, но у нас нет времени…
По рации передали, что на тридцать шестом километре «КАМАЗ» столкнулся с автобусом… Я уже заранее предвижу кучу трупов и растерзанные до неузнаваемости лица пострадавших.
Золотов в машине пытается шутить…
Пошлые шутки с особым цинизмом всех лечат от страха… Голова на две трети должна быть забита какой угодно дрянью, лишь бы смерть не веяла своим холодом. Но у меня в отличие от Золотова есть Фея, и я думаю о ней… Ее образ согревает мою душу даже в эту печальную ночь…
Водитель «Камаза» в окружении трех работников ГАИ стоял на обочине дороги и как ненормальный тряс своей головой, и все время повторял одну только фразу: «Не виноват! Не виноват!»
Судя по доносившемуся из его рта запаху алкоголя, он только что протрезвел, но все еще оставался невменяемым. Автобус лежал слева на боку, на дорожной насыпи, тела погибших и еще живых людей лежали рядом на земле… Кто-то стонал, кто-то выл…
Окровавленные и слишком изуродованные тела оставались внутри автобуса… «КАМАЗ» с вмятиной на правом крыле стоял поперек дороги… Мы подобрали женщину с переломом ребер и девочку с вывихом бедра и небольшой ссадиной на голове… Подъехали еще три наших бригады…
Рядом нетерпеливо суетились похоронщики…
Капитан милиции еще некоторое время курил и записывал что-то у себя в протоколе, слушая невнятное бормотание дрожащего водителя «КАМАЗа», потом передал планшетку с протоколом сержанту и со всего маха ударил кулаком в нижнюю челюсть водителя «КАМАЗа», потом еще два раза ударил его, уже лежащего, ногой, пока его не остановили свои.
Золотов пытался было шутить, но Шилов хмуро его оборвал, женщина уже не плакала, а выла, девочка тихо постанывала, она сидела на моих коленях, и я чувствовал слабый запах жасминовых духов, прикасавшихся к моей щеке…
В душе таилась смутная тревога за грядущее всего человечества, а мы в это время неслись по спящему городу сквозь шепоты и вскрики… Неожиданно мне представилось, что я держу на коленях не эту больную девочку, а свою Фею… Вот она рядом со мной и также страдальчески стонет в мучениях от своего Темдерякова…
И все-таки мы все должны быть счастливыми хоть иногда, и пусть рано или поздно мы потеряем навсегда этот миг счастья, но он все равно останется в нашей памяти ощущением давно утраченного рая.
И вот мы приехали. Я несу девочку по ступеням больницы и чувствую, как в моем мрачно бьющемся сердце откликается вся ее боль… все страдание… Золотов и Шилов несут сзади меня на носилках женщину.
В их лицах тоже отражается трагический абсурд настоящего… И лишь под утро в комнате отдыха мы будем пить все вместе разбавленный спирт и поминать тех, кого никогда не знали, но видели их тела, их болящие раздробленные суставы, их лица, искаженные болью, а уже потому они были нам так странно дороги и близки.
Так подобранный мною Аристотель из чужого, голодного и брошенного на произвол судьбы кота превратился в дорогое для меня существо…
Словно я знал его всю жизнь… А может быть, нет… Вопрос очень часто несет в себе ответ… А раздвоенность чувства подчеркивает лишь тайну происходящего… И все это только мысли, так часто молчащие в нас… И снова день проливает сияние на тщедушных и суетящихся понапрасну людей…
И снова меня ждут скучные лекции, насмешливый взгляд Федора Аристарховича, которого по-простому продолжают звать Федькой, хотя этот Федька многим годится в отцы.
Я как робот с отсутствующим вниманием, с пустотой внутри, чье логово во мне нашла прошедшая ночь, иду на лекции, рассеянно пряча глаза в ученый туман….
Цнабель продолжает городить свои безумные абстракции, впиваясь поверх голов в воображаемого собою Бога… И хотя мой Бог есть, он никак не может быть похож на Бога Цнабеля…
Мы все слишком разные, чтобы одинаково представлять себе устройство нашей бескрайней Вселенной…
Кстати, Цнабель почему-то всегда находит ее край, и вообще, весь мир у него запросто может поместиться в одном целлофановом пакете вместе с парой бутербродов с ветчиной, которые он сам носит с собой в столовую, как радующую его память о заботливой молодой жене.
Многие в университете удивлялись, что Цнабель женат на девушке, которая по возрасту скорее всего могла быть его внучкой, но только не женой…
Приехав из какого-то дальнего и глухого райцентра, где она закончила с грехом пополам местное ПТУ, она случайно почла в газете объявление нашего Цнабеля о поисках молодой симпатичной служанки…
Прекрасно разгадав план местного ученого, она прикинулась такой глубокомысленной натурой и так яростно поддакивала на все его философские размышления, что одинокий, старый и многими позабытый Цнабель вдруг воспарил… Совсем неожиданно в нем заговорила неизвестно откуда возникшая молодость, и он влюбился без памяти, как мальчишка…
Мальчик в светло-розовой пижаме, с вставною челюстью и в золотом пенсне… Впрочем, он был заразительно мил, очень хитро улыбался и никогда не выговаривал букву «р».
Может от этого его радость была в чьих-то зловредных ушах гадостью. А некоторые ура-патриоты просто с ума сходили, когда видели, как этот лысый старикан, ужасно смахивающий на библейского пророка, прогуливается около стен университета перед лекциями с очень смуглым симпатичным малышом. Словно древний Израиль Россию младую обнял… И влил ей в уста мед с ослепительных сот…
Маша, так звали жену Цнабеля, была ему верна до гроба. Казалось, что он ее приковал к себе своей мудростью. И хотя эта мудрость порой граничила с самым непредвиденным безумием, все же в Цнабеле было что-то от родника…
Он бил и пробивал собой насквозь эту землю… И пусть он во многом ошибался и даже уничтожал своим размышлением всякий смысл, но он чувствовал, что здесь ошибается всякий… Поэтому он превращал науку в игру…
Игру со смаком, юмором и с брызгами слепящих грусть стихий… Стихии как стихи мечтой переливались. И нарождались дни спокойные, как старость… Так зелень трав течет поверх земли усталой… И ты как ни живи – всего здесь будет мало…
Жизнь продолжается как сказка… Она сама по себе и есть сказка, дарованная нам и на некоторое время, и на всю вечность, но прожитая и увиденная нами безысходность все еще шевелится и содрогается под невидимой и внезапной стопой Владыки мира…
Весь наш мир для него бесконечный театр… Везде для него мы играем бесконечные драмы и комедии, а он смотрит на нас и думает, и снова воплощает нас из своего Небытия. И все продолжается.
Спектакль без названия. Актеры. Режиссер которых – Бог… Мне грустно, и я думаю о Фее… Еще вчера я слышал ее плач и пьяный крик Темдерякова… Мужа гнетущего чувства безверьем своим… Там в позабытых зеркалах ночует часто сумасшедший… Так всякого цветенья страшный прах в себе тоску миров содержит…
Иногда кажется, что Темдеряков скоро умрет, чтобы освободить от непосильной ноши Фею, но мрачный абсурд существования продолжается, и я сам словно схожу с ума, пытаясь вообразить себе кончину бессмысленно живущего Темдерякова…
О, как это грешно, ужасно и унизительно! Срываться мерзкими страстями в заблужденье… И все же я живу и вижу, хотя это одно и то же, что Фея счастлива со мною, только со мною… Я строю для нас замок приведений, куда въезжаю вместе с ней на белом коне, по высоким горам облаченным, возвышенным в облачный саван…
Золотою пряжей с коня, как и с рук твоих добрых и нежных…
Гостем странным, таинственным жду губ твоих ублажающих лепет.
Как ты входишь в меня и во мне навсегда забываешь, что ты есть на земле, где кончается с песней любовь, и вместо нее меж собою сражаются звери…
Темдеряков – зверь, когда он пьян, он бьет Фею, а я не в силах выбить дверь и ворваться туда, ибо Фея – жена, жена несчастного зверя… Все несчастья его приемлет как души в аду… Страстной памяти грешный огонь…
И поэтому молится, верит, что, быть может, к ней Ангел придет… Только ангелы летают в небе, а на земле живут люди, и непонятно, какого черта этим людям истреблять в себе Любовь…
Я выхожу на цыпочках из квартиры мимо спящего и лежащего свернувшись на коврике калачиком, Аристотеля… Я поднимаюсь наверх и прислушиваюсь к их двери… Ночь… Тишина… Ни Темдерякова, ни Феи, никого. Сон изгоняет из тел посещать вечный мрак бестелесные души…
Тишина заставляет меня опуститься на колени перед их дверью, помолиться и заплакать, и зажечь как свет перед Богом одинокую свечу… Фея, мой свет далекий и блаженный, приди ко мне ведь я люблю тебя… Прекрасные, светлые мысли являют во мне еще вчерашнего ребенка…
В пыли их ног, в пыли половика всю ночь стою, как старец-пилигрим, скорбящий о самом себе монах… и о Любви уснувшей с ненавистным мужем…
Постепенно я весь проваливаюсь в работу и в учебу, постепенно я немножко позабываю свою Фею, и как-то тихо и благостно влачу будто по инерции свое замогильное существование.
Вскоре, после трех недель работы на «скорой», мне показалось, что весь мир болен, что все без исключения умирают, и, вообще, как-то тягостно повеяло отовсюду безвременьем. Правда, вскоре это прошло, как какая-то случайная, но все же не такая опасная болезнь… Словно прыщик в носу вскочил, а как вскочил, так сразу и потерялся… В то же время я стал посещать в университете клуб поэтов. Уморительное сочетание блаженной самовлюбленности, наивного кокетства и чего-то еще, что и составляет вожделение мечтательного ума в союзе с танцующей рифмой…
О, прекрасные бездельники и бездельницы, о, многодумные ротозеи Вселенной грядите ныне к торжеству поэзии, неомраченною душою восходя в мир. Не связанный ни с какой бесполезной суетой, а с одним лишь возвышающим мечтаньем…
Все такие молодые и вроде как серьезные… И слушают старого поэта Скворцова, у которого не стихи, а рифмованные рассказики о природе… Что-то наподобие: «травка зеленеет, солнышко блестит…» И при этом он с язвительной усмешкой критикует нас, придираясь к каждому слову…
– Почему у вас деревья шепчут?! Разве они могут шептать, разве они люди?! – спрашивает он меня.
– Да это просто метафора! – удивляюсь я.
– Ты что, умничать сюда пришел?! – его брови сгущаются надо мною как две черные тучи…
И только две молоденькие поэтессы филологического факультета хихикают и подмигивают мне, спасая меня от посредственного и скучного дурака Скворцова.
– Ах, девочки, какие вы еще маленькие и наивные, – умиляется их смеху Скворцов и радостно хлопает в ладоши…
И опять торжественно и как будто через мощный громкоговоритель Скворцов читает свои нелепые, как и он сам, стишки… Я притворяюсь больным и убегаю из клуба… Следом за мной выскакивает молодая поэтесса… Ее зовут Инна…
И она без ума от меня… Это видно по ее карим глазам, которые горят охотничьим азартом… Я брожу с Инной по городу, и мы читаем друг другу свои стихи…
Ее стихи повторяют чеканный слог Марины Цветаевой. Мне хочется уличить ее в слепом подражании, но я вижу ее простодушные и такие чистые, без всякой чертовщинки глаза и улыбаюсь…
Я ее хвалю, и вскоре я влюбляюсь, только не в Инну, а в ее обворожительные стихи…
Призрачный путь омывает ночной горизонт, и мы друг другу с надеждою смотрим в глаза… Наши пальцы переплетаются, наши губы вот-вот соединятся, но буквально за мгновенье я вспоминаю свою Фею и отталкиваю Инну от себя… Конечно, она плачет…
Ее слезы переливаются стыдливым ручьем… А я ее утешаю, я говорю ей, что она еще найдет свою любовь, что ее жизнь только начинается и что она, конечно, очень красивая, но только сердце мое уже занято…
Оревуар, до встречи на том свете, как уже сказал Василий Розанов… Мне грустно от того, что я все реже вижу Фею, однако, чаще встречаю пьяного Темдерякова.
Он сориентирован на грязь, как я на ослепительную Фею… Иной человек так и задумается, мол, зачем из этой унылой жизни пытаться выдумывать сказки, не лучше ли ее принимать такой, какая она есть…
Но именно на этой мысли можно попасться… Ибо жизнь не бывает какой-то приземленной и залитой в одну понятную всем формулу…
Скорее, мы сами рисуем ее на свой взгляд, какой мы ее желаем видеть, или, наоборот, не хотим…
Мы, люди, а поэтому мы субъективны и кровожадны, как вурдалаки… Проклятая тоска одолевает меня, и я пишу грустные, ужасно пронзительные стихи о Фее… Творчество спасает…
С помощью его я могу исподтишка вглядываться в собственную боль и находить в этом истинное утешение… Слова – лекарства, рифмы – яд, а вместе собственный мой ад… И я ращу из мыслей сад, чтобы вернуться к снам назад… Там Фея залита лучом Звезды осенней входит в дом…
…где я один в тоске молчу… о ней одной мечту влачу… нет, ношу… Или лучше вообще ничего не писать?
Чувства выделяют стихи, как море оставляет на губах соль… как костер оставляет золу и уголь… Я могу писать стихи и упиваться своим чувством.
Я могу не учиться, не работать, я могу ни с кем не общаться и думать только об одной Фее… А значит я болен…
Я болею уже давно, с тех пор, как я ее впервые увидел, прошло три недели. И за эти три недели я так изменился, что даже родители мои были очень удивлены.
Особенно, если бы узнали, что я работаю санитаром на «скорой помощи», хотя благодаря отцу у меня достаточно средств, чтобы вообще ничего не делать.
Но я хочу, я просто глотаю весь этот мир, отдаюсь ему, как самая последняя стерва, чтобы не думать так часто о Фее, чтобы не смотреть из окна на пустынную улицу…
Потом я о чем-то еще задумываюсь и опять подхожу к окну и весь замираю. Под моим оконном стоит женская фигура, едва освещенная фонарным столбом, и я вдруг вижу, что это Инна, а не Фея…
Черт возьми! Она меня выследила и теперь стоит одна в ночной тишине и мерзнет…
Я выбегаю на улицу и приглашаю ее к себе. Она со смущенной радостью входит ко мне, и между нами снова возникает неловкая пауза.
Я молчу, пытаюсь найти для нее такие слова, чтобы она поняла, что я люблю только Фею. И я Феей ее назвал, чтобы песня любви была похожа на сказку…
Инна плачет, она все понимает… Она пытается сорвать с себя одежду и соблазнить меня своим юным телом… Бедная девочка, если бы все мы были здесь счастливы, разве мир бы застыл в своем величии и навсегда умолк…
Я со стыдом отворачиваюсь от обнаженной и плачущей Инны и запираюсь от нее в ванной.
Она, как мой Аристотель, тихо скребется и жалобно мурлычет… но я включаю воду и слушаю только один шум льющейся воды… Так проходит ночь… И так незаметно из моей жизни исчезает безутешно влюбленная в меня Инна…
Иногда человеку просто необходимо ничего не думать, не чувствовать, не видеть… Именно такое состояние и вызвала во мне та безумная ночка моего дежурства на «скорой»…
Два самоубийства, одно изнасилование, еще отравление, потом драка с поножовщиной в общежитии «химиков», ближе к утру опять дорожно-транспортное происшествие – и везде люди, люди, превращающиеся в трупы на твоих глазах.
Везде театр ужасного абсурда.
Студент, чем-то похожий на меня, шагнул с крыши многоэтажки вниз… Кажется, из-за несчастной любви…
Директор какого-то бедлама, с удовольствием пальнувший себе из пистолета в висок, изнасилованная и исколотая ножом маньяка десятилетняя девочка, отравление техническим спиртом… сразу три трупа: муж, жена и сосед… мертвый треугольник…
Драка в общежитии химиков… кастеты… ножи, ремни с пряжкой, шесть трупов, кишки, свисающие с порезанных животов, и еще пять захлебывающихся в собственной крови мужиков…
В конце дежурства авария… перевернутый автокран, и разбитый «УАЗик»… оторванная голова водителя вроде большого кувшина с льющимся оттуда вином…
И почти везде не надо было нашей помощи…
Только похоронные бригады с кислыми лицами делали свое дело так просто и спокойно, как будто всю жизнь занимались этим… подбиранием забытых мертвецов…
В темноте легче видится человеческая смерть… Темнота прикрывает собой нищету скорбного тела…
А душа невидимкой парит в небосводе по звездам таинственных высей. И потом труп всегда остывает, а человек живет… Человек не может остывать и превращаться в мрамор… Или в пепел, в золу, в землю…

