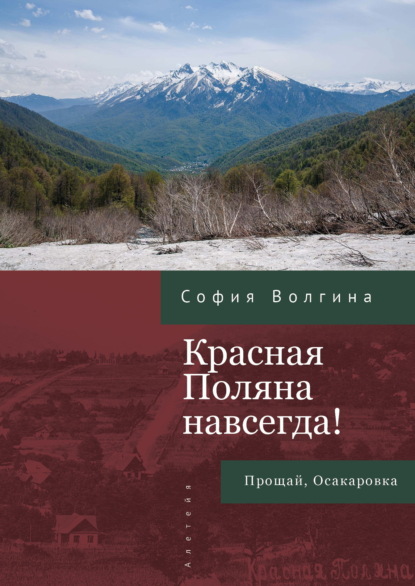
Полная версия:
Красная Поляна навсегда! Прощай, Осакаровка
Как ни странно, на химпоселковской танцплощадке, на большом пустыре, где потом выстроили Дворец Культуры химиков, Марица встретилась со своим одноклассником Гавунжиди Николаем. Он был неравнодушен к ней еще со школы. Надо же такое! Кстати сказать, в городе оказалось немало греков. Сосланных еще в сорок втором в северный Казахстан и теперь перебравшихся на юг, так как к тому времени, в пределах республики, перемещение разрешили.
Селились они в основном в химпоселке недалеко от этого самого будущего химического Суперфосфатного завода, куда они, в основном, принимались на работу. Работа была, конечно, тяжелой, но хорошо оплачиваемой. Со временем почти все греки выучились на шоферов, так как крутить баранку было значительно легче, да и лучше для своего хозяйства, потому как почти все строили себе дома, а стройматериал сподручнее было возить на «своих» грузовиках. Марица подружилась с Лизой Гавунжиди, сестрой Николая. Лиза хорошо знала город, и они по выходным ходили погулять в Центральный парк им. Ленина или ездили на Зеленый базар. Это было шумное и людное место, где можно было встретить, кроме казахов, много и русских, и греков.
Лиза вышла замуж в том же году за хорошего парня, а Марица, несмотря на активные ухаживания ее брата, не согласилась пойти под венец. Не было у нее никаких чувств. Не могла еще забыть Олега Гильманова. Матери с отцом Николай нравился, и они советовали ей не упустить его.
Марица напомнила:
– Как же так, вы ведь хотели, чтоб я за Костаса шла, все сделали, чтоб он меня засватал.
Мать неуверенно возразила:
– Ну, когда и где это было! Он, наверное, и имя твое забыл. Никто ж не знал, что так все сложится, что нам придется бежать…
– Ни за кого я замуж не хочу, – сердилась Марица и уходила: не хотела говорить о замужестве. Сестра Марфа встречалась с соседом – греком, Харлампием Капагеориди, на десять лет старше ее. Отец не разрешал ей и думать о «перестарке», как он говорил. Но шустрая Марфа не терялась, продолжала с ним видеться тайно.
И как Марица ни ругала, ни предостерегала ее, та не слушалась.
– Отстань, – говорила Марфа, – у меня ничего серьезного к нему нет. Так, время провожу.
– Ну, и что о тебе скажут люди?
– А что скажут, если ничего не было? – безапелляционно парировала сестра.
* * *К концу сентября, к дому Роконоцы, были, наконец, пристроены две большие комнаты, расширены сенцы. Позже, к зиме поправили покосившийся сарай. Который раз вся семья еле вылезла из грязи и неустроенности: по крайней мере, они построили за эти годы три дома. Сколько сил, здоровья времени было потрачено! В конечном итоге теперь у Роконоцы была своя комнатушка, а в остальных двух комнатах спали по двое – два сына и две дочери.
Заметно легче стало жить. И Харитон, и Ирини, и Кики работали. Учился на курсах водителя грузовика один Яшка. Роконоца работала по дому. Ей хватало дел: готовила еду семье, варила пойло скотине, убирала навоз, мыла, стирала, шила, штопала, пряла, вязала, пахтала молоко, выгоняя сметану и масло. Впервые, на зиму пятидесятого года они имели достаточно дров и угля. Роконоца так любила тепло! Зимой, когда открывались двери в сенцы, с улицы неслась холодная волна густого вздыбленного воздуха, казалось, все тепло выносилось вместе с этой дверью. Гора угля лежала тут же у дома. Столько грязи из-за этого заносилось в дом. А без угля околеешь. На день раз десять выходили за углем с ведром. Зола горками сыпалась сзади дома.
Харитон с Яшей порешили на следующий год сколотить из досок просторный ящик для угля, как у Поповиди Митьки. Хозяйственный же парень Митька: все у него добротно, как у порядочных людей!
Ирини в свои пятнадцать работала в «Заготзерно». Летом ее бригада работала не разгибаясь. Вагоны с зерном подгоняли под склад, где находились весы и через транспортеры зерно пересыпалось в элеватор. А Ирини с Ксенексолцей и другими подругами из бригады таскала на себе мешки, кантарила, как когда-то незабвенный брат Федя. Сметливая была. Ее начальница завскладом, Ирина Никифоровна, как-то предложила ей стать ее заместительницей:
– Ну, что, тезка, пойдешь работать со мной? – спросила она Ирини, похлопав ее по плечу. С болью пришлось Ирини признаться, что не знает грамоты. По этому поводу очень сокрушалась начальница:
– Надо же, такая умница и не знаешь грамоты…
– Когда мне было, Ирина Никифоровна? С малых лет работала, потому как сослали, нечего было надеть на ноги.
– Да…Жаль, жаль. Ничего не поделаешь? А я надеялась, что будешь моей помощницей… – Ирина Никифоровна помолчала, перекладывая бумаги на столе. – А знаешь, Ирина, есть вечерние классы. Может, тебе пойти? – начальница явно жалела молодую гречаночку.
– Уже спрашивала. Там только с пятого класса. А у меня два класса.
– Вот беда-то! Неужели ничего нельзя сделать, вот беда-то! – сокрушенно повторяла завскладом.
Ушла она, с сожалением качая головой. Еще раз Ирини поклялась себе, что, если у нее будут дети, то она сама будет даже в мешковине ходить, но даст им полное образование, чтоб не пришлось им таскать, как ей, тяжелые мешки. Как она сожалела, что не прислушалась к словам брата Феди, ведь говорил он ей не бросать школу, что она самая умная в семье, что трудности пройдут, зато потом будет намного легче.
Разве легкая сейчас у нее работа? Спасибо, она крепкая и здоровая девчонка. А сколько среди девчат в бригаде хлипких? Только успевай помогать. А дядя Мильдо, бригадир, только и делает, что подгоняет их. Ему трудно представить, наверное, что не все могут быть силачками. У него, вообще, дома произошел казус, ставший известен всем односельчанам. Его сын, Кириак, недавно женился, взял пригожую крепкую гречанку. Однажды Матрена, жена его, увидела, как их невестка, рассердившись на корову, схватила за хвост и отшвырнула от себя, как какую-нибудь кошку. Испуганная Матрена, рассказала мужу и сыну о феноменальной силе невестки. Утром Кириак, сделав вид, что чем-то недоволен, стал ругать и замахиваться на жену, желая посмотреть, не отшвырнет ли она и его, как котенка. Но нет, она заплакала, отступила в угол, прячась от его кулаков. Ну, Кириак и отстал, подумал: «Лишь бы на меня руку не подняла, а так пользуйся своей силой на здоровье». Дядя Мильдо умильно и с гордостью рассказывал эту историю несколько раз, каждый раз прибавляя очередную новость, как невестка Фрося благодаря своей силе сделала ту или иную работу.
– Молодец, она у нас! Для нее пара пустяков порубить и сложить поленья, а для нас какое облегчение! – говорил он в таких случаях, довольный Фросей, а главное проделанной ею работой.
– Так вы там все, небось, сели и поехали на ней, – резво замечала русачка Люся, – сильная, так что и отдохнуть теперь не надо, что ли?
– Никто ее не заставляет, – отмахивался Мильдо, – она сама все затевает.
– Знаем, знаем, небось гоняешь, как и нас!
– Девчата, работа есть работа. Зря не говорите, сами знаете, как я вас жалею и понапрасну не гоняю, Бог свидетель.
И вправду: Мильдо был хорошим бригадиром – веселым, находчивым и жутким матершинником. Бригада его славилась тем, что в ней работали на совесть, но повеселиться были тоже не дураки по любому поводу.
* * *На одном из сеансов в кино, смотрели индийский фильм, Кики встретились с дальними краснополянскими родственницами Парфеной и Деспиной Поповиди. Они только что переехали в Осакаровку из Шокая, крошечной станции, недалеко от Караганды. Сестры Поповиди хорошо знали семью Сарваниди. Но ничего о них не знали с сорок второго года, то есть с тех пор, как их самих выслали. Старший брат девчонок, восемнадцатилетний Феофан, довольно тесно стал общаться с Харитоном и Генералом: встречались на свадьбах, церковных праздниках, а теперь, с переездом, зачастил к ним в дом. Часами он мог рассказывать, как высылали греков с его родного поселка Краевско-Греческий. Сядет у Роконоцы за низкий, овальной формы стол, колени его длинных ног чуть ли не у головы и, если были слушатели, начинал свое повествование:
– Нам еще повезло, – говорил он. – Почему-то отца не посадили в 37-ом, а без всякого объяснения, нас выселили, отправили в Апшеронск. Вагон с высланными выгрузили, продержали сутки на вокзале, а потом вывезли на хутор «Дубинка». Дворов там было около восьмидесяти, ну и мы – семей тридцать греков.
– На что жили? – сурово спросил Самсон.
– На что жили? – переспросил Феофан и стал загибать пальцы, желая ничего не выпустить из виду:
– Сажали картошку, отец много плотничал, платили, конечно, копейки, но давали натурой, в основном, яйцами. Ели лебеду, крапиву, как и все соседи. В 40-ом вернулись назад и жили в Лекашовке до сорок второго года. Я успел закончить восемь классов греческой школы и меня перевели в русскую. Кстати, у нас учительница греческого языка была русской. Валентина Ивановна Капагеориди. Из любви к греку – мужу полюбила и его родной язык, выучила его и стала преподавать. Мы все ее любили, хорошая была учительница. В русской школе я проучился год и бросил учебу, помогал отцу, а потом пошел шоферить. Выучился у Георгия Федоровича Александриди ездить на грузовике. Может, знаете, наш веселый гармонист Савва Александриди – его сын. Сначала Георгий Федорович был учителем в нашем поселке. Помню, как я просился в школу, а он меня и моего друга не взял: мы были на несколько месяцев младше остальных. Ох и злились мы с Митькой Стефаниди. Даже не побоялись, взяли по камню и бросили в школьную дверь и тикать.
Феофан, видимо, стесняясь за тот свой поступок, стрельнул глазами на тетку Роконоцу. Та стояла спиной, месила тесто.
– Ну и что? Не поймали, за ухо не потаскали? – спросил с подковыркой Генерал.
– Нет. Но дома получил нагоняй. Кто-то передал отцу о кинутом камне. Вот… – Феофан выдержал паузу, вспоминая, что ж было потом. И снова потекло рекой его повествование:
– Ну, а потом, после школы выучился на шофера. Работал на «Студебекере», возил начальника госпиталя под номером 2116 Юрия Федоровича Продана, врача 1-го ранга. Там по дороге на Сочи, находится санаторий «Фабрициус», а рядом находился Главный Военно-Морской госпиталь Черноморского флота, где Продан и работал начальником. Тогда строили дорогу Дагомыс – Солоахаул, через поселки Дологохул, Бабакаул и другие. Так вот, вез я из Краснодара в тот раз полную машину груза: бинты, разные медикаменты и пишущие машинки. Немец прижимал, обстреливал машины с самолетов, но я проскочил. Вот Юрий Федорович и передал мне заранее приказ о моей ссылке.
Феофан опять остановился, задумался на мгновение. Он крепко сцепил пальцы рук и теперь внимательно смотрел на них. Руки у него все время были в движении: то подносил к лицу, то совал в норманны брюк или жакета, то барабанил по столу.
– По предписанию, я должен был оставить машину в Дагомысе, – продолжил он, – затем отправиться в Сочинский морвокзал и соединиться с родителями. Приезжаю туда, а они меня уже ждали. Там нас посадили на корабль «Аюдаг» и отправили в Баку. Утром мы были в Сухуми.
– Ну и как? Тяжело было плыть с непривычки? – тут же последовал вопрос от Самсона. Дед всегда расспрашивал таких рассказчиков прямо-таки с пристрастием и живым интересом. Слушал и всегда печально – сокрушенно качал головой.
– Сносно… Правда, пока плыли, немецкий летчик – разведчик разок обстрелял, но ничего, никто не погиб. Всю дорогу играли в турецкую игру с костьми – «Шеш-Беш».
Феофан смотрел чуть прищуренными глазами в сторону окна, как будто там видел, что происходило несколько лет назад.
– Такие вот дела…, – передохнул рассказчик, ненадолго задумавшись, и продолжил:
– В Сухуми нас разгрузили и пешком направили в село Норио через стан Вадиани-Мелани. Потом на станции Вадиани посадили в телячий состав из тридцати вагонов без окон, а уже перед самым Баку, в городе Баладжар дали возможность помыться.
– Так сколько вас там всего было, – спросил Генерал, срывающимся на фальцет голосом от обиды за греков.
– Сколько? – Феофан провел по всем лицам невидящими глазами. – Тысяч несколько, наверное. Точно не могу сказать.
– Ничего себе!
Нетерпеливому Самсону не терпелось услышать конец приключений Феофана:
– Ну, а дальше?
– Что дальше, дядь Самсон… Дальше, люди бросились варить что-нибудь жидкое: измучились от сухой еды.
Но не успели они разжечь на насыпи костры, поставить котелки, кастрюли, а тут свисток-по местам! Потом в Красноводске выгрузили и посадили в пассажирский поезд на Ашхабад.
– И как долго вас везли в гости на край земли? – поинтересовался насмешник, Митька-Харитон.
– По морю – не долго, а на поезде подольше. Считай: выехали двенадцатого сентября, а приехали пятого декабря.
– Почти три месяца! – вскочил с места Генерал. Глаза его прямо – таки горели от возмущения.
Бабушка София с Роконоцей тоже возмущенно зацокали языками.
– Мы и то меньше ехали, – прозвучал спокойный, но явно удивленный голос Харика Христопуло. – Дед говорил ехали мы всего месяц, – добавил он с виноватой улыбкой.
– Ну, братцы, значит – вы везучие, – засмеялся Феофан. – Ну вот, – продолжал он, – а в Ашхабаде мы с братом, Колькой, отстали от поезда. Представляете?!
– А чего так?
– Мальчишками ж были… Хотели посмотреть город. Оглянуться не успели, поезд, как говорится, ушел. Что делать? Перепугались, изрядно. Побродили по вокзалу. Потом купили четыре булки хлеба: есть хотелось. Доехали до Саратова, пересаживаться на Джамбул, а билетов нет. Потом за две булки хлеба удалось купить билеты. За хлеб там, что хочешь можно было купить. Можете представить: булка хлеба шла за сто рублей? – Феофан всех мельком оглядел, проверить каково впечатление. – Так… Значит, догнали мы своих на станции «Аса», около Джамбула. Нас уже родные насовсем потеряли.
– Ну и как прочувствовали всю радость жизни в телячих вагонах? – опять поддел Генерал. Феофан посмотрел на него, усмехнулся:
– Да ничего… Спасибо, вагоны чистые были. Соломы хватало. Оттуда поехали в сторону Караганды. Сняли нас всех ночью на какой-то станции и на быках повезли в город Вольск. Холод собачий. Невыносимый. Можете себе представить, чтобы мужики на себя надевали женские платки? В Вольске было много сосланных волжских немцев, они-то нас на быках и везли. Потом распределили нас по домам. Там мы прожили целый год. Сестра Парфена работала поварихой на станции, а Деспина там же – прицепщицей. Я с младшим братом Панаетом работал на грузовиках в колхозе. За год лично я заработал две тонны пшеницы. Из них шестьсот килограмм было положено отдать на нужды фронта, на войну.
Яшка-Генерал опять подал голос:
– А ты как думал? Кто солдат должен кормить? Такие, как ты, конечно!
Высказавшись, он оглядел всех, ожидая к своей реплике других реплик, но все молчали, переваривали услышанное.
– Ну вот, – подошел к завершению своего рассказа Феофан Поповиди, – потом вот переехали в Шокай, там у меня товарищ русский объявился, по дешевке мы купили у его соседей дом, поправили его и живем там теперь вчетвером.
Надо было, конечно, сразу сюда, да вот как раз перед переездом отец уехал назад – тайно, конечно. Надеется поправить в Мацестинской долине свое здоровье, что-то у него с легкими. А больше, мне кажется, тоска его заела.
Феофан чуть запнулся, опустил свои крупные глаза, опять стал разглядывать руки.
– Я тоже собираюсь туда, – продолжил он, стряхнув свою задумчивость, – надеюсь, удастся пробраться. Возьму с собой деньги какие есть, если попадусь, может, откуплюсь, а нет – загребут.
– Рискуешь, парень, – поостерег его Самсон, – схватят и поминай, как звали.
– Милиция-то у нас неподкупная, – заметил серьезно тонкоголосый Иван Балуевский. – Правда ведь, Генерал?
* * *Письмо от Кики сестры Сарваниди получили за день до отъезда в Казахстан. Решили ответить с нового места жительства. Но написать удалось только через полтора года, перед самым отъездом назад на Кавказ: конверт с фотокарточками был утерян и нашелся, когда снова стали складывать вещи по узлам и чемоданам. Марица обрадовалась найденному конверту и вечером, когда все улеглись, села писать длинное письмо. Весь день она сочиняла стихотворение, которым она хотела начать свое запоздалое письмо. Получилось так:
«Добрый день, веселый час,Что ты делаешь сейчас?Выкидай из рук ты всеИ читай мое письмо».Как будто начало получилось ладно. Дальше все пошло легко: написала со всяческими подробностями, как все произошло с самого начала, о том, как их семье тоже пришлось хлебнуть, когда вдруг им пришлось за два дня собраться и уехать из Красной Полны. Отец перевез семью туда в сорок четвертом году, так как Военкомат направил его Поляну делать дорожные работы. Спасибо, их предупредили в 49-ом, что они в списках среди греков, которых собирались выслать. Марица описала и то, как отец, любитель выпить, забыл про водку и два дня собирал семью, давая редкие, но грозные указания. За один день сговорился и продал за бесценок дом сыну соседа. Глаза его горели то ли от страха перед новой непонятной жизнью, то ли от ненависти ко всем вокруг. Обычно гостеприимный и разговорчивый он был тогда сам не свой. К счастью, сохранилось письмо с адресом дяди Кирилла, и он встретил их хорошо – недели две жили у него.
Слава Богу, отец нашел подходящий по их деньгам полдомика и, когда заселились туда, наконец, пришел в себя. В первый же день, уже, как хозяин дома напился так, что не мог проснуться сутки. Каждый вечер с тех пор он заводил одну и ту же пластинку: как хорошо жилось на Кавказе. Ничего не нравилось ему в Джамбуле: ни люди, ни климат, ни природа. Работать пошел туда же, где работал брат Кирилл, на стройку Химзавода. Приходил оттуда грязным, усталым и злым.
Материл он свою работу на чем свет стоит. Ну хоть платили ничего, а куда еще можно было пойти? Предлагали на «Бурул», камни ломать. Тоже не сахар. Не в том он возрасте. Там недолго и ноги протянуть. Так что, подвыпив после работы, отец долго рассекал руками воздух, энергично рассуждая о «прелестях» жизни в изгнании. Мать помалкивала. И его просила помолчать, боялась посадят непутевого мужа в тюрьму за такие речи.
Написала Марица подруге также о том, как приняли работать почтальонкой, благо опыт уже был. Описала, как лежа в кровати долгими вечерами, она вспоминала свою прежнюю жизнь и плакала. Казалось, теперь никогда не увидит милые ее сердцу места, не увидит любимую бабушку. Но Слава Богу, для их семьи все позади. Теперь они возвращаются и, может быть, они еще встретятся с Кики и Ирини там, на родном Кавказе.
Письмо было отправлено с припиской, что сама напишет ей следующее письмо, теперь, скорее всего, с другого адреса.
В заключение, ей тоже хотелось написать стихами, но уже не было никаких сил. Легла спать, но не спалось. Марице не верилось, что скоро – скоро увидит родные места, бабушку, парк, где она встречалась с Олегом Гильмановым… Вдруг вспомнилась вся ее жизнь с тех пор, как она себя помнила. Как было хорошо дома. С мамой, папой. Как помогала родителям с ранних детских лет. Вспоминались военные годы, когда солдаты день и ночь шли через их поселок под названием «Монастырь». Бывало, они ночевали и у них в доме, оставляя свои недоеденные пайки, и тогда их семья имела праздничный обед. Был период, когда не стало соли и мать просила бойцов оставить хоть несколько щепоток. Вспомнилось, ей было лет тринадцать, как с Красной Поляны спустились как-то в Монастырь женщины – гречанки, остановились у них переночевать. Шли они пешком к морю с ведрами, чтоб выпарить из морской воды соль. Две из них были просто изможденными и не могли говорить, третья была, видимо, покрепче:
– Ты не представляешь, Сима, каково без соли, – жаловалась она матери Марицы.
– Мы уже второй раз отправляемся на море. Кипятим ведрами, целыми днями. С ведра – чайная ложка соли. Хоть она и горькая, противная, но хоть спасает от глистов. Черви выходят из людей со всех дыр. Детей жалко. Соседский мальчик вырвал комом этой гадости, чуть не задохнулся, ели спасли.
Наутро мама ушла, оставив полную кастрюлю крапивного супа, наказав дочери накормить гостей. Одна из женщин подходила к кастрюле раз пять и все не могла наесться. Марица заплакала: кроме этого супа в доме ничего не было из съестного. А мама придет поздно вечером. Уже женщины стали ее ругать, а та припадала к своей тарелке и пила суп, как пьют чай. Наконец, она подняла свое измученное лицо, закатила глаза, перекрестилась:
– Докса то Теос! – Слава Богу! Я немного пришла в себя.
Уходя, она плакала и бесконечно повторяла слова благодарности за кушанье. Когда мама пришла и спросила, где суп, Марица опять заплакала и все рассказала.
– Ничего не плачь, я сейчас еще сварю, еще вкуснее, не плачь, – ласково успокоила ее мама.
Вспомнилось, как однажды мама послала ее за мукой. В их магазинчик привезли три мешка муки, и продавали по двести грамм. Мама подняла ее рано утром, занять очередь. Стояла осень, еще темно было, но народа у магазина собралось полно. Марица оказалась почти последней. Когда пришла ее очередь, продавать муку стали по сто грамм. В обратный путь она шла, когда спустились сумерки: в горах темнеет рано. Марица всегда боялась одна проходить Монастырский тоннель, хоть он и короткий. Прижала к себе драгоценный сверточек, с мыслями, что, может быть сегодня, мама сготовит что-нибудь вкусненькое, мучное. Мимо медленно на повороте проехали последние машины с солдатами и пленными немцами, которые работали на дороге, расширяя ее и взрывая крутые повороты, готовя к строительству электростанции на реке Мзымте.
У самого выхода из тоннеля ей послышались шаги, она остановилась, спряталась за каменной выемкой, присмотрелась. По дороге шли двое в солдатской форме, девушка и парень. Стриженная девушка держала в руке веточку. Шли они медленно и тихо переговаривались:
– Я слышал шаги совершенно ясно, – сказал солдат вполголоса.
– Мне тоже показалось, кто-то идет, – в голосе девушки слышался страх.
– Не бойся. В это время солдаты здесь по одному не ходят. А шаги были одного человека, а может, какая коза бродит?
Девушка приглушенно засмеялась:
– Было бы хорошо. Мы б поймали ее и сделали себе шашлык. Можно себе позволить после трехдневной голодовки.
– Тихо, – в голосе солдата звучала настороженность и опасение, – сейчас посмотрим, что это за существо притаилось в тоннеле.
Обнаружив Марицу, они отобрали у нее пакет, не обращая никакого внимания на ее крик и плач, быстро ушли в сторону кустов. Марица слышала, как трещали ветки, пока те уходили в гущу леса. Домой она пришла дрожащей и зареванной. Все рассказала маме, которая ее успокоила: по счастью именно в этот вечер у них остановилось трое бойцов и поделились своим хлебом и тушенкой. Мама и ей приберегла поужинать. На следующий день их постояльцы доложили своему начальству о случае с Марицей у тоннеля. Вечером этого же дня парочку поймали. Оказывается, дезертиры успели похозяйничать в чьем-то доме, украли кое-что съестное. Теперь они стояли без ремней, со связанными руками и смотрели пустыми глазами на окружающих. Марицу привезли на опознание. Да, это были они. Когда она ехала туда на машине, как свидетельница, то отчетливо ощущала в себе мстительное чувство, дескать «ага, попались, будете знать, как обижать людей».
Теплый осенний ветерок по ходу приятно обдувал лицо и на душе было радостно, что справедливость восторжествовала. Но теперь, когда она увидела небритого, такого молодого, совсем мальчишку, солдатика и растрепанную, красивую, страшно бледную, с блуждающим взглядом девушку – солдатку, сердце у нее сжалось. В голове пронеслось: «Неужели их убьют? Таких молодых. Ведь они так хотят жить!»
Марице было не по себе видеть их потерянный отрешенный взгляд, которым они иногда оглядывали толпу, как бы ища у них спасения. Наверное, Марица никогда не забудет эту парочку. Отца в самом начале войны мобилизовали в солдатскую роту, обслуживающую Краснополянскую дорогу. На следующий день он, как раз попал домой на несколько минут и сообщил, что дезертиров расстреляли в тот же вечер.
Жуткие воспоминания! Как ни пыталась Марица отделаться от них, они упорно лезли в голову. Положила подушку на голову, представила, что вот она снова со своей бабушкой в Лесном, как ей хорошо с ней. Вдруг, видимо уже в полусонном состоянии, ей пригрезились малорослый Костас и длиннющий Савва, оба нашептывали ей, что-то в оба уха, а что – непонятно. Закукарекали первые петухи, когда, наконец, Марица заснула крепким сном. Утром, отец, чертыхаясь, еле разбудил ее: пора было ехать на вокзал. Загрузили арбу своими узлами, распрощались с женой соседа, хозяином арбы, родители перекрестились, а следом с ними дети и затем отправились медленным ходом к поезду.
* * *С ними, в одном вагоне, оказался молодой, очень симпатичный, а точнее, просто красавец – сероглазый грек Сидеропуло Харлампий. Все сразу стали его называть уменьшительно – Харик. Он ехал в Анапу к ожидающей его невесте, но так влюбился в веселую хохотушку Марфу, что начисто забыл о той, за кем ехал. В Москве на вокзале, когда ждали поезд «Москва – Адлер», Харлампий, конфузясь, и всячески перегибая в руках свою кепку попросил внимания и дрогнувшим голосом сказал:



