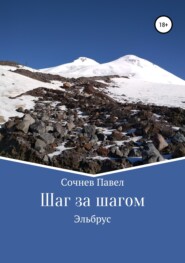 Полная версия
Полная версияШаг за шагом
Отбил своё местоположение на карте – 5542 метра. До вершины осталось сто вертикальных метров. Перекурил, приводя этим своим действием в почти священный восторг проходящих восходителей. Пока поднимался, переводил дыхание и сейчас на отдыхе приветствовал всех проходящих. На Эльбрусе это нормально. Ты приветствуешь, тебя приветствуют. Для экономии воздуха, в котором мало кислорода, приветствовал на английском. Поди разбери кто это, когда ничего не видно. Плотно упакован, лицо в балаклаве и очках. Судя по силуэту (голова, руки, ноги) – человек, вот и вся информация. Можно, конечно, попытаться разделить по гендерному признаку на основании цвета одежды, и по размеру, но можно ошибиться. Поэтому при встрече – взмах правой рукой и «Have a nice day!», а в ответ или та же фраза, или просто «Привет!». Может быть я даже где-то повстречался/разминулся с группой, которая жила вместе со мной в бочках. Может быть были даже те, которые с Аннапурны и Эдуард с Романом. Может быть, но это не очень или совсем не важно.
Перекурил, бычок спрятал в специально захваченную с собой пустую пачку, потому как мусорить мне не очень нравится, тем более на Эльбрусе. Спрятал в карман. Снова упаковался. Как хорошо просто сидеть и никуда не идти. Встал, дождался, когда мимо прошла очередная группа, а до следующей было большое расстояние, подошёл к перилам, пристегнулся и продолжил движение в высь.

Через несколько шагов догнал группу. Они отдыхали – просто стояли, пристёгнутые к перилам и переводили дыхание. А тот, кто шёл замыкающим, к группе не относился, потому что вся группа была на одной верёвке, а этот – не привязан. Он очень устал, потому что даже не стоял, а опустился на снег и начал засыпать. Т. е. постарался немного поспать.
Потеребил его за плечо, типа не спи замёрзнешь, а он мне в ответ «I am very tired. I want relax». Дождался, когда группа продолжит движение, снова потряс за плечо – Гоу, гоу. Встал, пошёл. Группы обычно двигаются большими перегонами. Отдыхают так же как я по времени, а идут дольше. Поэтому через несколько моих передышек, расстояние между мной и группой увеличилось. Ну и ладно. Пропуская встречную группу спросил: «Сколько ещё пролётов до вершины?», «Четыре с половиной», «Спасибо».
Где-то очень далеко внизу была седловина с людьми точками, а надо мной и чуть-чуть передо мной так же продолжал белеть бесконечный склон и ярко синее небо, на фоне которого ветер гонял белые, искрящиеся завитушки снежной пыли. Бесконечным он казался из-за того, что те, кто находился внизу, становились всё меньше, а те, кто скрывался за склоном наверху, крупнее не становились. Такая вот странная картина. От точки старта (седловина) удаляешься, а к финишу (вершина) не приближаешься. Из защиты лица на мне остались только очки, но двое – оптические и те, которые от ультрафиолета. Подарок сына. Очки, с максимальной защитой от ультрафиолета и их можно одевать поверх оптических очков. Маски у меня не было, балаклаву с лица стянул. Крем стёр, когда начал восхождение, остатки крема сдуло ветром, стёрло снежной пылью. Но я мужественно двигался, вдоль перил считая пролёты. Раз, два, три, четыре, пятый трос через 4–5 метров после стойки ушёл под снег. А где вершина?
Перила кончились, вершина не началась. Точнее она началась ещё с Поляны Азау или раньше, но всё не хотела заканчиваться, не смотря на моё желание и усилия. Я стоял в небольшой ложбинке. Сзади над снежным срезом, скрывающим седловину, высилась Восточная вершина. По ней карабкалась еле различимая цепочка людей точечек. Передо мной белел небольшой подъём за и над которым продолжало синеть небо. В самой ложбинке расположилось несколько редких кучек восходителей. Попробовал присесть в сторонке и я. Сидеть холодно. Перекурить? Пошарил по карманам – ничего не нашёл. Видимо где-то выронил и сигареты, и пачку с «бычком», и спички. Нет, я не расстроился, но и радости от этого не испытал. Поводов для отдыха не осталось. Перекатился на четвереньки, встал. Движения очень плавные и неторопливые. Даже какое-то удовольствие от этого получаешь. Но двигаешься так не ради эстетики, а потому что по-другому не получается.
Пошёл дальше, в направлении предполагаемой вершины, которая является самой высокой точкой Европы. Долго ли коротко шагал, дошагал до вершины среза. Вершина? Да! Но не здесь сразу, а немного вдали. Для меня, с того места где я её увидел – на горизонте. Между нами почти ровная снежная площадка. Стало морально легче. Не только знаю куда иду, но и вижу. Когда видишь куда, шагается гораздо легче, чем, когда знаешь, но не видишь. Шаг за шагом догнал того иностранца, который пытался поспать на подъёме. Обгоняя обернулся и глянул в лицо. Немного восхитился своим организмом. Мне просто тяжело, и я не могу идти быстро и долго, а у него в дополнение к неприятностям, схожим с моими ещё и, вероятно, «горняшка». А он всё равно идёт. Наша «гонка» была подобна погоне героев рассказа Джека Лондона «Тропой ложных солнц». Конечно менее трагичная, без голода, обморожений, желания жить и убивать, но скорость и стремление достичь цели – такие же. Особенно скорость. А ещё он двигался без остановок. Тяжело, очень медленно, но постоянно. Мне показалось, что он и на вершину то не смотрел. Только под ноги. Со стороны, наверно, мы вдвоём были похожи на зомби. Я, вероятно, меньше, потому что останавливался, а он – один в один.
Кислорода и энергии мне пока хватало на то, чтобы двигаться и даже думать. Времени было предостаточно на поразмышлять и на вернуться обратно в бочку. Поразмышляв про то, что успею вернуться, потому как было ещё одиннадцать, стал размышлять о беспощадности альпинистов. Некоторых погибших можно было спасти, но они всё равно погибли. Есть много растиражированных примеров с Эвереста. С других вершин тоже есть примеры, но их меньше или я просто меньше искал в этих направлениях.
Основные вершины, которые я теоретически изучал в рамках подготовки к восхождениям – это Эверест (вероятно не пойду, потому что долго, очень опасно и ещё более очень дорого), Эльбрус (иду, потому что не дорого, доступно и почти не опасно), Монблан (хочется, наверно поднимусь), Маттерхорн (красиво, но опасно всё время карабкаться по узкому каменному гребню, в постоянной опасности свалиться в Швейцарию (если налево) или в Италию (если направо)), Олимп (вообще не опасно. Там жили боги. Может быть, живут до сих пор) и Афон (просто подняться. Тоже не опасно).
Так вот, если альпинист идёт один или даже с группой, то каждый сам должен оценивать своё состояние. Каждый сам готовится к восхождению, каждый отвечает сам за себя. И если вдруг кто-то рискнул и решил, что поднимется выше, и постарается перебороть бессилие или боль, то это его решение. Истратив ресурсы он уже не может идти. Те, кто спускаются, тоже, зачастую, идут из последних сил, которых хорошо бы, чтобы хватило на самого себя. А те, кто ещё идёт на подъём, планировали подъём, но не спасение. И если они спасут другого, то в этот день уже не поднимутся. В случае с Эверестом, то в этом году. Поэтому на высоте более пяти километров, большинство людей суровы. Они не жестокие. Жестоким можно считать того, кто сам себя довёл до такого состояния. Критиковать эту суровость можно с равнины, а понять и принять, только в высокогорье. Здесь всё не так, всё по-другому, просто и сурово.
На Эвересте некоторые погибшие альпинисты служат путевыми метками. Например, «Мистер жёлтые ботинки» на Эвересте служит отметкой 8 500 метров. Спасать дорого, спускать трупы ещё дороже. И сами спасатели тоже рискуют. Поэтому очень большое количество погибших, остаются в горах. И это не жестокость, это обычно и нормально, начиная с определённой высоты
Дойдя, очень не за раз, до края площадки, оказался перед вершиной. Между нами (мной и вершиной) была узкая тропа по гребню. Метров двадцать, наверное. Справа и слева от тропы, уходящие вниз заснеженные склоны. Крутые, но не отвесные. Не пропасти, но я не знал, как далеко и чем они заканчиваются, поэтому отнёсся к ним с опаской.
На вершине уже было два восходителя. Хорошо, что не больше. Я читал, что бывает, толпа плюс очередь из желающих, которые не поместились. Опять посчитал это благим знаком. Когда волна благодарности к Вселенной за постоянную заботу обо мне схлынула, а те, кто был рядом с вершиной, ещё не пошли обратно, я ступил на узкую тропинку.
Узкая тропинка вела на небольшую, почти круглую площадку на которой в дальней части и немного справа возвышался (около метра над уровнем площадки) кусок скалы. Та самая вершина. Самая-самая. Выше уже ничего. Только облака и небо.
Когда я дошёл до середины узкой тропы, восходители развернулись и пошли с площадки мне навстречу. Интересно, они это сделали специально или у них не хватило кислорода на работу мозга? Разминулись точно на середине тропы. Не скажу, что с трудом, но я бы так делать не стал. Вероятно, нет однозначно – это мои проблемы, которые других не касаются. Я тоже стараюсь не запариваться по поводу несоответствия поведения окружающих моему понятию «правильно». Но изменять понятия не буду. Меня это устраивает. Со своей шкалой ценностей, нужностей и правильностей мне живётся не всегда легко и просто, но всегда спокойно. На душе спокойно, сплю без снов и кошмаров и совесть не мучает.
Когда то, объясняя нашим детям, что если кто-то выходит за рамки приличия и порядочности (некоторые в эти рамки не входят никогда), которыми руководствуются приличные люди, то делать подобным образом ни в коем случае нельзя. Поступая так же, можно нанести двойной урон человечеству. Почему двойной? Потому что на одного приличного человека станет меньше, а на одного неприличного (даже если чуть-чуть) станет больше. А соответствие рамкам морали и приличия оно бывает только полным. Или нормальный и приличный или не приличный. Так же как пьяный или беременная. Нельзя быть в таком состоянии в стадии чуть-чуть. Или – или. Но у каждого общества своя мораль и своя культура.
Мне на работу мозга кислорода ещё хватало, а на высказать встречным своё мнение по поводу их вопиющего поведения – нет. Поэтому мы молча разминулись. Они побрели в сторону спуска, я побрёл к вершине. Может быть мне не то чтобы не хватило кислорода на высказывание. Может быть это издержки воспитания, которые иногда сдерживают моё желание сказать то, что я думаю, тем, кто этого понять не сможет? А может быть и то и другое.
Чего только не передумаешь, в длительных пеших перемещениях! Особенно тогда, когда не надо следить за дорожным движением. Двигаешься очень небыстро, изредка отвлекаешься на любование/восхищение, думаешь по-всякому, про всякую всячину. Любоваться/восхищаться часто не нужно, потому что с такой скоростью, пейзажи практически не меняются.
Дошёл до площадки. Вот она – вершина. В двух метрах. Медленно присел, потом, не прекращая движения, прилёг на спину, точнее на рюкзак. Отдышался, вылез из лямок рюкзака. Перекатился, встал на четвереньки. Не вставая, пошарил в рюкзаке и достал камешек. Камешек с пляжа Этреты.
Этрета – тихий и спокойный городок в Верхней Нормандии, Франция. Полторы тысячи человек населения, слева от городка огромное поля для гольфа, справа – поля, часовня Нотер Дам де Ла Гарде и памятник «Белой птице». Это памятник отважным французским лётчикам Шарлю Нэнжессери и Франсуа Коли, которые в 1927 году на биплане «Белая птица» попытались совершить беспосадочный перелёт из Парижа в Нью Йорк. Здесь их самолёт видели последний раз.
Ещё популярности Этрете старательно добавили художники Коро, Боден, Делакруа, Моне, Мане (Моне и Мане – разные художники) и даже Всилий Поленов, которые с удовольствием для себя и к удовольствию ценителей живописи писали здесь пейзажи. Особенно часто писали белые этретские скалы. На восходе, на закате, в штиль, шторм, фоном для рабацкой лодки (В.Поленов). Они сами по себе привлекали внимание своей красотой. А тут ещё и художники.

Я про Этрету случайно узнал, увидев на картине Моне. Будучи во Франции, проложили маршрут своего путешествия через Этрету. Нисколько не пожалели. А камешек я подобрал на пляже. Пляж в Этрете – галечный. Серые камешки, примерно одной величины, некоторые с проточенными не сквозными дырочками. А внутри кристаллы алебастра. Мне показалось, что пляжа меньше не стало. И Эльбрусу от камешка хуже тоже не стало. Он стал на один камешек больше.
Положил к подножию вершинки вершины камешек. Постоял, поснимал видео, сделал селфи. Вспомнил, что покурить получится только в бочке. В бочке сигареты ещё были, а у меня – нет. Придумал красивую версию, про то, что Эльбрус, не дожидаясь в подарок камешка, сам себя одарил моими сигаретами. Люде же когда то, а некоторые до сих пор, делают жертвенные подарки. Жертвоприношения прекратили, а подарки продолжают делать. Их пожертвованиями сейчас именуют. А в жертву, может быть, тоже кого ни будь до сих пор приносят. Только когда-то этим хвалились, потом перестали афишировать, а сейчас тщательно скрывают. Зато пожертвованиями, которые без жертвоприношения иногда хвалятся. А те, которые по-настоящему помогают и от всей души, не кричат об этом. Просто помогают и всё. Нет, определённо, в моём организме кислорода значительно больше чем нужно для бездумных движений. Ещё и на поразмышлять остаётся.
А камешек я оставил, потому что хотелось, оставить на вершине что ни будь и не загадить её. Или, если загажу, то по минимуму. Камешек многие, а может быть даже никто, и не заметит. Только я и Эльбрус. А флаги, ленточки и прочие, неестественные для вершины вещи, захламляют не намоленное, но натоптанное место. Иногда добровольцы или МЧСники это убирают и уносят вниз. А люди продолжают тащить на вершину всякий хлам.
Эверест тоже иногда пытаются очистить. Не в отместку тем, кто это там оставил, а заботясь о тех, кто восходит. Идёшь такой, любуешься, предвкушаешь, достигаешь вершины, а там! Гора хлама, который был когда-то флажками, вымпелами, табличками и прочими прибамбасами. Обычно вот такой след мы оставляем. Не оставляя надежды другим, полюбоваться первозданностью. А ещё можно, подобно героям «12 стульев» Ильфа и Петрова написать «Киса и Ося здесь были». «Святые» источники тоже не исключение. Близрастущие деревья, все увязаны ленточками, верёвочками и полиэтиленовыми пакетами.
хочется просто навести порядок, а не бросаться на помощь тем, кто внёс свою посильную лепту в захламление. А если не обращать внимания и помочь, от доброй души и не держа зла на неразумных, то ведь ещё и вернётся, и добавит ещё фигни какой ни будь.

Попытки запечатлеть себя в истории наблюдал в Провансе. На перилах трёх уровневого римского акведука Пон дю Гар, который построили римляне в первом веке нашей эры, выточены надписи. То ли на французском, то ли на латыни. Вероятно, про то, что кто-то кого-то любит или в ознаменование посещения этого места. Многие надписи датированы. Хорошо, что цифры арабские, т. е. для меня понятные – 1790, 1803, 1812 годы. Ревизию количества надписей не проводил. Я же пришёл не надписи на заборах читать, а подивиться гению инженерной мысли наших общих (все люди братья) предков. Акведук собран без использования цемента и стоит без ремонтов уже вторую тысячу лет. Причём вот что интересно, я знаю для чего его сооружали, но не знаю, как. А про надписи – знаю, как их делали, но не знаю зачем.
Фигура зомби иностранца приблизилась к узкой тропе. Вдали, из-за среза подъёма появились головы следующей группы – пора валить. Быстро, насколько смог, собрался, перешёл по узкой тропинке, гуд лакнул иностранцу, получил еле различимое «санкс», отошел в сторонку от тропы. Полюбовался вершиной ещё раз. Я сделал это!
А на Восточной вершине, цепочка точек альпинистов уже почти дошла до вершины. Почти – это ещё очень не вершина. Я-то сейчас это знаю. На себе испытал. Если придётся ещё раз побывать на Эльбрусе, поднимусь на Восточную. Есть такое восхождение, которое называется «Крест Эльбруса» – это когда подойти с любой из сторон (с Севера или Юга), взойти на любую вершину, спуститься в седловину, взойти на другую вершину и с неё спуститься на другую сторону. И всё это за один раз. Это оценят. Но только те, кто был на Эльбрусе. Другим это понять сложно. Так вот, на Крест Эльбруса я, вероятно, не потяну. Хотя, почему бы и нет? Но только после Монблана, Олимпа и Афона. А Маттерхорн пока только в планах, в состоянии «если просто посмотреть». А Эверест даже посмотреть дорого. А если соберусь только посмотреть, вдруг позовёт? А я не смогу устоять. И придётся или идти, или так всю оставшуюся жизнь и мучится.
Дошёл до края спуска, глянул вниз. Ёмоё! Высоко то как! И круто. Пока поднимался, то оглядывался не часто. А сейчас крутой и косой склон постоянно перед глазами. Очень крутой и ещё сильнее косой. Дошёл до перил, пристегнулся, пошёл. Через несколько пролётов поравнялся с двумя альпинистами, которые спускались без страховки. Один шёл выше перил, а второй спускался, пытаясь за перила держаться. Оказалось – это Роман, который держался, и Эдуард, тот который выше. Где-то с ними уже разминулись и не заметили друг друга. Может быть даже не один раз. Я точно не заметил ни разу.
Спускался долго, но без приключений. Снимал на видео и фоткал на телефон снежные завитушки на фоне неба. Переводил дыхание гораздо реже. Почти физически ощущал, что с каждым шагом вниз кислорода в воздухе становится всё больше и больше. Это я сам себе такое напридумал. Хотелось вдохнуть полной грудью воздух, который процентов на 21 состоял бы из кислорода. Это так только в нормальных условиях бывает. Где ни будь очень близко к уровню моря. А там, где я находился – всего около девяти процентов.
Изголодавшийся по кислороду организм радовался каждой тысячной доле процента. Буквально, каждой дополнительной молекуле. Вот такая вот молекулярная химия и физика. Ближе к началу Косой полки кислорода стало аж 10,5 %! Когда восходил, как-то не задумывался над этим, а при спуске не только размышлял, но и чувствовал. А на высоте бочек должно быть около 16 %. Почти в два раза больше чем на вершине.
А ещё, если в нормальных условиях, человек вдыхает газовую смесь (в обычном разговоре – воздух), которая содержит около 20 % кислорода, а выдыхает смесь, в которой около 16 % кислорода. Получается, что разница всего около 4 %. Вот на эти 4 % мы и живём. А как же в горах? Если бы организм поглощал те же 4 % как на равнине, то и особой разницы мы бы не почувствовали. А если он (организм) пользуется той же пропорцией – забирать пятую часть, тогда получается, что кислорода в два раза меньше. Как же так получается, что кислорода меньше всего в два раза, а дышу я чаще раза в четыре? И легче мне от этого не становится. А если размышляешь, то идти полегче. Путь кажется не таким длинным.
Прошёл над трупосборником. И вообще ни чуточку не страшно. Только так же неудобно идти по косому склону. Левая нога постоянно полусогнута, правая постоянно распрямлена на максимум, но устают обе. Вообще я весь устал и продолжаю уставать дальше. А где-то внизу стоит бочка. А в бочке тепло, сухо, еда и сигареты. Только она ещё очень далеко, так же, как и её содержимое. Но с каждым шагом я всё ближе и ближе к ней подхожу. Это гораздо приятней, чем утром. Потому что утром я уходил от неё всё дальше и дальше.
Пока шел до начала Косой полки увидел вдалеке ратрак, который взял пассажиров и умчал их вниз. Ни махать, ни бежать не стал. Не было ни сил, ни желания. Но это только про махать, кричать и бежать. А про спустится не пешком желание было. Часам к четырём (к 16 по московскому времени) дошёл до спуска от Косой. Человек, который сидел невдалеке на снежном валике оказался Романом. Опять где-то разминулись. А вот та вот точка, которая поравнялась с ратраком – Эдуард.
Роман вызвал снегоход. И я согласился спуститься вместе с ним. Быстро и не сам. Так и сделали. Пришёл снегоход, мы загрузились и в клубах снежной пыли нас спустили вниз. Я сидел в багажнике, лицом к горе и спиной к движению, Роману и водителю, поэтому с удовольствием наблюдал удаляющиеся вершины, ратрак, скалы Пастухова, гряду, «Привет, Эдуард», Приют 11. Почти лег на спину Романа, когда снегоход почти вертикально рухнул вниз со спуска от Приюта. И вот – станция канатной дороги Гара Баши. Мы почти дома.
Дом, это не только где я прописан и живу большую часть времени, это, также, то место, где я могу подробно отдохнуть во время своих и наших путешествий. Дом может быть всего на один день, точнее ночь. Но я считаю и называю его домом. Совсем не в ущерб основному дому.
Эдуард и Роман быстро собрались и на последних кабинках спустились вниз. Я торопится не стал. Не стал портить впечатления о неторопливом течении жизни. Если без суеты, то всё без суеты. Не спеша переоделся, попил чаю, заварил бичпакеты и вышел. Смеркалось, начали появляться редкие и бледные звёзды. Внизу уже была ночь, а мы почти как небожители были одарены ещё одним шикарным закатом. На тёмном, но ещё синим, а не чёрным небом четко виднелись вершины Эльбруса.
Они начали синеть. Красиво. А на Косой полке – фонарики тех, кто возвращается. Или пошли на штурм позже, или весь путь преодолевали пешком, или, может быть ходили на Крест Эльбруса. И тишина. А я с чувством хорошо выполненного желания, очень неспешно нежился, не торопясь и в удовольствие пил чай, выходил любоваться погодой, Эльбрусом и звёздным небом.
Ближе к 12 по склону снова растянулась цепочка фонариков звёздочек. Новые восходители пошли к вершине. А я наслаждался вчерашними мечтами. Они уходят в темноту и холод, а я выхожу на чуть-чуть и снова в тепло. Могу выйти снова, если захочу, а могу проспать до утра. До утра выходил раза три. Не только покурить, но и почти позлорадствовать тому, что они только идут, а я уже был или позавидовать тому, что я уже был, а у них это ещё впереди.
К утру кожа лица задубела. Нет, не замёрзла, а стала жёсткой как дублёная кожа. Продубилась прямо на мне. Интересное ощущение – мышцы лица двигаются, а поверхность кожи – почти нет. Не больно, но необычно. На какое-то время помогало протирание влажными салфетками. Но очень на короткое, поэтому я забросил это бесполезное занятие, спасение лица и решил дождаться естественного финала. Чем закончится не знал, но дело было сделано, и я пустил дальнейшие естественные процессы на самотёк.

Встретил восход. Собрался, собрал ТБО (твёрдые бытовые отходы). Их каждый должен сам спускать к подножию и выкидывать в мусорные баки. На вершине мусорных баков нет. «Должен» тоже понятие не жёсткое. Если мусор оставить в бочке или просто выкинуть на улицу, за это не расстреляют. Некоторые так и поступают – оставляют и пофигу. Надо же, впервые такое отношение было сформулировано маркизой де Помпадур в 1757 году. Прозвучало оно по-французски »
Après nous le déluge
«, что в переводе на общепринятый и в настоящее время, по утверждению отечественных средств информации, почти международный русский язык означает «После нас хоть потоп». Иногда эту фразу приписывают Людовику
XV
Вероятно, он её тоже произносил, но Помпадур могла произнести её раньше. Вроде бы давно это сказали, на непонятном нам французском языке и никто нас не учит гадить, а вот нет – сидит в нас эта мысль. Глубоко и, почти неискоренимо – после нас хоть потоп. Можно ещё и вот так – после нас хоть трава не расти. Искренне возмущаемся, когда приходим, а вместо ожидаемой первозданности гадюшник, потоп или совсем не растёт трава. Я пытаюсь стараться, чтобы после меня и трава продолжала расти и потоп не случился.
Поэтому собрал все бытовые отходы, которые накопились в бочке. Прибрал, подмёл, помыл посуду, протёр стол. Чисто! Настолько прижился, что хоть оставайся. Но нужно идти. В мире ещё много мест в которых хочется побывать, про которые хочется узнать и тех, про которые я ещё совсем не знаю. Даже не то, что я не знаю про них ничего, а вообще не знаю, что они есть и где.

Эдуард и Рома предложили довезти меня до аэропорта. С плохо скрываемой радостью согласился. Кроме экономии радовала возможность пообщаться. Несмотря на то, что мне нравится быть одному, мне также нравится общаться. Пока эти два, почти несовместимых понятия, мне удаётся совмещать. Успеваю и побыть в одиночестве и пообщаться, без видимого ущерба для окружающих. Опять – без видимого мне ущерба. А как всё это выглядит с точки зрения окружающих, мне эгоистично, т. е. глубоко и абсолютно пофигу. Согласен, эта сторона не является моей лучшей стороной, но она у меня есть, и я её ни скрывать, ни выпячивать не собираюсь. Чуть-чуть слукавил – сейчас немного похвастался.



