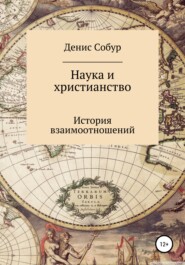 Полная версия
Полная версияНаука и христианство: история взаимоотношений
В эпоху Просвещения был популярен миф о рождении науки из противостояния с Церковью. Естественно, для доказательства этого мифа было необходимо найти своих мучеников. Поскольку действительных конфликтов между Церковью и учеными было крайне мало, то антицерковным историкам науки приходилось крайне тенденциозно преподносить единичные события, которые хоть как-то можно было истолковать в данном ключе. В результате из Джордано Бруно сделали мученика науки, казненного за свою приверженность к гелиоцентрической картине мира.
Ф. Йейтс опровергает такую трактовку событий, подчеркивая, что публикация материалов процесса над Джордано Бруно опровергла подобные взгляды.280 Из текстов допросов видно, насколько мало внимания уделялось собственно философским и научным взглядам Бруно. В центре допросов стояли религиозные взгляды Бруно, его отношение к католицизму, а также его многочисленные контакты с протестантами. Ф. Йейтс заключает: «он меньше кого бы то ни было годится в представители философии, порвавшей с божеством… Поэтому Церковь, включая философские пункты в осуждение ересей Бруно, действовала, нисколько не выходя за пределы своих полномочий. Философские пункты были неотделимы от его ересей».281 Конечно, это нисколько не оправдывает инквизиционной практики казни еретиков, но казнен Бруно был вовсе не за свои научные убеждения.
В работе Ф. Йейтс превосходно показано, что в центре религиозно-философских взглядов Бруно стояло учение Гермеса Трисмегиста. Свою роль Бруно видел в возрождении древней египетской религии, которая была уничтожена христианством. Он отбрасывает попытки Марселио Фичино примирить христианство и магию. Также Джордано отвергает христианское учение, особенно в том что касается Второго Лица Святой Троицы.
Бруно возвращает магию к ее языческим истокам. Оплакивая вместе с Гермесом языческую религию, погруженную ныне во мрак, Бруно все же надеется на ее возрождение. Наблюдая раздирающие Европу религиозные войны, он верит, что восстановление древнего «истинного» язычества поможет примирить все соперничающие стороны в рамках новой религии. Именно в этом, а вовсе не в научных исследованиях природы, была основная цель Бруно.
В герметических текстах, как и вообще в неоплатонизме эпохи Возрождения, огромная роль уделяется Солнцу, как образу Бога. В трактате Асклепий Солнце именуется вторым богом.282 Поэтому неудивительно, что когда Коперник поместил Солнце в центр мира, Бруно воспринял это с воодушевлением. В «Пире на пепле» читаем: «Ему (Копернику) мы обязаны освобождением от некоторых ложных предположений общей вульгарной философии, если не сказать, от слепоты. Однако он недалеко от нее ушел, так как, зная математику больше, чем природу, не мог настолько углубиться и проникнуть в последнюю, чтобы уничтожить корни затруднений и ложных принципов, чем совершенно разрешил бы все противодействующие трудности, избавил бы себя и других от многих бесполезных исследований и фиксировал бы внимание на делах постоянных и определенных».283 Для возникавшей науки математика была языком, на котором написана «книга природы». Бруно, напротив, отрицает ценность математического метода в познании природы. Уже одно это не позволяет видеть в Бруно предтечу современного естествознания. Главным для Бруно остается религиозная реформа: Коперник «был послан богами, как заря, которая должна предшествовать восходу солнца истинной древней философии».284
Сегодня можно уверенно сказать, что Бруно не понимал ни эпохального значения системы Коперника, ни собственно ее содержания. Скорее всего, он даже не читал его научных трудов. Создается впечатление, что Бруно очень слабо разбирался в астрономии, довольствуясь лишь самыми общими представлениями. Во время посещения им Оксфорда произошел любопытный эпизод: Бруно пытался доказать профессорам, что Коперник вовсе не утверждал вращения Луны вокруг Земли. Согласно Бруно, и Луна и Земля центром своего вращения имеют Солнце. Даже когда ему принесли книгу Коперника, он продолжал отрицать, что в центре движения Луны находится Земля, считая точку на рисунке не Землей, а лишь следом от циркуля, которым чертился общий эпицикл Земли и Луны. Если бы Бруно знал хотя бы основы астрономии, он бы, конечно, не допустил подобной ошибки. Но восприятие Коперника было у Бруно вовсе не научным. В герметической религиозной системе, Солнце играло роль центра мира и, конечно, все должно было вращаться вокруг него.
Личность Джордано Бруно, как и вся эпоха Возрождения, крайне сложна для изучения. Дж. Реале так характеризует мятежного доминиканца: «Делать из него предтечу современного ученого эпохи научной революции смешно, ведь его интересы были иной природы (магико-религиозной и метафизической), отличной от той, на которой базировались идеи Коперника».285
Учение Джордано Бруно венчает собой эпоху Ренессанса, закат которого становится очевиден. Расцвет античности подходил к концу. В критике Возрождения новая наука и Церковь были едины. Преклонение перед античностью, расцвет магии – все это было одинаково неприемлемо и для верующих и для ученых. Движения Реформации и Контрреформации будут резко отрицать языческие элементы античных философов и безнравственность эпохи Возрождения, равно как и использование магии. Ученые будут создавать новый тип знания, который доступен всем желающим, а не горстке посвященных. Критерием истинности, для них, станет не древность автора, а соответствие его учения чувственному опыту. Впрочем, именно эпоха Возрождения во многом сформировала тот тип личности исследователя, которого будут придерживаться в Новое время.
Реформация и Контрреформация
Нравственный упадок эпохи Возрождения коснулся всех слоев европейского общества. Не миновал он и католическую Церковь. Множество злоупотреблений, формализм, алчность и безнравственность духовенства не могли не возмущать простых верующих. Авторитет Церкви стремительно падал. Усилий монашеских орденов не хватало для нравственного перерождения Церкви. Интеллектуальная элита потеряла интерес к Церкви, стремясь найти свой путь в трудах древних философов. В то же время, назревала необходимость реформы Церкви, очищения ее от злоупотреблений. Попытка обновления Церкви привела к разделению Европы на два враждующих лагеря. Протестанты, вслед за Мартином Лютером (1483-1546) стремились реформировать Церковь, пытаясь вернуться к образу жизни христиан первых веков и отвергая все позднейшие «наслоения». Христиане, сохранившие верность католической Церкви, напротив, стремились сохранить церковную традицию очистив ее от злоупотреблений. Этот процесс получил название Контрреформации.286 Наиболее известными деятелями Реформации были Мартин Лютер (1483—1546), Ульрих Цвингли (1484—1531) и Жан Кальвин (1509 – 1564). Пути Контрреформации определил Тридентский собор (1545-1563), также огромную роль в ней сыграл Игнатий Лойола и созданный им орден иезуитов. На Тридентском соборе было четко сформулировано отношение католической Церкви к протестантизму и принят ряд мер по борьбе со злоупотреблениями в среде священнослужителей.
Для Реформации характерно общее для эпохи Возрождения представление об античности, как о «золотом веке». В то время как философы возвращались к авторитету древних, религиозные реформаты стремились вернуться к самым основам христианства, к его чистым, незамутненным истокам. Однако, знаний об этой эпохе было крайне мало. Надежда Лютера найти источник знания в Библии не оправдалась. Множество противоречивых толкований Библии, распространившиеся среди реформаторов, привели Лютера к осознанию своей ошибки. В письме к Цвингли он писал: «Если мир еще долго будет существовать, то я возвещаю, что при различных толкованиях Писания, которые находятся у нас, не остается другого средства поддержать единство веры, как принять решения Соборов и прибегнуть под защиту церковной власти».287 Протестанты, также как и европейские гуманисты недолюбливали схоластику и официальное богословие. Душа, ищущая Бога, не могла удовлетворится сухими формулировками богословов.288
В то же время, Реформация не является продолжением Ренессанса. Напротив, религиозные реформаторы резко отрицают ренессансный гуманизм с его разгулом язычества и безнравственности. Если гуманисты ставили человека в центр мира, то реформаторы, напротив, относятся к нему крайне пессимистично. Конечно, реформаторы признавали личный духовный опыт в качестве надежного источника. Но одновременно они понимали, что это «опыт существа, способности которого (разум, интуиция, воображение, воля) принципиально ограниченны и несравнимы со способностями Бога».289 Реформаторы резко выступали против попыток человеческого разума познать Бога и обосновать собой веру. Разум не может помочь вере и уж тем более обосновать ее. В этом пункте учения значительное влияние на Лютера оказали взгляды Уильяма Оккама.290 Также реформаторы резко возражают против магии и каббалы в любых ее проявлениях.
Освободив разум от участия в познании Бога, Лютер, следуя Оккаму, указывает ему новую цель. «Разум, – говорит он, – дарован нам не для постижения того, что над нами (природы Бога, ангелов и святых обитателей неба), а для постижения того, что ниже нас (животных, растений, состава веществ)».291 Таким образом, возникшая в схоластических кругах концепция Оккама получила поддержку со стороны Реформации. Духовная близость реформаторов и оккамистов приведет к активному развитию экспериментальной науки в протестантских кругах.
Литература
Лега В.П. История западной философии. Т. 1. Любое издание.
Реале Дж. и Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 2. Средневековье. Любое издание.
Реале Дж. и Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 3. Новое время. Любое издание.
Йейтс Ф. Джордано Бруно и герметическая традиция М.: 2000.
Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. Любое издание.
Соловьев Э.Ю. Парадоксы Реформации: От независимой веры к независимой мысли // История философии: Запад – Россия – Восток. Кн. 2. М., 1996.
Глава 7 Отношение к светским наукам в Византии
292
Византия и античная философия
История взаимоотношений науки и христианства будет неполной без освещения роли науки в Византийской империи. С самого основания Константинополя в нем существовал светский университет, который сохранял и передавал последующим поколениям античное наследство. Впрочем, византийцы явились лишь хранителями традиции, в области философии и естественных наук их достижения были достаточно скромными. Византийцы, а позднее и русские предпочитали создавать великолепные памятники искусства и архитектуры, а не философские трактаты.
Закрытие в 529 году последней языческой школы в Афинах и исключение язычников из числа преподавателей Константинопольского университета отчетливо показывает ту служебную роль, которая отводилась светским наукам в Византии. Они преподавались, поскольку являлись удобным инструментом, но область богословия для философов была закрыта. Как поясняет прот. Иоанн Мейендорф: «официальная позиция Церкви и государства теперь рассматривала философию в лучшем случае как средство выражения Откровения, но никогда не признавала за философией права определять само содержание богословских идей».293 О. Иоанн пишет далее, что логика Аристотеля входила в число необходимых для изучения предметов, но вот к метафизике Платона византийцы относились с большим недоверием.
Выражения Откровения на языке греческой философии, осуществленного Отцами Каппадокийцами оказалось для византийцев вполне достаточно. С завершением эпохи Вселенских соборов в 843 году необходимости более подробно изучать этот вопрос не возникало. Более того, в византийских богословских кругах возобладали тенденции, которые о. Иоанн Мейендорф называет «охранительскими».294 Для большинства византийцев начала второго тысячелетия по Р.Х. главным было формально соблюдать букву творений святых отцов. Когда святитель Григорий Палама попытается более четко сформулировать учение о Богопознании, представители «официального богословия» отнесутся к нему с большим подозрением.
Иоанн Филопон: ученый и богослов
Личность Иоанна Филопона (490-570) является характерным примером жизненного пути византийского ученого. Он окончил неоплатоническую школу в Александрии, где был единственным христианином. Отрицание учения неоплатоников о вечности мира привело его к разногласиям с коллегами. Видимо, это стало единственной причиной, по которой ему не дали стать главой школы после смерти предыдущего схоларха.295 В.М. Лурье характеризует Иоанна Филопона как одного из самых ярких мыслителей Средневековья, чье влияние было огромным и в Византии, и в мусульманском мире и среди западных схоластов. Его толкования Аристотеля во многом повлияли на развитие мусульманской философии.296 Иоанну Филопону принадлежит также ряд оригинальных идей в области философии, естественных наук и лингвистики. Также в его трактатах содержится древнейшее описание астролябии. Вопреки Аристотелю, Филопон объяснял движение тел, наличием у предмета «бестелесной движущейся энергии», которая постепенно расходуется на преодоление сопротивления среды. Латинские схоласты XIV века Жан Буридан и Николай Орезм назвали этот запас энергии «импетус». Вполне вероятно, что работы Иоанна Филопона оказали влияние на формирование взглядов Галилея.297
Иоанн Филопон возражает против ряда тезисов философии Аристотеля, например, учения о вечности мира или тезиса, что «природа не терпит пустоты». Сторонники Аристотеля приводили пример неизменности небесных сфер, как доказательство вечности мира. Филопон критикует это учение, утверждая, что небеса состоят из огня, а вовсе не из особого элемента – эфира. Из этого он делает вывод, что небеса могут изменяться.298 Возражает Филопон и против отрицания Аристотелем вакуума. Согласно Аристотелю, тела, падающие в пустоте, приобрели бы бесконечную скорость из-за отсутствия сопротивления. А раз этого мы не наблюдаем, то, заключает Стагирит, и пустоты нет. Византийский ученый возражает, утверждая, что уменьшение скорости движения в среде отнюдь не означает бесконечной скорости до этого: «Если камнем было бы то, что движется, и этот камень двигался бы в пустоте, проходя расстояние в 1 стадий, то, конечно, камень проделает этот путь за какое-то время, например, за 1 час. Если же мы представим себе это пространство в 1 стадий заполненным водой, ясно, что за 1 час уже не закончится движение, но потребуется добавочное время по причине препятствующего»299
Жизненный путь Филопона отчетливо показывает нам византийское отношение к науке и к вере. Хотя он с интересом занимался философией, но в 530 году он оставляет эти занятия, ради более решения более насущных богословских вопросов. Главной целью богословских трудов Филопона было объединение православных и монофизитов. К сожалению, предложенный им выход оказался тупиковым, а его взгляды одинаково неприемлемыми и для тех и для других. Поэтому Иоанн Филопон и его богословские взгляды, получившие название тритеизма, были преданы анафеме на VI Вселенском соборе. Несмотря на это, его комментарии к Аристотелю получили широкое распространение как в Византии, так и в мусульманском мире.
Византийское монашеское богословие
После падения Рима и распада Империи Константинополь становится величайшим интеллектуальным центром христианского мира. Такая ситуация будет сохраняться до XIII века, когда монополия будет нарушена латинскими схоластами. Но и после этого, вплоть до своего падения в 1453 году Константинополь останется крупнейшим центром восточного христианства.
Споры о соотношении веры и разума, актуальные в западной Церкви, на Востоке не имели особого распространения. Ситуация несколько изменилась в IX веке, когда в Константинопольском университете началось активное изучение античного наследия. Труды патриарха Фотия, Михаила Пселла и их последователей способствовали изучению и переписыванию древних рукописей, однако интерес к ним оставался чисто академическим. Академический гуманизм мирно сосуществовал с университетским богословием.
После окончания в IX веке эпохи Вселенских соборов, университетское богословие постепенно утрачивало живое переживание христианской веры. Решение богословских вопросов сводилось лишь к подбору святоотеческих цитат касающихся данного вопроса. Такое формальное, академеческое отношение к богословию, как к рациональной науке, в целом чуждо духу святых отцов. Для них богословие значит нечто большее, чем мы сегодня вкладываем в этот термин.300 О. Олег Давыденков поясняет: «Прежде всего богословие понималось как видение Бога Троицы, что предполагает не только работу человеческого ума, но и всецелое участие человеческой личности».301 Истинное богословие включает в себя и разум, и волю, и чувства человека. Богословие есть связь всего человека с живым Богом, а не просто рассудочные схемы, описывающие некий бесчувственный Абсолют. Знание таких схем бессмысленно, если сам человек не стремится к Богу. Как писал в IV веке Евагрий Понтийский «Если ты богослов, то будешь молиться истинно, а если истинно молишься – то ты богослов».302
Постепенно такое святоотеческое понимание богословия будет забываться. В начале X века св. Симеон Новый Богослов (949-1022) будет настаивать на том, что христианская вера есть познание на опыте Живого Христа. Но его личностное переживание веры будет встречать отпор со стороны иноков и мирян, ограничивающих свою веру выполнением внешних «обязательств».303
Гуманизм в Византии
В то время как культура западной Европы находилась в глубоком упадке, Византия сохраняла и читала труды античных философов. Как правило, интерес к философии ограничивался лишь узким кругом интеллектуалов. Большинство же образованных людей ограничивалось лишь знакомством с трудами Аристотеля, особенно с его логикой.
В целом, византийцы не видели особого смысла в изучении философии. Поэтому, несмотря на античное наследство, ничего принципиально нового им создать не удалось. О. Иоанн Мейендорф дает такую оценку: «Византийскому гуманизму всегда недоставало последовательности и динамизма, присущих и западной схоластике, и западному Ренессансу, и он так и не смог справиться с широко распространенным среди византийцев убеждением, что Афины никак нельзя совместить с Иерусалимом».304
Особенно сильно было неприятие античной философии в монашеской среде. Именно монахи в эту эпоху стали совестью Византии, не допускавшей никаких компромиссов: ни в области вероучения, ни в области нравственности. В целом ригористическая позиция большинства греческих монахов восходила к Тертуллиану. Светскую мудрость они считали излишней для христиан. И если преп. Феодор Студит (729-826) еще не выражает в своих трудах оппозиции светскому знанию,305 то уже среди его непосредственных учеников такая позиция становится общепринятой.
Блестящим представителем византийского гуманизма является патриарх Константинопольский Фотий (820-891). В своих трудах он показывает энциклопедическую осведомленность, как в богословии, так и в светских науках. Преимущественно свт. Фотия интересует логика и любимым его автором является Аристотель. Отношение свт. Фотия к Платону более сдержанно, и он, безусловно, принимает осуждение платонических взглядов Оригена V Вселенским собором. Также святитель критикует Климента Александрийского, в трудах которого он обнаружил «нечестивые мифы платонизма».
Величайшим трудом свт. Фотия является его «Библиотека» в которой он дает обзор содержания 280 книг античных и раннехристианских авторов. Впечатляет то, что «Библиотека» написана им по памяти во время пребывания послом в Персии.306 Особая ценность «Библиотеки» для современных ученых заключается в том, что тексты около семидесяти из этих книг утрачены и лишь благодаря свт. Фотию мы можем узнать об их содержании. Интерес свт. Фотия к античной литературе, хотя и чисто академический, был поддержан его учениками. В то же время, его интерес к светской культуре стал объектом нападок со стороны представителей монашества, видевших в этом измену Православию.
В результате трудов патриарха Фотия византийские интеллектуалы получили более свободный и полный доступ к произведениям греческих философов. Одним из выдающихся гуманистов Византии стал Михаил Пселл (1018-1078). Его отношение к античной культуре крайне уважительно: «Хочу, чтоб вы знали, что эллинская мудрость, пусть и не удалось ей воздать славу Божественному и она не безупречна в богословии, ведает природу, какой ее создал Творец».307 Хотя Пселл и признает при случае несовместимость эллинизма и христианства, все же, вряд ли это было его внутренним убеждением.308 Его попытки согласовать христианство с платонизмом не увенчались особым успехом. Взгляды ученого напоминают лоскутное одеяло, составленное из отдельных положений различных философских систем. Как пишет прот. Иоанн Мейендорф: «Даже если Пселл и знал Платона и Аристотеля лучше, чем его знали западные мыслители, он остался средневековым византийцем, то есть человеком, преданным традиции и верным, по крайней мере формально, суровым нормам официального богословия».309 «Ни блистательность изложения, ни изощренность стиля не в силах были преобразовать этот эклектизм в оригинальную и творческую систему философии», – заключает он.310
Было бы неверно думать, что творческая мысль в Византии угасла. Византийская культура развивалась, но развитие это происходило в кругах, которые Пселл счел бы наводненными нездоровым и иррациональным мистицизмом. Подлинный расцвет византийской мысли произошел не в кругу университетских философов и богословов, но в среде монахов-исихастов311, сохранявших в своей среде истинное богословие.
Суды над Иоанном Италом
В конце XI века312 произошли события, определившие официальное отношение Византийской культуры к светскому знанию. Глава Константинопольского университета, Иоанн Итал предстал перед судом по формальному обвинению в ереси. Он был осужден за то, что «чрезмерно пользовался древней философией вообще и, в частности, придерживался воззрений Платона на происхождение и природу этого мира».313 Впервые после 843 г. в «Синодик» были добавлены два вероучительных абзаца, которые ежегодно должны были читать в храмах в Неделю Православия.314 Осудив Иоанна Итала, Константинопольская Церковь выразила свое официальное отношение к философии. Ее позиция заключалась в следующем:
1) Древнегреческие философы были первыми еретиками; иными словами, все главные христианские ереси произошли из античного влияния и, следовательно, семь соборов, осуждая еретиков, тем самым осудили и философов. Все же, было признано различие между теми, кто приемлет «неразумные мнения» философов, и теми, кто углубляется в «эллинские исследования» только для поучения. Второй подход не считался заведомо ложным. В целом, после собора в Византии продолжило сохраняться положительное отношение к логике и физике Аристотеля, но метафизика Платона большинством решительно отвергалась.315
2) Анафематизмы осуждали ряд положений платонизма, приписанных Италу и почти совпадающих с оригенистскими тезисами, которые были отвергнуты V Вселенским собором. Среди них: предсуществование и переселение душ, отрицание телесного воскресения, вечность материи, и т.д.
Конечно, и после осуждения труды Платона изучались и переписывались. Но попытка следовать ему теперь официально считалась преступлением против веры. Это создало существенное препятствие в развитии и без того слабого византийского гуманизма. Как пишет о. Иоанн Мейендорф: «Греческая по своему языку и культуре Византия, таким образом, заняла наиболее отрицательную позицию по отношению к греческой философии, чем это когда-либо делал Запад».316 Здесь можно увидеть еще одну из ступеней расхождения западноевропейской и восточноевропейской культур. Если греки назвали философию источником всех ересей, то латиняне, напротив, стали искать в ней путь к познанию Бога, вступая в эпоху схоластики.
Показательно сравнение суда над Иоанном Италом в Константинополе с осуждением аристотелевских тезисов парижским епископом Тампье. И в том и в другом случае был осужден ряд тезисов античных философов, несовместимых с христианством. Но различным было отношение к методам античной философии. На Западе критиковали ошибочные философские выводы, но не саму философию. Восток же полностью отказал философии в праве рассуждать о божественном.
Исихазм и духовное возрождение Востока
Осуждение Иоанна Итала стало важной вехой на пути развития византийской культуры. В то же время, античное наследие не было полностью отвергнуто. Аристотель продолжал изучаться большинством образованных людей. Среди небольшой прослойки гуманистов также был велик интерес к Платону. Однако, такого развития как на Западе, гуманизм, так или иначе склоняющийся к язычеству, в Византии не получил. Упадок католической Церкви в конце Средневековья привел Европу к секуляризации и духовному поиску вне Церкви. На Востоке, напротив, духовное обновление Церкви позволило не только избежать секуляризации культуры, но и сохранить верность Православию под тяготами турецкого ига.



