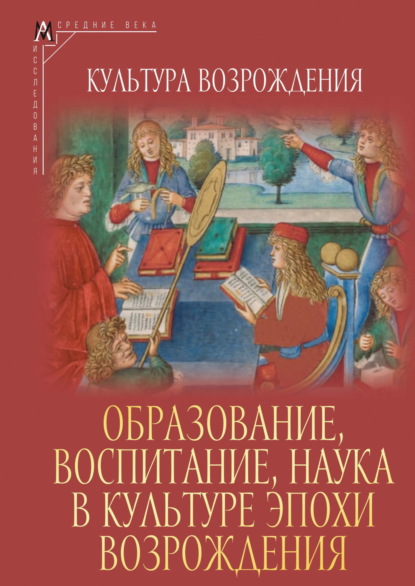
Полная версия:
Образование, воспитание, наука в культуре эпохи Возрождения
Но в семейном воспитании с XIV в. обычаям рода уже противостояла тенденция к формированию у представителей молодого поколения общекоммунальных ценностей: самоидентификации со своим городом, заботы об общем благе, социальной и политической толерантности, что очень заметно в таких источниках, как семейные книги[44]. Эти записи всегда были предназначены определенным адресатам – сыновьям, внукам и более отдаленным потомкам[45]. Это подтверждает традиция чтения семейных книг детям и внукам вслух в некоторых семьях, а те, кто вел книгу, оставляли после своих записей пустые карты для того, чтобы последующие аннотации вносили их потомки[46]. На рубеже XIII–XIV вв. к хозяйственным регистрациям стали добавляться данные об истории рода и семьи с перечислением предков, о которых автор мог собрать сведения. Это положило начало формированию так называемого социально-политического совокупного тела семьи из записей, фиксирующих динамику социально-экономического положения, партийный статус и степень участия членов фамилии в управлении государством. Наряду с фиксацией реальных сведений семейно-родовая память реализовалась с помощью конструирования истории дома[47], часто используя семейные мифы и предания, особенно в той части, которая касалась славного прошлого рода[48].
В информативном ядре, составляющем основное содержание этих источников, наряду с генеалогией, сведениями, относящимися к совокупному физическому телу семьи (беременности, рождения, браки, болезни и смерти), а также к экономическому состоянию фамилии, все большее значение приобретало социально-политическое поле, в рамках которого значительное место отводилось воспитанию коммунального патриотизма и гражданственности[49]. Вплоть до второй трети XV в. в семейных книгах преобладали наставления в том, как стать уважаемым и достойным гражданином коммуны, что определялось, по вполне конкретному признаку – степени участия в коммунальном управлении. При изучении «семейных книг полного титра»[50] складывается впечатление, что проявления личностного начала и саморепрезентации больше связаны с политическими делами и пребыванием на коммунальных постах, нежели с реализацией в профессионально-экономической сфере. Общественная деятельность давала возможность самовыражения и в публичных жестах, и в речах, требовала в ряде случаев отстаивать определенную политическую позицию и открыто демонстрировать гражданскую доблесть. Это понимали теологи и проповедники, тесно связанные с городской средой. Доминиканец Джованни Доминичи, составляя в начале XV в. для вдовы Бартоломеи дельи Альберти свою инструкцию по управлению семьей и воспитанию детей, уделял особое внимание их службе на гражданском поприще: «Видя в детях склонности к государственной деятельности, следи, чтобы они усердно изучали грамматику, историю, право, дабы они не выросли невежественными и обладали бы хорошей памятью… не давай им спать много; следи, чтобы они постоянно упражнялись в добродетели (virtu), поручай обязательно выполнять какие-либо обязанности, поскорее выводя их из сонного детства»[51].
Что могли узнать представители молодого поколения из семейных книг? В них приводились перечни всех коммунальных должностей, особенно старших постов в синьории, занимаемых предками и современниками автора. Такие сведения, обозначающие высокий статус фамилии в коммунальном обществе, как правило, сопровождались комментариями, выражающими гордость, удовлетворение и позитивные эмоции. Судья Донато Веллути указывал потомкам на законные преимущества, которые приносила государственная служба, помимо платы за исполнение должностей и дипломатических миссий: в 1346 г. он «получил большое удовольствие» участвуя в переговорах с Пизой, потому что имелось прекрасное содержание от коммуны. Послам оказали почтение и гостеприимство гвельфские фамилии Пизы, «в доме которых мы проживали на всем готовом, имея все, что бы ни пожелали»[52]. Несмотря на все сложности и опасности, какие дипломатическая служба доставляла Бонаккорсо Питти, она наполняла его гордостью и тщеславием, позволяя на равных разговаривать с германским императором и коронованными особами французского королевского двора, обманывать их в интригах, демонстрировать им собственное превосходство, быть причастным к самым важным событиям европейского масштаба[53]. Горо Дати отметил в своей «Секретной книге» избрание его гонфалоньером компании как большую честь для себя; с особой гордостью он фиксировал получение поста гонфалоньера справедливости в 1428 г. По поводу избрания его на должность приора он заявлял: «Теперь я мог гарантировать других, и мне кажется, что я заслужил большую благодарность и был удовлетворен каждым соглашением и договором»[54].
Признавая как свою слабость «ненасытный аппетит к исполнению должностей», Дати предостерегал сыновей от чрезмерного стремления к коммунальным постам в целях личной выгоды, коррупции, сведения счетов с недругами и прочих злоупотреблений. Стараясь избежать «великих соблазнов», он заключил с Богом своеобразный «контракт на всю дальнейшую жизнь»: «Если Господь предоставит мне должность в коммуне… то я не стану избегать никакого трудного дела, буду исполнять должность так хорошо, как смогу, не впадая в пороки гордыни и самонадеянности, и никому не буду служить по просьбе». Но, видимо, искушение было таково, что купец назначил сам себе очень высокие суммы штрафов: «Если я пойду против этого, то каждый раз я должен осудить самого себя на два золотых флорина и подать их в этом месяце в качестве милостыни»[55]. О силе желания победы над соблазнами от пребывания на постах красноречиво свидетельствует сумма штрафа: установленная Дати милостыня за любые нарушения религиозных предписаний не превышала 20 сольди.
В стереотипных дидактических комментариях деловые люди наставляли потомков честно и ответственно исполнять общественный долг, избегая грехов коррупции, алчности, ярости, гнева и лжи. Паоло да Чертальдо тоже предупреждал своих сыновей, которые окажутся на коммунальной службе, против греха высокомерия и несправедливости: «Если доведется тебе участвовать в гражданских делах… то не позволяй враждебности овладевать тобой, если судишь того, кто нанес тебе обиду. Лучше отомстить ему другим способом, но не в суде… ведь разнесется молва, что вор осужден не за совершенную им кражу, а из-за твоей мести». В пример он приводил назидательную историю о царе Камбизе, приказавшем содрать заживо кожу с неправедного судьи и прикрепить ее к спине его сына, который должен был занять место отца[56]. Он призывал также к традиционной христианской добродетели судьи и правителя – милосердию: «Где можно добиться результата словами, не прибегай к пыткам, а если в них нужда, то применяй их с промежутками и без жестокости; … будь очень осторожен, чтобы о тебе не говорили, что ты любишь насилие»[57]. Аналогичные советы давал и Джованни Морелли, предупреждая о том, что любое злоупотребление, допускаемое при исполнении должности, «много раз обернется против тебя же»[58].
Детей наставляли, что служба коммуне предоставляла шансы для получения кредитов, вспомоществований и компенсаций из казны[59], возможности оказывать покровительство, способствуя удовлетворению прошений или петиций родственников и лиц, от связей с которыми зависело повышение престижа в обществе. Она открывала путь к достижению социального реванша и повышению статуса; давала доступ к прибыльным статьям государственных доходов – откупу налогов и пошлин, выгодным контрактам на поставки войскам и продажу зерна коммуне. Активные функционеры получали пожизненное звание мудрого, то есть постоянного эксперта-советника синьории, получающего жалованье не только из казны, но и от глав торгово-банковских компаний, тоже прибегавших к их компетенции. Донато писал с гордостью: «Правда, мне были предоставлены почести от коммуны очень выгодные, так как стал я по этой причине и благодаря моей ловкости «Мудрым», состоя почти непрерывно в синдиках»[60].
В XIV в. из-за усиливающихся тенденций разделения общества на фракции особую актуальность приобрели заповеди коммунального единства, вступавшие в противоречие с традициями консортерии и обычаями семейного права. Выше речь шла о том, что в XIII в. вендетта считалась скорее добродетелью, нежели пороком. Но ощущение того, что файда разорительна и несовместима с гражданским миром, идет вразрез с сентенцией об удовольствии, получаемом от мести, заметно уже в наставлениях Паоло да Чертальдо, предостерегавшего потомков: «Никогда не вступай в вендетты, ибо они опустошают душу, тело и имущество; если тебя оскорбят, то постарайся победить гордость и обратись к разуму»[61]. Кроме того, он видел трагические последствия невозможности выйти из бесконечно возобновляющихся циклов файды: «Вендеттой ты достигнешь того, что впадешь в грех перед Господом, мудрые люди будут порицать тебя, ты вызовешь еще большую ненависть от врага своего, потому что почти невозможно осуществить вендетту полностью, но лишь в большей или меньшей степени: если отомстишь больше положенного, обидишь врага своего и усугубишь его вражду, а люди скажут о том¸ что плохо поступать столь жестоко; если отплатишь меньше нанесенной тебе обиды, люди скажут: “Было бы лучше, если бы он даже и не пробовал, чем так опозориться”. Так что ты всегда старайся прощать, если хочешь выходить победителем»[62]. В этих случаях Паоло да Чертальдо исходил не только из позиций здравомыслящего горожанина, но следовал убеждениям популярных во Флоренции проповедников, подобным сентенциям Джованни Доминичи: «Научи детей… не наносить обид другим, а нечаянно причинив их, немедленно просить прощения. Если же их обидят… пусть не стремятся мстить другим. Более всего пусть остерегаются вендетт… чтобы не стать рабами оружия, страха, времени и места»[63]. Донато Веллути повествовал о трех случаях вендетты в его семье. Самой длительной – с 1267 по 1295 г. – была кровная вражда со знатной семьей грандов Маннелли, которая завершилась серией убийств и последующим примирением в 1295 г. по настоянию коммунальных структур. От двух последующих вендетт та ветвь семьи, к которой принадлежал Донато Веллути, отказалась[64]. Донато одобрял своего отца за отказ от вендетты с семьей Бериньялли: «Хватит нам Господнего отмщения и Божьей кары, нельзя допускать вендетту, из-за которой прежде добрая и большая семья может оказаться лишенной имущества и персон»[65]. Джино ди Нери Каппони в своих предсмертных записках учил сыновей: «Никогда не затевайте никакой вендетты или большой вражды ни с гражданином, ни с соседним синьором, если это не необходимо для его обуздания»[66]. Учитывая, что все социальные и межпартийные противоречия во Флоренции тесно переплетались с враждой кланов, воспитание миролюбия и терпимости, связанных с отказом от вендетт и изживания файд, способствовало сплоченности городского населения.
Воспитание коммунальной идентичности не исчерпывалось только участием в управлении. Большое значение имел такой атрибут, как внушение потомкам их принадлежности к старинной городской фамилии. С этой целью начиная с XIV в. стремились отнести все далее вглубь времен дату, знаменующую начало истории рода внутри городских стен, поскольку в иерархии социального престижа «новые граждане» неизменно стояли ниже представителей старых городских родов. Новые фамилии со временем старались сконструировать собственные родословные, следуя стереотипной схеме мифологизации истоков рода и сроков его переселения в город. Процесс творения гражданской и коммунальной идентичности характеризовался также тенденцией к укоренению индивида, его семьи и рода в определенной части города, которая присваивалась и объявлялась «нашей» посредством строительства или скупки домов, сооружения церквей и капелл с семейными усыпальницами и гербами, фамильными наименованиями улиц, дорог, ворот, перекрестков.
Но вплоть до середины XV в., когда появились настроения политического абсентеизма, ухода от сферы государственной службы в область гармоничных семейных отношений или интеллектуальных занятий, главным показателем общественного статуса, как явствует из тех же семейных книг, являлась публичная жизнь, сводимая к участию в делах коммуны, к исполнению обязанностей на государственных постах. Постулируемый богатым купцом и банкиром Джованни Ручеллаи принцип отказа от коммунальной деятельности, имел весьма существенную оговорку: «Не советую вам, Пандольфо и Бернардо, искать и желать государственных должностей. Никакое другое дело не ценится ниже и не дает меньшей чести, чем служба коммуне. Я не говорю, что буду недоволен, если ваши имена попадут в сумки и вы будете отмечены, как другие достойные горожане. Но это нужно лишь для того, чтобы правительство не относилось к вам с презрением и чтобы вас ценили и уважали сограждане. Любой другой путь, любой другой вид деятельности – лучше, чем служба государству»[67]. Даже при полном отрицании участия в управлении Ручеллаи настаивает на необходимости признания уважения в обществе, главным доказательством которого остается в его глазах наличие имени в избирательных списках.
Оценки ситуаций, передаваемых семейными книгами, в отличие от биографий и апологетических хроник, были далеки от идеализации: граждане рассказывали о реальных трудностях, с которыми им приходилось сталкиваться на коммунальной службе, сетовали на скудное жалованье или вознаграждение за исполнение дипломатических поручений, выражали недовольство своим социальным статусом, обвиняли коммуну в неблагодарности и недостаточном признании их заслуг. Среди всех противоречий обыденной жизни, которые в них отражались, наиболее распространенным было несоответствие между образом честного «должностного лица» и ролью «доброго купца». Из этого противоречия рождались методичные наставления о том, как урвать от государства ту часть дохода, на которую оно претендует, – целая наука притворства и лжи, как следует укрывать доходы от коммунального фиска, какие петиции надо подавать в синьорию, чтобы снизили квоты обложения, простили или скостили задолженности по уплате налогов, уменьшили сумму очередного государственного займа[68]. Но до середины XV в. проповедь коммунальной идентичности, высшей справедливости республиканского строя и превосходства Флоренции над другими городами-государствами преобладала на страницах семейных книг.
«Заповеди» коммунальной идентичности, образы единства общества, позитивные установки, нацеливающие на публичную деятельность во имя общего блага, утверждения превосходства республиканского строя над любыми формами единоличного правления, наставления в практиках толерантности и миролюбия являлись своего рода ответом на вызовы городской повседневности, чреватой во Флоренции нескончаемой борьбой между социальными слоями, партийными фракциями, клановыми группировками. Город, на улицах которого около 200 лет постоянно воздвигались баррикады, гремел клич «К оружию!», а политические заговоры и попытки переворотов чередовались с репрессиями и изгнаниями, вопреки всему действовал как единый организм, о чем свидетельствовали бесспорные достижения в области экономики и культуры, расширение государственной автономии и успехи территориальной экспансии. Это вряд ли дает основания видеть в общественных ритуалах, апологиях и нормах семейного воспитания только риторические формулы и речевые стереотипы.
А. В. Топорова
Женское воспитание в проповедях Бернардино да Сиена
В проповедях Бернардино да Сиена (1380–1444), проповедника, по праву считающегося реформатором средневековой проповеди, проблема женского воспитания занимает совершенно особое место. Ученик и последователь Бернардино Джакомо делла Марка видит новизну метода своего учителя в переходе от ученой проповеди университетского типа, подчиняющейся строгим правилам и представляющей собой скорее диспут, чем собственно проповедь, к конкретному воспитанию своей аудитории, к разговору о насущных проблемах слушателей; он отмечает четкую ориентацию на широкую аудиторию и умение привлечь ее как самой темой, так и способом ее раскрытия[69]. Забота об аудитории и близость к ней приводят Бернардино к радикальному изменению понимания самой проповеди. Традиционно проповедь представляла собой толкование отрывка из Священного Писания, ее экзегетический характер был определяющим. Бернардино отступает от этого правила. Во вступлении к своему латинскому трактату «О вечном евангелии» (De evangelio aeterno) он предлагает обоснование своего нового метода свободной проповеди, не зависимой от евангельского чтения[70]. Бернардино готов отказаться от толкования Священного Писания и тем самым от богословского подхода к проповеди в пользу доверительного разговора о конкретных проблемах своих слушателей. Францисканское предписание (зафиксированное в Правиле ордена – Regula bullata) говорить о пороках и добродетелях, о наказании и славе, Бернардино умело приспособливает к анализу повседневной жизни внимающей ему аудитории.
Средневековые учителя проповеднического искусства неоднократно подчеркивали, что к каждой категории слушателей следует обращаться по-своему, а проповедь необходимо приспосабливать к обстоятельствам; учет аудитории стал одним из обязательных требований к проповеднику. Было выработано новое понятие сословно ориентированной проповеди – sermo ad status, составлялись специальные сборники «учебных» проповедей, предназначенных для определенных категорий слушателей[71]. Однако в действительности проповедь с точки зрения адресата была или безличной, или ориентированной на мужчин, хотя женщины и составляли большую часть аудитории проповедников. Бернардино да Сиена представляет в этом отношении исключение: он постоянно выделяет женщин в качестве адресата своей проповеди. Его обращения к женщинам в ходе проповеди постоянны, разнообразны и конкретны. Проповедник говорит с ними о том, что касается только их – как женщин, жен, матерей.
Можно выделить несколько аспектов женской темы у Бернардино. Во-первых, проповедник обращается к женщинам в связи с их поведением во время проповеди. Эти обращения носят обыденный, «сиюминутный» характер, в отличие, скажем, от патетических обращений к «возлюбленным согражданам», concittadini diletti. Бернардино призывает своих слушательниц не болтать во время проповеди или не спать, не толкаться, не пролезать вперед, делает замечания по поводу их внешнего вида. Вот лишь некоторые примеры:
O donne, oh che vergogna è egli la vostra, che la mattina, mentre che io dico la messa, voi fate un romore tale, che bene mi pare udire uno monte d’ossa, tanto gridate! L’una dice: Giovanna! L’altra chiama: Caterina! L’altra: Francesca! Oh, la bella divozione che voi avete a udire la messa! Quanto ch’a me, vi pare una confusione, senza niuna divozione e riverenzia. Non considerate voi che quine si celebra il glorioso corpo di Cristo figliuol di Dio, per la salute vostra? Che dovareste stare per modo, che niuna non facesse un zitto. Viene madonna Pigara, e vuol sedere innanzi a madonna Sollecita. Non fate più così. Chi prima giógne, prima macini. Come voi giógnete, ponetevi a sedere, e non ce ne lassate entrare niuna innanzi a voi[72].
О женщины, какой стыд, что по утрам, когда я служу мессу, вы производите такой шум, что мне кажется, что это целая гора костей, так вы кричите! Одна говорит: «Джованна!» Другая зовет: «Катерина!» Третья: «Франческа!» Да, замечательно благочестие, с которым вы слушаете мессу! На мой взгляд, это просто суматоха без какого бы то ни было благочестия и уважения. Разве вы не понимаете, что здесь ради вашего спасения совершается приношение славного тела Сына Божия Христа? Ведь ни одна из вас не должна произносить ни звука. Приходит мадонна Пигара и хочет сесть перед мадонной Соллечитой. Не поступайте так. Кто первый приходит, тому преимущество. Садитесь сразу же, как приходите, и никого не пропускайте вперед.
Особое место занимает в проповедях Бернардино тема места женщины в семье, в доме; и тут женщина если и не равна мужчине в современном представлении, то, во всяком случае, занимает самостоятельную и равноценную мужской позицию: она хозяйка дома, устроительница семейной жизни, хранительница очага:
Che è una casa che non vi sia donna? E’ casa di rovina e di porcineria. La donna è cagione di farti i figlioli, e allevargli, e governargli, e aiutarli nelle infermità. Tutta la fatica de’ figliuoli è della donna. E se infermi tu, ella ti governa con fede, e amore, e carità, e inverso el corpo e in verso l’anima … Ancora ti dico più ch’ella è guardia e massaia della tua roba. Tu stai fuora e guadagni ed ella in casa e conserva la roba. E’ così buono alcuna volta el conservare el guadagnato, che non è el guadagnare. Se tu, marito, guadagni e non ài chi conservi, la casa va male. Non avendo donna, la roba tua va male[73].
Что это за дом без женщины? Одна разруха и свинство. Женщина рожает тебе детей, растит, воспитывает их, выхаживает в болезнях. Весь труд, связанный с детьми, лежит на женщине. А если ты болен, она служит тебе с верностью, любовью, милосердием и в отношении тела, и в отношении души … Еще скажу тебе, что она хранительница и хозяйка твоего добра. Ты находишься вне дома и зарабатываешь, а она в доме и хранит добро. Порой сохранять заработанное столь же хорошо, сколь зарабатывать его. Если ты, муж, зарабатываешь, а у тебя нет никого, кто бы это сохранял, то дом устроен плохо.
В другой проповеди Бернардино еще более подробно расписывает домашние обязанности женщины:
Ella ha cura al granaio; ella il tiene netto, che non vi possa andare niuna bruttura. Ella conserva i coppi dell’olio, ponendo mente: – questo è da lograre, e questo è da serbare. – Ella il governa, sì che non vi possa cadere nulla su, e che non v’entri né cane, né altra bestia. Ella pon mente in ogni modo che ella sa, o può, che eglino non si versino. Ella governa la carne insalata, sì al salarla, e sì poi al conservarla. Ella la spazza e procura: – questa è da vendare, questa è da serbare. – Ella fa filare, e fa poi fare la tela del pannolino. Ella vende la sembola, e de’ denari riscuote la tela. Ella pone mente alle botti del vino; se ella vi trova rotte le cerchia, e se elle versano in niuno luogo. Ella procura a tutta la casa[74].
Она заботится об амбаре; содержит его в чистоте, чтобы ничто плохое туда не попало. Она хранит кувшины с маслом, рассуждая так: это надо использовать, а это сохранить. Она следит за тем, чтобы ничто не попало туда и чтобы до них не добралась ни собака, ни какое другое животное. Насколько она умеет и может, она всячески заботится о том, чтобы масло не пролилось. Она заботится о засоленном мясе, и как солить его, и как хранить. Она его моет и принимает решение: это надо продать, а это сохранить. Она следит, чтобы пряли, а из полотна делали холст. Она продает отруби, а на (вырученные) деньги покупает ткань. Она заботится о бочках с вином; не полопались ли обручи и не проливается ли вино. Обо всем в доме заботится она.
Еще один аспект, анализируемый Бернардино, – это брак. Бернардино рассматривает брак прежде всего в его социальной функции: семья должна быть большой, жена обязана помогать мужу в разветвленном хозяйстве. Хорошая жена должна быть доброй, мудрой, кроткой, исполненной любви, надежды, веры, смирения, чувства справедливости, терпения, как перечисляет Бернардино в своей знаменитой проповеди XIX из сиенского цикла 1427 г. «О том, как муж должен любить жену, а жена мужа»; к тому же она должна быть способной к рождению детей; к такой жене муж испытывает самую нежную любовь и дружбу. Бернардино предостерегает девушек, чтобы они не выходили замуж за тех мужчин, которые больше ценят их имущество, чем их самих. Говоря о радостях брака, Бернардино упоминает не только о «естественном удовольствии», но и об утешении в скорбях и о духовном услаждении. Перед женщиной Бернардино ставит еще одну важную задачу: жена должна удерживать мужа от греха содомии, весьма распространенного в средневековом обществе[75].
Особое внимание Бернардино уделяет женской моде – теме, к которой нередко обращались средневековые – и не только – проповедники. Против следования моде и украшательства себя с помощью искусственных средств писали и говорили многие: Винсент из Бове, Этьен де Бурбон, Джованни Доминичи, Джованни Конверсини да Равенна, Леон Баттиста Альберти. Но так детально и пылко, как Бернардино, этого не делал никто. Похоже, сиенский проповедник неплохо разбирался в современной ему моде. Он подробно перечисляет порочные, с его точки зрения, наряды и прически: платья со шлейфами, длинные рукава, особого рода замысловатые головные уборы, высокие прически, напоминающие башни. Он упрекает женщин в том, что у них сундуки ломятся от нарядов, в то время как бедняки страдают от голода и холода; что забота о сохранении дорогих платьев (тут Бернардино входит в детали: как их стирать, сушить, хранить) отвлекает от памяти о Боге и от своих обязанностей. Он анализирует особенности женской психологии в связи с приобретением нарядов:
…Я вижу, что вы, женщины, так погрязли в суетности, что ваши шлейфы и кокетство представляются мне величайшим недоразумением, которое я когда-либо наблюдал, а также и прочая ваша суетность. Здесь я вижу то же самое, что наблюдал во многих других местах. Но среди прочих виденных мною примеров суетности я нигде не нашел большего, чем здесь, в Сиене. Когда вы облекаетесь в волочащиеся по земле одежды, вы хотите казаться важными женщинами, превосходящими всех остальных. Эти одежды так порочат вас, что я опасаюсь, как бы одним этим вы не навлекли на город большой беды. А она говорит: «Покупка уже сделана, как же теперь быть? Сделанного не исправишь»[76].



