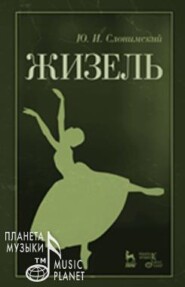
Полная версия:
Жизель
Танец – естественная речь балетного актера – выражение духовной сути, а не только физического облика сценического героя. Таков символ веры артиста, а позднее и балетмейстера Перро. И распространяется он на всех действующих лиц. Даже когда они «говорят» пантомимой: она лишь оттеняет и подчеркивает главное – собственно танцевальную речь. Пропагандист виртуозности танца, Перро подчинял сценическое поведение актера созданию художественного образа. С. Н. Худеков рассказывал, что на репетициях Перро «входил в роль каждого действующего лица и артистам показывал, как надо играть, объяснял значение каждого жеста, принимал сообразное с движением выражение лица и затем уже предоставлял разработку подробностей роли артистам», но оставлял за собой последнее слово. Как видите, «открытие XX века», на которое претендуют некоторые наши современники, сделано уже 125 лет назад, а корнями своими уходит в глубь веков.
Палитра сценических красок Перро чрезвычайно велика. Хотя главное не это (Сен-Леон в своих постановках не менее богат красками), а поразительная свобода их смешения. В противоположность предшественникам и современникам, Перро не членил действие на «сцены» и «танцы» – танцевальные и пантомимные эпизоды (так, в частности, поступали в своих драматургических проектах Готье и Сен-Жорж), не отделял непроходимой стеной пластический речитатив от танца, не противопоставлял их друг другу (кроме случаев, когда это необходимо по ситуации). Напротив, при надобности свободно смешивал их. В разнообразных проявлениях речитатив всегда рассматривался Перро лишь как подсобный элемент, связующий узловые пункты хореографического действия; они же решались вдохновенным, виртуозным танцем. Об этом говорили и писали в России. Высшие формы танца у Перро стали вершинами развития действия, тогда как у многих современников и преемников между действием и развитием танца существовала обратная связь. Д. Мухин, участник и восторженный поклонник балетов Перро, писал об этом: «После Дидло Перро одухотворил сложные па – Pas de trois, de quatre u Pas d’ensemble, – вводя их в сферу сюжета, заставив артистов и в танцах продолжать сюжет драмы балета». Критик видит «новую сторону танцев, составляющую отличительную черту дарования Перро», в том, что ему «первому принадлежит мысль ввести в самые танцы, обыкновенно составляющие только рамку балета, цель, содержание, мимику… В этих па есть цель, смысл: вы понимаете, что хотят высказать этими танцами участвующие в них лица, видите, что они не просто упражняются в хореографической гимнастике и что грациозные аттитюды, всегда смешные в мужчинах, и волчкообразные вращения – не конечная цель танцев, как это думали до Перро». Речь идет о наиболее сложной форме хореографической драматургии, аналогичной ансамблям в опере, – о воплощении в терцетах, квартетах и т. п. опорных пунктов действия. В «Жизели» он создал то, что мы условно называем хореографической драматургией. Под ней имеется в виду такое построение спектакля, которое обеспечивает воплощение идейно-художественного замысла в балетных формах. Отсюда – поиски структуры спектакля, позволяющие давать действие в развитии, обогащать образы героев и т. п. Как следствие возникают танцевальные приемы, формы, составляющие собственно балетные «портреты». Хорео-драматург основывается при этом на ритме – властителе балетного образа: правильный выбор темпометрических и ритмических формул, их последовательной смены и т. п. многое решает в развитии действия, выявлении душевного состояния героев и т. п.
Чем выше сценарист и композитор, тем значительней их вклад в хореографическую драматургию. Чем меньше они способны в танцевальных образах мыслить идею, действие и характеры его участников, тем меньше их работа отвечает нуждам драматургии. Тогда придуманное сценаристом приходится преодолевать либо композитору (таковы, к примеру, «Лебединое озеро», «Щелкунчик»), либо балетмейстеру (таковы, к примеру «Раймонда», «Сказ о каменном цветке»).
В 30-е годы XIX века драматургическая концепция спектакля, а с ним и музыки, создавалась не сценаристом, сегодня обязанном думать о хореодраматургии, прежде чем ее станут разрабатывать другие авторы; не композитором, ныне претендующим на единоличную власть в решении таковой, а балетмейстером. Он был обязан выстроить в своем воображении здание будущего спектакля: увидеть его сценические контуры, рассчитать процесс накопления экспрессии, услышать его музыку и предложить свои соображения композитору.
При всем богатстве фантазии Готье и профессиональном мастерстве Сен-Жоржа они были сравнительно далеки от того, чтобы разрабатывать основы музыкальной и хореографической драматургии. Всю тяжесть этого труда нес не Коралли (он пришел на готовое) и не один Адан: в содружестве с Перро он мог быть всего лишь ведомым. Во всех творениях этого балетмейстера, насколько удалось выяснить, от музыки требовалось безоглядное служение хореографическому замыслу, воплощающему замысел драматургический. Власть балетмейстера над композитором кажется несносной и пагубной опекой. Перро было что диктовать композитору. Его мысль и в этом отношении устремлялась вперед, оплодотворяя музыку, будь то Пуни, сочинитель большинства партитур балетов Перро, или Адан. Как высоко стоял он над соавторами, в том числе Готье и Сен-Жоржем, видно из сравнения их проекта со спектаклем. Особенно в структуре образов героев. Достаточно сопоставить предложения сценаристов с решением Перро.
Появление Жизели и встреча с Лойсом (Альбертом) складывается по сценарию из следующих эпизодов: «восторг и счастье влюбленных»; рассказ Жизели о зловещем сне (она видела прекрасную даму, которую возлюбленный предпочел ей); заверения Лойса, что он будет любить Жизель вечно; жалоба Жизели на боли в сердце; гаданье, подтверждающее, что она любима; отпор лесничему. Где ж тут танцевать? По сценарию девушки зовут Жизель на работу, она удерживает их: «Танец она любит больше всего на свете после Лойса». Теперь идет вальс с подругами: «Ее па, полные пылкости и увлечения, вперемежку с ласками Лойса, неотразимы». Следует диалог с матерью. Затем уход и возвращение на сцену в связи с прибытием охотников во главе с Батильдой. Диалог с Жизелью. Начинается праздник сбора винограда. Жизель избрана царицей бала. Либретто гласит: «Теперь Жизель может отдаться своей страсти; она увлекает Лойса в середину толпы и танцует с ним». Заканчивается веселье разоблачением Лойса, безумием и смертью Жизели. Стало быть, по замыслу сценаристов, Жизель танцует лишь в обстоятельствах, оправданных бытом: развлекается с подругами, принимает участие в празднике. Выходит, что сценаристы мыслили типично «драмбалетно», говоря современным языком, «по-скрибовски», – говоря языком тех дней, – то есть искали предлога для танца.

I акт. Первая встреча Жизели и Альберта
Как обрадовались бы некоторые наши балетмейстеры, когда им предоставился бы случай создать балет о девушке, одержимой страстью к балам в I акте, о сказочном существе, ведущем по ночам хороводы с подругами, – во II. Им это показалось бы блестящим решением проблемы образа героини. Между тем самое худшее для балетного театра – насаждать в нем персонажей, которые по профессии танцоры или сродни танцу. В основе подобных «находок» – порочная мысль о необходимости добывать право на танец героев путем бытового оправдания их «ненормального» поведения. Балерина, играющая роль любительницы плясать, может танцевать весь спектакль, и тем не менее происходящее на сцене будет для нас олицетворением фальши. Перро, можно сказать, поставил вопрос с головы на ноги. Его Жизель могла и не быть без ума от балов, могла и не принадлежать к сонму вилис, ведущих губительные хороводы с первым встречным. Она танцует с первого появления на сцене и до последнего потому, что живет в танце: это ее естественная речь, как естественно пение героини оперы, молчание героини пантомимы, стихотворная речь героев античных трагедий и романтических драм. В танце Жизель выражает свои чувства, свое отношение к миру, к людям, что разумеется само собой, не требуя «оправданий». У Перро нет ни рассказа Жизели о виденном сне, ни уговаривания подруг бросить работу, – все это отпало. За вычетом гадания на цветке, отдельных пантомимных штрихов в диалоге, короткой мизансцены с лесничим, столь же кратких реплик матери, до встречи с Батильдой Жизель только и делает, что танцует.
Насколько существенно изменилась Жизель, видно из отчетов Готье. Непроизвольно, быть может, он, обладая зорким театральным глазом, дает в них характеристику героини не такой, какой она была в сценарии, а такой, какой стала в спектакле. Вот, к примеру, как Готье фиксирует первый выход Жизели, поставленный Перро: «Ее ножки уже пробудились. Она устремляется, быстрая и оживленная, как все чистые сердца. Она не танцевала со вчерашнего дня. Провести всю долгую ночь между двумя простынями, без музыки, с неподвижными ножками. Бог мой! Сколько времени потеряно». Пусть Готье прилаживает виденное к прежним намерениям оправдать балетное антре страстью к танцу; Жизель у Перро «говорит» танцем так красноречиво, так волнующе, что завоевывает сердца зрителей. В каждом танце Перро выражает какую-либо черту характера Жизели: беспечное порхание птички – в первом выходе; простодушие, наивность, кокетство – при встрече с героем; счастье любви – дуэттино с ним; упоение жизнью, радость быть любимой, гордость за возлюбленного – в вальсе с подругами. Еще ничего не случилось, а зритель участливо следит за Жизелью, уже любит ее, готовится сопереживать ее драму. Главное достигнуто.
Готье и Сен-Жорж так представляли себе в либретто танец Жизели, ставшей вилисой. «Она танцует, или лучше сказать, порхает по воздуху…вспоминая и с радостью пробуя опять те же танцы, которые танцевала в I акте, перед смертью». Снова желание увидеть Жизель, одержимой страстью к танцу, к балам. Вспоминать пляски, исполненные в горячечном бреду! Их и нет у Перро в сцене безумия, он пренебрег здесь заказом сценаристов. Поэтому, увидев спектакль, Готье записал уже нечто совсем иное. «Тотчас же, как если бы хотела наверстать время, упущенное на ложе» – в гробу, «она завладевает пространством; опьяненная свободой и радостью избавления от покрова тяжелой земли, и снова и снова взлетает». Совсем другой смысл, другой ранг поэзии.
Порочна посылка: предоставлять балетным героям право танцевать лишь в бытовых ситуациях, по страсти к танцу или по воле вилис, «затанцовывающих» жертву. В этом проявляется недооценка внутреннего смысла, «подводного течения действия». У сценаристов Альберт танцует с Жизелью лишь во время праздника и забав с подругами, а во II акте – по воле Мирты: «увлекаемый страстью, Альберт покидает крест, бросается к Жизели. Он хватает волшебную ветку розмарина и желает себе смерти, чтобы соединиться с вилисой и никогда не покидать ее. Они словно состязаются в легкости и ловкости: порой они останавливаются, обнимают друг друга, но волшебная музыка придает им новые силы и новый пыл». Снова поиски оправдания танца: говорят даже о состязании в легкости и ловкости исполнителей. При этом сценаристы игнорируют главное: дуэт героев во II акте – драматургическая вершина испытания любви Жизели и Альберта. Так трактует его Перро.
Портрет героя «Жизели» он сочинял в какой-то степени в расчете на себя. Вложил в мужскую партию всю силу своего протеста против воцарившегося повсюду пренебрежения к мужскому образу. В последний раз мы видим на балетной сцене героя, равнозначного по своей роли героине. Не только в прошлом веке, но и в нынешнем, по крайней мере до 30-х годов, когда в советском театре началось возрождение мужских «полнометражных» балетов. Мало сказать, что «Жизель» обладает самым содержательным, самым сложным в классическом наследии танцевальным мужским образом. Альберт характеризуется в движении, развитии, а это даже в наше время не так часто удается.
Его сценическая биография складывается из четырех частей: в первой – переодетый крестьянином граф разделяет любовь крестьянки Жизели; во второй – его уличают в обмане и разоблачают; в третьей – полный раскаяния, он не знает, как загладить причиненное зло; в четвертой – Альберт преображается: отныне любовь для него уже не прихоть или забава, а дело жизни. Каждая часть имеет свои хореографические формы: первая (утро любви) – разнообразие прыжковых движений жанрового плана, характеризующих идиллическую радость, увлеченность и т. п.; вторая (после разоблачения) – полное отсутствие танца, одни только пантомимные мизансцены и жесты: доверие к персонажу утрачено, а с ним и танец; третья (раскаяние, горе) – ритмизованная пантомима, постепенно развивающаяся в танцевальную пантомиму; она увенчивается классическим танцем, когда зрители уверовали в глубину и искренность раскаяния Альберта, в силу любви, ранее ему недоступной. Ему надо на глазах у зрителя преодолеть себялюбие, выстрадать свое прощение, а с ним и право на классический танец. Только тогда появляется в спектакле большое Pas de deux. Здесь герой пользуется возвращенными ему ресурсами классического танца не только для того, чтобы полным голосом воспеть любовь. Танцевальное красноречие, какого герой не знал раньше, призвано показать его в новом качестве: преодолев легкомыслие, эгоизм, Альберт преобразился, возмужал, созрел как человек.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Книга воспроизводится по изданию: Слонимский Ю. Жизнь. Этюды. Л.: Музыка, 1969, с сохранением исторических реалий и характерных особенностей работ по искусствоведению советского периода. – Примеч. издательства.
2
В первых изданиях на франц, яз. работа Гейне «К истории религии и философии в Германии» получила название «О Германии», так сказать, по наследству от книги мадам де Сталь, фактически открывшей для Франции литературу Германии.
3
Гейне и его современники именуют их «вила», «вилы», а во множественном числе часто прибавляют букву s, образуя слово wilis. Русские переводчики восприняли это начертание буквально, и в нашей литературе сложилась привычка писать; вилиса, вилисы.
4
Танцовщица «у воды» – в глухом кордебалете.
5
Имеется в виду Сен-Жорж. Под названием «Сатанилла» балет «Влюбленный бес» по его сценарию шел и в России.
6
Имя Коралли в афишах и программах стоит рядом с Готье и Сен-Жоржем: он получал долю поспектакльного гонорара.
7
II акт не только пересказ предания. Здесь замечательная сцена Альберта с тенью Жизели, придуманная Готье, сбор вилис, подсказанный Гюго, поэтичный финал, принадлежащий Адану, и ряд сцен, которых нет у Гейне.
8
Это желание появилось в связи с успехом генеральной репетиции. Слова Адана, что это не удивит Сен-Жоржа, не ясны: видимо, он намекает на честолюбие Готье и его любовь к Гризи. Одна деталь в афише примечательна: фамилия Готье стоит в списке авторов второй, после Сен-Жоржа. Это значит, что Готье не притязал на первое место даже по алфавиту.
9
Перевод М. А. Донского.
10
У Готье герой «Жизели» именуется то Albert, то Albrecht. Подчеркивая, что действие происходит в Германии, Готье тем самым обязал принять немецкую транскрипцию – Альберт, а не французскую – Альбер. Конечно, можно допустить и другой немецкий вариант – Альбрехт. Но к чему изменять традиции, существующей уже 125 лет в русском театре?
11
На опыте советского балетоведения десятилетием позже началось за границей изучение творчества Перро и его роли в «Жизели».
12
Перро подумывал отказаться от дальнейших попыток и уехать в Лондон на работу во второстепенный театр,
13
Автобиографичны они и в другом отношении: на сцене, как и в жизни, Перро часто оказывается изгоем общества, к которому принадлежит.
14
Назову наиболее значительные в этом смысле: «Ундина» (1843), «Эсмеральда» (1844), «Катарина» (1846), «Фауст» (1848), «Война женщин» (1852).
15
Заслуживают в этом плане пристального внимания и изучения его «Катарина» и «Война женщин». В первом балете Перро воспевает итальянских повстанцев, борющихся против австрийских войск, во втором – чехов, борющихся против немецкого насилия и гнета.
16
На английской сцене первоначальный финал «Катарины» носил трагический характер: героиня гибнет, спасая возлюбленного от смерти. Аналогичные намерения были у Перро и в «Эсмеральде». «Наяда» имела два конца – драматический и счастливый.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

