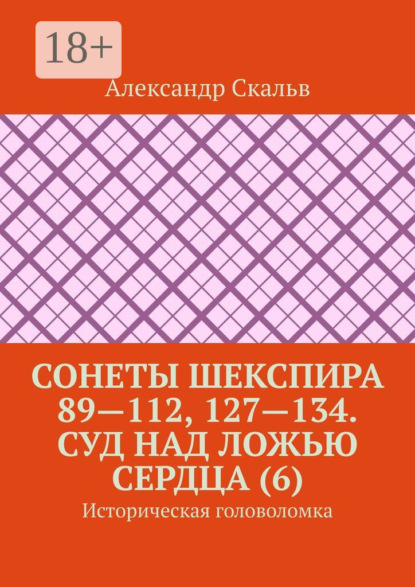
Полная версия:
Сонеты Шекспира 89—112, 127—134. Суд над ложью сердца (6). Историческая головоломка
Поэт подтверждает, что остался верен своим старым принципам, что, согласно нашей логике, является однозначным указанием на друга, ведь мы считаем Шекспира последовательным, не меняющим своих принципов в отношении адресатов.
Самостоятельным указанием на друга является сравнение с сонетами 53 и 54, где, именно, другу принадлежит такое качество, как верность.
В сонетах к возлюбленной поэт, наоборот, периодически подозревает её в неверности, например, сонеты 57,58,61,92,93.
Такой трактовке не противоречит и смысл замка сонета 105, который является намёком на друга, в котором и собрались одновременно лучшие качества, в т.ч. – верность.
Если бы в сонете 105 имело место прямое обращение к другу, то преемственность смысла с темой предыдущих сонетов была бы более очевидна, ведь опять продолжаются «воспоминания» о ситуациях сонетов 53,54 и 76, и «оправдания» в заверениях неизменности своих принципов.
Но прямого обращения нет, и трактовать сонет 105 необходимо с привлечением условного адресата «поэт», как осмысление поэтом для самого себя возникших обстоятельств.
На протяжении череды сонетов 100—105 поэт два раза сменил форму повествования о персонаже – друге поэта, то обращаясь к нему напрямую (сонеты 102—104), то ведя о нём рассказ в третьем лице (сонеты 100, 101 и 105).
И ранее мы также видели, и впоследствии ещё не раз увидим в сонетах, что Шекспир периодически так поступает.
Для анализа на адресность в этом обстоятельстве важно отметить, как эти две формы повествования соотносятся с указаниями на адресата сонетов.
Например, если речь идёт о друге, то независимо от формы повествования мы имеем право воспользоваться сравнением с любым сонетом, где друг либо был, либо не был адресатом, но в любом случае был персонажем сонета.
Другими словами, условный адресат «поэт», который был введён для случаев отсутствия прямого обращения к персонажу сонета, не исключает соответствующие ему сонеты из возможности сравнения.
Но почему тогда нельзя вообще обойтись без условного адресата «поэта»?
Ведь в анализе на адресность можно объединить все сонеты, например, и обращённые к другу, и посвящённые ему, не разделяя их по форме повествования.
Да, так можно было бы поступить, если бы анализом на адресность всё заканчивалось, если бы этот анализ был самодостаточен, т.е. доказывал, построенную с его помощью, адресность сонетов.
Но, как было уже неоднократно сказано, логично выстроенная возможность некой адресности является только возможностью, и сама по себе ничего не доказывает, ведь приняв за основу теоретически ничем не ограниченное количество разных логических предпосылок, мы получим, теоретически, ровно такое же количество разных логичных структур адресности.
И хотя, практически, в полном объёме, это положение никто не проверял, но наличие нескольких, не совпадающих друг с другом, логичных с точки зрения их авторов, гипотез адресности сонетов Шекспира являет собой подтверждение этому.
К сожалению, авторы таких гипотез принимают возможность за верность, а обязательность логичности за достаточность. Но будучи не подтверждёнными соответствием с фактами биографий такие гипотезы не могут быть признаны доказанными, как бы логичны и возможны они ни были.
Поэтому мой анализ на адресность служит, в том числе, удобству последующего анализа на соответствие с фактами биографий, в котором и будет подтверждена, построенная сейчас, адресность сонетов.
В анализе на соответствие с фактами биографий будут подробно разобраны все обстоятельства написания сонетов, и прямо, и косвенно следующие из текста сонетов, которые сейчас упомянуты мной только вскользь.
К числу таких обстоятельств относится и отсутствие прямого обращения к персонажу сонета, важность разделения которого с сонетами, где прямое обращение к персонажу имеет место, будет видна только в этом анализе, так как эти обстоятельства станут указателями соответствий фактам биографий.
Поэтому, чтобы не запутывать читателя, т.е. здесь объединить сонеты, не обращая внимание на форму повествования, а потом, в последующем анализе, разделить их по этому признаку, я посчитал более удобным разделить их сразу в анализе на адресность, введя условного адресата «поэт».
Тем более, что не упомянуть в анализе на адресность, как влияет на неё форма повествования было бы не корректно.
Глава 5. Сонеты 107—112. Суд над ложью сердца
Так череда сонетов 107—112 выделена в отдельную главу не только потому, что в сонете 107 снова меняется адресат, но также и потому, что Шекспир, начиная с этого сонета, перестал чередовать сонеты другу и возлюбленной по нескольку штук, как делал это после сонета 88, а расположил далее в конце своей нумерации сначала подряд 20 сонетов другу, а потом подряд 28 сонетов возлюбленной.
Поэтому, дополнительно, мы начинаем исследовать другие, кроме чередования, основания параллельности написания сонетов другу и возлюбленной после сонета 88, чтобы, в дальнейшем, при анализе на соответствие с фактами биографий, свести воедино эти, пока только раздельно найденные, основания.
Начинаем мы с разделения последних двадцати сонетов другу на несколько периодов, отличающихся друг от друга резкой сменой настроения. Здесь необходимо на это обратить внимание и просто запомнить.
Первые два периода охватывают сонеты 107—112.
Сонет 107
Определить адресата только по сонету 107 невозможно.
Первый катрен – набор общих фраз, который подойдёт любому.
Но понять можно, что и сам поэт, и прорицатели («дух вещий – the prophetic soul») полагали, что Любовь умрёт («гибельный предел – a confined doom»).
Речь во втором катрене идёт о примирении с адресатом («оливы на бескрайний век – olives of endless age»), несмотря на «затмение» Смертной Луны (The mortal moon) и предсказания «авгуров».
Как видим первые два катрена являются намёками, которые можно трактовать по-разному, в зависимости от адресата, но сами по себе на адресата не указывают.
Например, можно было бы считать их следствием размолвки с возлюбленной, отражённой в сонетах 89—92.
Однако, в третьем катрене сонета 107 мы встречаем прямое указание на причину размолвки с адресатом: «назло ей (смерти) буду жить хоть в рифмах бедных – Since spite of him I’ll live in this poor rhyme».
Именно, эти «бедные рифмы», заметьте, не покорность, не вновь вспыхнувшие чувства, не что-либо другое, противопоставляются («жить назло») смерти Любви.
При этом поэт не говорит, что теперь, с новой Любовью, его «рифмы» станут богатыми, что вполне мог бы себе позволить, если бы не связывал с определением «бедные» намёка на предшествующие, известные адресату, обстоятельства, когда рифмам поэта была дана эта характеристика.
Сонет 107. Оригинальный текстNot mine own fears, nor the prophetic soulOf the wide world, dreaming on things to come,Can yet the lease of my true love control,Supposed as forfeit to a confined doom.The mortal moon hath her eclipse enduredAnd the sad augurs mock their own presage,Incertainties now crown themselves assured,And peace proclaims olives of endless age.Now with the drops of this most balmy timeMy love looks fresh, and Death to me subscribes,Since spite of him I’ll live in this poor rhyme,While he insults o’er dull and speechless tribes.And thou in this shalt find thy monument,When tyrants’ crests and tombs of brass are spent.Но размолвку с другом из-за стихов («бедных рифм») мы видели только в сонетах 82—87. Стихи никогда не были причиной размолвок с возлюбленной.
Поэтому сопоставление с сонетами 82—87 указывает, что в третьем катрене сонета 107 речь идёт о друге.
На это же указывает и сопоставление с сонетом 102, где поэт вспоминает о своей «песне», которая «смолкла» в чужом «гвалте», явно намекая на ту же размолвку. Другими словами, адресатом сонета 107 является друг поэта.
Но если это так, то первый катрен сонета 107 легко объясним сонетом 104, где речь идёт о сроке знакомства. Почти в конце этого срока произошла и размолвка (сонет 87). Естественно, в течение размолвки поэт не мог знать её окончания, отсюда, вероятно, но не обязательно, и «личный страх» и «дух вещий» и «гибельный предел» (в сонете 87 другу было сказано «прощай»).
Эти сонеты только подтверждают друга в сонете 107, но не дают полной картины сюжета, так как мы пока не знаем того, что пропущено.
Второй катрен в части «затмения Смертной Луны» – сравнение, придающее Любви королевское достоинство (такое прозвище было у королевы Елизаветы).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



