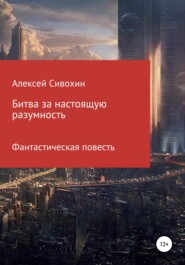 Полная версия
Полная версияБитва за настоящую разумность
Мне повезло родиться именно в такое время, когда советская идеологическая машина еще эффективно работала, являясь важной частью общественной жизни, но уже ясно чувствовалась вся её непрочность, устарелость, износ, что осознавалось тогда как неестественность, оторванность пропагандируемых ценностей от реалий жизни, какая-то книжность и мертвенность самой идеологии. Хотя я, вслед за большинством, придерживался в той жизни советской идеологии, она осталась на уровне только сознания, потому что копившиеся вопросы и недоумения, нарастающие расхождения с жизненными реалиями порождали сомнения и были тем фильтром, который не позволял проникнуть ей глубже, овладеть мной целиком. Можно сказать, что мои «веревочки» уже тогда были настолько гнилыми, что для нормальной жизни в том обществе я их контролировал во-многом сознательно, и даже кое-где «подвязывал» сам, так что к моменту краха советского строя я уже не был советским зомби. Шок, обернувшийся для многих крахом личности, стал для меня завершающим шагом к освобождению.
Возвратившиеся инстинкты старого общества людозверей не могли уже исподтишка повлиять на меня, благодаря многолетней работе по специальности в технической сфере у меня сложилось устойчиво – критичное мировосприятие, закрывшее многие пути тайного манипулирования, а понимание звериной подоплёки «новых» взаимоотношений между людьми вызывало лишь брезгливое отторжение. Получилось, что я как бы завис между двумя обществами – перестал быть, вернее говоря, так и не стал окончательным советским зомби, и не захотел стать человекозвериным зомби, не имея теперь уже и желания быть прозомбированным ни тем, ни другим обществом, и имея возможность эффективно сопротивляться любому зомбированию. Мне поневоле пришлось научиться смотреть на себя и мир своими собственными глазами и анализировать все самостоятельно, не принимая без проверки жизнью ничьих взглядов и имея, тем самым, редкую возможность воспринимать все происходящее объективно.
Федьке я не мог искренне желать своей судьбы – быть независимым одиночкой, человек все-таки эмоционально привязан к обществу и живется ему среди других людей куда счастливее, независимо от того, состоит ли общество из людей или людозверей. Насколько мог, я старался не мешать Федьке в обретении необходимых навыков, позволяя зверообществу внедрять в Федькино сознание и подсознание необходимый минимум своих программ, хотя сам предпочитал сохранять независимость и объективный взгляд на мир. До встречи с Александром я следил лишь за тем, чтобы поддержать человечность в нем на том уровне, который ни в коем случае не позволил бы окончательно скатиться к жизни примитивного потребителя, уже точно не отличимой от жизни дойной коровы на ферме.
В то же время я ясно осознавал, что звереющее общество и уже достигнутый уровень технического прогресса несовместимы, что безмозглое человечество в своём падении к скотству не сможет найти среди своих дремучих звериных инстинктов то, чего там никогда, за ненадобностью, не было – сознательную заботу о приумножении и бережном отношении к ресурсам планеты и самим достижениям цивилизации, и поэтому будущее человечества рисовалось мне довольно мрачно. Революция, приведшая к созданию советского строя, была настолько неосознанной, слабой и неустойчивой попыткой, что сколько-нибудь серьезно рассчитывать на повторение в ближайшем будущем человечество не могло, да и не хотело ввиду непонимания необходимости иного общественного устройства, а времени уже не осталось. Я не знал, чего ещё ждать от жизни, и надеялся только на чудо. И бог, хотя я считаю, что его нет, ответил на мою невысказанную просьбу- я принял Александра с Альтаира как должное потому, что внутренне был давно уже готов к чему-то подобному.
Поначалу я сильно сомневался в способности одного инопланетянина, вооруженного какими угодно познаниями, без силового давления, только с помощью дарения землянам мудрости древней цивилизации, повлиять на ход земного исторического процесса, однако решил помогать, потому что это давало мне силы, придавая новый смысл моей собственной жизни. Я понимал, что хуже уже не будет, а участвовать мне в таком деле, как минимум, интересно. Чрезвычайно благоприятное впечатление на меня сразу произвело то, что, несмотря на весь свой опыт и знания, Александр ничуть не стеснялся признавать и даже подчеркивал свои ошибки, и вполне искренне вел себя как надежный товарищ, как равный, но более знающий друг, совсем не так, как вёл бы себя всезнающий бог-ментор. Когда же Александр, вернее, Федя после уроков Александра просветил меня насчет математико-философских законов эволюции, открытых Альтаирцами, а также и земными учеными, которые верны и универсальны для биосферы, человека, культуры и вообще любого развития, моё отчаяние сменилось уверенной надеждой.
Глава 7. Учёба в школе и дома
Из всего, что произошло на уроках, в эти последние школьные недели, особенно запомнились несколько случаев.
Сначала был урок истории- в понедельник. Учитель рассказывала тот раздел, который я уже заранее прочитал вчера, и я собирался было уже начать скучать. Но происшедшее в субботу и воскресенье возбудило во мне сильный интерес к наблюдению самого себя «со стороны», и начавшаяся было скука, тем самым, послужила сигналом к началу игры в «шпиона разума» – я решил попробовать отгадать, какие такие интересные познания могут быть спрятаны за скучным текстом учебника? Я открыл следующий параграф и вспомнил, что утром за завтраком Александр научил меня интересному универсальному приему- «сначала подумай сам, а только потом посмотри, что написано». Думать «за историю» – значит, проникнувшись пониманием ситуации, воображать, что должно было бы произойти дальше, а потом читать о том, что произошло на самом деле, и проверять реальностью свои фантазии. Я не сомневался в том, что теперь, как будущему архитектору нового человечества, хорошее знание истории мне совершенно необходимо. А хорошее знание истории- это совсем не тоже, что формально запомнить, когда, где и что произошло, нужно уметь разглядеть за фактами существо дела, понять, почему все случилось именно тогда и именно так. Но продолжить учебник истории мне, увы, не удалось – оказывается, я не видел никаких, даже совсем явных «пружин» исторического процесса! Это было очень неприятным открытием, показалось вдруг, что я поглупел, ведь раньше все в истории мне было ясно и просто. Но, понял я вскоре, дело было в другом. Раньше я учил историю, только чтобы ответить урок, а для этого вполне хватало мышления на уровне попугая – достаточно лишь заучить и воспроизвести потом даты основных исторических событий и имена их главных участников. Теперь же нужно было не только и даже не столько запомнить, сколько понять.
Когда я, после уроков, рассказал отцу о своем открытии, его реакция меня приятно удивила. Я ожидал, что отец снова будет ворчать про мою глупость, но к моему удивлению, отец улыбнулся и сказал, что наконец-то я начинаю думать сам. Я спросил – а что же, по-твоему, я делал раньше? Он сказал – раньше ты жевал пережеванную жвачку из чужих мыслей и пребывал в заблуждении, что мыслишь сам, а теперь, когда жизнь потребовала глубины познаний, увидел действительную границу своего понимания, признался себе в непонимании и задал совершенно правильный вопрос. Из таких вот маленьких шажков и складывается развитие интеллекта!
Игра в «агента разума», придуманная Александром, и в самом деле помогала мне куда меньше скучать. Уж не знаю, какие ещё хитрые приёмы использовал инопланетянин, но, видимо, он незаметно дал моему интеллекту такого хорошего пинка, что через пару-тройку вечеров интересных и вроде непринуждённых бесед-уроков с Александром мои вопросы вдруг стали ставить в тупик школьных учителей. Учителя отнеслись к этому по-разному, делясь на две категории. Одни- их было меньшинство- искренне радовались моей прорезавшейся любознательности, иногда искали вместе со мной ответ в учебниках и с удовольствием помогали мне, иногда признавались в том, что они тоже всего знать не могут, а есть и такие вопросы, на которые никто ответа пока не знает. Другие, напротив, одёргивали, говорили в том смысле, чтобы я не выпендривался, тихо злились и даже пытались умышленно ставить плохие оценки. Александр и отец потом объяснили мне, отчего так происходит, но об этом- в свое время.
В следующую субботу, на очередном после того памятного дня уроке географии, я сидел на всё той же задней парте и читал в учебнике следующий раздел. Читать учебник наперёд вошло уже у меня в привычку, помогая совершенно безнаказанно прямо на уроке избавиться от скуки. Я прочитал, что «картографирование земной поверхности стало возможно только после изобретения хронометров, без которых невозможно точное определение долготы места».
Интересно, подумал я, а как же моряки плавали по морям раньше? Я помнил, что в приключенческих книжках про пиратов и шхуны писалось о каких-то астрономических таблицах и определении по Луне и звездам, о секстанте и компасе, но почти ничего- про какие-либо точные или не очень точные часы, на корабле только по Солнцу «склянки» примерно отбивали. Я вспомнил проклятья про облака и туман, которые не дают возможности сориентироваться по небу. И тут до меня вдруг дошло, что на небе уже есть весьма точные часы, созданные самой природой, стрелка этих часов- не что иное, как луна, а циферблат- сам усеянный неподвижными звёздами небесный свод! Мне стало понятно, что древние мореплаватели вполне могли использовать Луну вместо современных хронометров, но тогда они должны были очень хорошо разбираться в звездном небе и движении луны по нему. Есть еще и планеты, но они перемещаются на фоне звездного неба куда медленнее, и «планетные» часы получаются менее точными. Я вспомнил про древние «лунные» обсерватории, одной из которых, по мнению некоторых учёных, был и знаменитый Стоунхендж, – и мне стало просто смешно! Солидные академики в 20-м веке не смогли сами вновь додуматься до того, о чем знал любой кэп несколько столетий назад, даже те, что плавали под «веселым Роджером»! Интересно, а куда потом пропали знания о навигации на море без хронометра, так что теперь утверждают подобную чушь, или это только школьный учебник привирает? Ведь на парусниках без часов-хронометров плавали же ещё совсем недавно! Надо будет как-нибудь спросить об этом у отца.
Но самое интересное начиналось, конечно же, после школьных уроков. Мне трудно рассказать обо всем последовательно, Александр, почуяв мою скуку или непонимание от усталости, сразу, без всякого перехода, менял тему, поступая точно так же, как это было и в первое наше воскресенье, так что каждый вечер был как яркая мозаичная картинка из кусочков по разным «предметам». Кроме того, я и отец постоянно меняли роли ученика и учителя. Я не вел дневник, поэтому не смогу точно припомнить, что, когда и как было изучено. Я сгруппирую полученные знания по темам и буду придерживаться логической последовательности в каждой, укрупнив «куски мозаики» так, чтобы получился связный рассказ.
Расскажу здесь о том, что Александр назвал «лабораторными работами по управлению людьми». Это была захватывающе интересная компьютерная игра-симулятор, разработка Альтаирского института робототехники. Я как-то спросил, а откуда альтаирцы узнали, как программировать земные компьютеры? Александр ответил, что когда живой мегакомпьютер, который тельциане собрали из самих себя, анализировал земные телепередачи, он, попутно, выдал также и методы программирования земных компьютеров. Мне с трудом верилось, но для решения этой непростой задачи живому мегакомпьютеру оказалось достаточно того идиотизма, что несут про наши компьютеры и программирование телеведущие в полурекламных передачах! Александр сказал, что ему, тем не менее, пришлось дорабатывать программу, так как в исходном варианте не были учтены различия землян и альтаирцев.
Во вторник доработка была завершена, Александр не стал переделывать всё, а только включил ошибки в восприятие химоэмофона компьютерными моделями людей, чтобы симитировать нашу неточность в оценке эмоций друг друга, и добавил вывод картинки в цвете. Оказалось, что люди, не различая эмозапахов, все же могут довольно точно судить об эмоциональном состоянии по множеству косвенных признаков, и, случается, ошибаются при этом, но довольно редко. Эти ошибки в восприятии людьми эмоций в своё время не позволили разработчикам понять, почему модель человеческого общества вышла у них не совсем точной, но погрешности были небольшие, и игра получилась вполне работоспособной.
Кое-что в игре осталось черно-белым и после переделки, цвета были совсем «дальтонические», всё это отражало первоначальные заблуждения о «цветной религии», но даже неправильную «цветогрелигиозную» модель альтаирцы проработали так тщательно, что эти ошибки нам с отцом не только не мешали, а скорее, напротив, развлекали. Виртуальные города, в которых все кирпичные стены сложены из чередующихся кирпичей золотистого и сиреневого цветов, с ярко-красными водосточными трубами, фиолетовыми деревьями с зелеными листьями на фоне светло-розового неба, по которому иногда неторопливо проплывали салатовые облака, а дождь лился из коричневых туч- были удивительно красивы, при всем своем игрушечно-сказочном неправдоподобии.
Игра-модель использовала реальные исторические события с начала 18 по конец 20 века, с продолжением далее в будущее в соответствии с прогнозами альтаирцев. Можно было, начав с любой даты, начать «играть» за любого человека, от главы государства до простого гражданина, включая также артистов, ученых, изобретателей, телеведущих, музыкантов и руководителей любого ранга и смотреть, как действия игрока сказываются на «жизни» модели. Для изучения жизни людей и стран, понимания «скрытых пружин» истории и нахождения «точек воздействия» это был поистине замечательный и увлекательный тренажер! Вот теперь я понял, что имел в виду Александр, когда сказал, что мы «сэкономим время и силы» – вместо длинных разговоров и скучных учебников мы с увлечением играли!
Однако в первые дни, работая, вернее, играя с тренажером, мы с отцом почувствовали себя «беспомощными богами». Всякий раз, когда я или отец пытались сделать какое-то доброе дело для наших подопытных тамагочей, мы получали ответ по старой пословице, что «добрыми делами вымощена дорога в ад». Игра ясно показала, что наши представления о человеке, человеческом обществе, роли личностей и юридических законов совершенно не соответствовали действительности. Как же так? – удивлялись мы, но наш инопланетный учитель только хитро улыбался и говорил- вот модель, она и сначала была довольно точна, в пределах разумной очень небольшой погрешности, а когда я добавил ошибки людей в определении эмоций, ее точность вообще превзошла все мыслимые ожидания. Через несколько дней Александр, почуяв наше уныние, даже подбодрил нас. – Все данные перед вами, только учитесь, и все в конце концов получится- сказал он.
«Тыкаясь» в разные предполагаемые нами точки воздействия, играя вначале наподобие слепых котят, мы убедились, что ни законы, ни указы правителей, ни научные достижения сами по себе не меняют жизнь общества сразу в лучшую сторону. В большинстве случаев на предпринятые нами действия модель отзывалась примерно как боксёрская груша из упругой резины, все наши усилия мало на что влияли. Потом мы стали получать, неожиданно для самих себя, без всякой системы, исключительно разрушительные последствия. Игровая программа в подобных случаях то и дело развлекала нас колючими шуточками и историческими параллелями, показывая, какие великие люди и правители уже наступали «на те же грабли». Нужно ли говорить, что сначала мы все время пробовали себя в роли правителей государств- и поначалу, не имея опыта, удивились, как мало созидательных идей можно осуществить. Шаг за шагом мы поняли, что правитель может реально улучшать дела в государстве, только постепенно изменяя в нужную сторону существующую ситуацию, позаботившись, чтобы ему не врали о достигнутых успехах или провалах. Иногда движение было заметным, иногда, напротив, нововведения встречали непонимание и противодействие, но любые «резкие движения» всегда вели, в лучшем случае, к лишению правителя власти тем или иным путем (отставка, убийство, перехват реальной власти другим человеком при формальном сохранении прежнего правителя), а в худшем- к кровопролитию в обществе. Мы поняли, что любой правитель, который хочет оставить свой собственный след в истории, должен расширять и укреплять свою формальную и неформальную власть, а пока он не добился уважения, признания и даже доли страха, он может быть только марионеткой. Чем больше у правителя реальной власти, тем более быстрые и резкие изменения он может проводить в обществе- как в сторону улучшения ситуации, так и увы, в сторону ухудшения. А правитель-марионетка не только не может управлять событиями в обществе, он вынужден «плестись в хвосте», пребывая в иллюзии, что у него нет возможности что-либо изменить- как это мы почувствовали на себе вначале игры.
Поняв, что с государствами нам сразу не справиться, мы попробовали себя в роли управляющих меньшего ранга- директоров предприятий, глав регионов и политических партий, – и здесь поняли, наконец, ряд закономерностей. Каждый людской коллектив имеет то, что мы назвали «невидимым правителем». В некоторых случаях их бывает несколько, когда коллектив не однороден и плохо сплочён. Этот невидимка «правит», когда официальный отпускает бразды правления сознательно либо по неспособности управлять, и нет другого реального руководства. Это самоуправление определяется природными законами поведения человеческой стаи наряду со знаниями и заблуждениями, привнесенными культурой. Все это, включая также и прошлый опыт людей из данного коллектива, приводит к возникновению некоторого устойчивого коллективного представления о том, «как должны идти дела» и «что для этого должен делать руководитель», которое и есть, по сути, тот самый «невидимый правитель». Может, будет более понятно, что это за «невидимый правитель», если я скажу, что его «речь» часто звучит в обыденных разговорах людей между собой, когда они обсуждают темы руководства. Реальный руководитель может проводить быстрые изменения, если его действия воспроизводят слова «невидимки» – иными словами, когда коллектив в общем с ними согласен. Если действия реального правителя противоположны действиям невидимки- коллектив сопротивляется, вот здесь-то реальному правителю и нужно употребить власть и авторитет. Если реальный правитель делает действия, непонятные для невидимки, это воспринимается как безобидное чудачество, ему не препятствуют, но и не способствуют. И все это, из-за неизбежных заблуждений «невидимки», вне связи с реальной пользой или вредом для дела, которое зависит от руководителя!
Картина получалась в меру запутанной, мы поняли, почему мнение о руководителе часто расходится с тем, как он влияет на ситуацию. Когда мы увидели роль «невидимого правителя», поняли мы и фразу У. Черчилля, что «каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает». Эта фраза в точности описывает ту ситуацию, что правитель легко, «без сопротивления» может управлять только в русле «невидимого правителя», которого «создает» народ – и конечно, его-то он и «заслуживает».
Интересно, что если правитель проводит меры, направленные на улучшение ситуации, подавляя «невидимого», расширив свою зону власти и подавляя невидимку властностью, то получается «добрый» тиран, который получает признание только после ухода от руководства- он фактически передает свое наследство «невидимому правителю». Злой тиран тоже подавляет «невидимку» своей властностью, однако его меры не направлены на благо самому делу. Если он и передает что-либо «невидимке» в наследство, то это лишь негатив – «так делать нельзя!».
Когда мы рассказали Александру о «невидимом правителе», он рассмеялся и сказал, что мы нашли очень точный образ. И поставил новую учебную задачу- понять, как можно добиваться решения задач управления без тирании. Он сказал- «Вы должны научиться управлять невидимым правителем».
Мы поняли, что управлять невидимым правителем- большое искусство, и осознали роль этики личности правителя. Чтобы править при минимуме тирании, не вводя общество в распри, иногда – кровавые, реальный правитель вынужден довольно часто совершать поступки, которые не способна одобрить общественная мораль, причём совершенно неважно, правит он как созидатель или как разрушитель. Это объяснило нам, почему так редки правители, которые запоминались потом как благодетели своих народов.
Для того, чтобы успешно править в интересах дела, надо не только иметь недюжинную смелость для ведения тайных интриг, но при всём том уметь игнорировать возможности, которые дают интриги для обеспечения благополучия своего и своих близких! При этом, если близкие люди не доросли до понимания первенства дела, возникает еще и конфликт в семье! Нам приходилось выслушивать море идиотских упрёков, в основном от «виртуальных» жён и детей правителей в симуляторе- «ты, такой сякой, ворочаешь миллионами, и живёшь в хибаре!», «не можешь сделать то-то и то-то», при этом «хибара» эта на деле была резиденцией такого солидного размера, что никому в реальности даже не снилась! Перед нашими глазами не раз оживала сказка о рыбаке и золотой рыбке. Мы поняли, насколько редок хороший руководитель, потому что успешный правитель может быть только человеком этики, он частенько должен поступать вразрез с моралью в интересах дела, а придерживаться интересов дела неэтичного человека может заставить только та же мораль.
Симулятор показал нам еще одну поразительную вещь: ложь есть неотъемлемое свойство в организации жизни современного общества, если перестать врать, всё вообще рухнет!
– Как же так? – спросили мы как-то у Александра. Он ответил: поиграйте с симулятором еще немного, вы еще очень многого не знаете про себя самих! Посмотрите финансовую сферу- там вы вообще от многого обалдеете. Он так прямо и сказал, употребив совершенно жаргонное земное словечко «обалдеете».
Как показало будущее, он был, конечно же, прав.
Глава 8. Зверское в человеке, урок дезомбирования
В один из наших вечеров Александр неожиданно для меня вернулся к прерванному в воскресенье уроку эволюции.
Он сказал:
– помнишь один из законов биологической эволюции о том, что развитие организма повторяет, схематично, схему развития вида?
Дарвинизм мы изучали в биологии всего пару месяцев назад, и я, конечно, неплохо ещё помнил эти заумные «онтогенезы», «филогенезы», «фенотипы» и «генотипы».
– В целом помню. Но мы же изучаем эволюцию разума, при чем тут биология?
– А закон, что развитие части и целого происходит по одной и той же общей схеме, выходит далеко за рамки только биологии. Как ты думаешь, что можно так же уподобить развитию разума человека? И вот тебе второй вопрос- для подсказки- как пишут учебники по любой науке, например, физике?
Я подумал. В любой главе учебника по физике изложение начинают от основ, заложенных при самом зарождении данной науки, и в общем следуют линии ее развития умами ученых. То же- в химии и математике. Сначала- простое, то, что открыли и описали раньше, потом- более тонкие и сложные моменты. В истории и биологии- чуть по- другому, но тоже в последовательности времени. А вот в географии, русском языке там все – по-другому, но тоже начинают с более простого.
– я понял, что учебники по некоторым школьным предметам написаны так, чтобы коротко повторить линию истории соответствующей науки, по другим- историю предмета рассмотрения, а по третьим- в логической последовательности от простого к сложному. Везде, где можно- придерживаются принципа от простого к сложному.
– От простого к сложному- это тоже совершенно общий закон любого развития. Значит, чтобы ответить на первый вопрос, нужно уподобить развитие разума человека чему-то.
Я подумал- и ответ вдруг стал мне ясен. Культура- вот что является коллективным хранилищем достижений разума людей! Культура- как бы «геном» человеческого разума, это именно то общее, что впитывает в себя каждое новое поколение людей при развитии индивидуального разума.
– Молодец! А не можешь ли ты сам теперь сообразить, как меняется мышление человека по мере развития его индивидуального разума?
– Что, проходит развитие от подобия культуры первобытного общества до современного?
– Конечно! Только не столь детально, а лишь похоже, схематично. Подумай, и ты сам все поймешь.
Я вспомнил плаксивых, ничего не смыслящих новорожденных. Это было с человечеством еще до разума и культуры, подумал я. Потом человек учится- сначала ходить, потом говорить, именно в такой последовательности. Сначала- животное начало, потом- человеческое, и только так, как это и было в эволюции, ведь связная речь- то что и в эволюции людей сделало человека человеком! Потом человек – мальчик становится задиристым малышом и любит детские сказки, а девочки начинают играть в куклы. Так, первобытные пещерные люди и мифы, матриархат- и вправду, чем-то похоже. Потом- вспомнил, как высоки стандарты дружбы и отваги у старших школьников, юношей и девушек, их тягу к путешествиям и приключениям, чтению соответствующих книг. Рыцарство, крестовые походы, великие географические открытия- вдруг сообразил я. Где-то тут же в истории цивилизации произошёл переход к некоторой свободе личности в разделении труда людей по ремеслам, до того всё переходило по наследству, – а человек к аналогичному времени заканчивает школу, выбирает свой дальнейший жизненный путь. Я подумал, что в ранних культурах, до средневековья, задача выбора жизненного пути лично перед человеком вообще не стояла- всё было решено уже при рождении, сын плотника мог быть только плотником. А вот дальше- кто-то достигает самых высот разума и вносит свой вклад в развитие культуры, а кто-то останавливается и постепенно деградирует.



