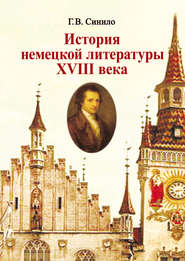
Полная версия:
История немецкой литературы XVIII века
Таким образом, эпоха, боровшаяся с предрассудками, взывает к пересмотру наших предрассудков по отношению к рококо, что в последнее время отражается как в западном, так и в постсоветском (опять же преимущественно российском) литературоведении. Если на Западе поначалу термин «рококо» употребляли как синоним «барокко» (Я. Буркхардт), то на рубеже XIX–XX вв. в нем начинают видеть последний великий стиль (т. е. стиль, охватывающий все сферы и виды искусства), порожденный европейской культурой (Э. Эрматингер, В. Клемперер, Ф. Нойберт, Э. Хюбенер). Во второй половине XX в. такие ученые, как Ф. Мэнге, Р. Лофер, X. Хатцфельд (Гатцфельд), П. Брэди, Д. По, Ж. Вайсгербер, подходят к рококо не просто как стилю с его формальными признаками, но и как к глубокому и сложному феномену европейской культуры и литературы, обладающему собственным мировидением, формирующему собственную концепцию мира и человека. Как отмечает Н.Т. Пахсарьян, «концепция рококо как единого “стиля эпохи” (Лофер) начинает соперничать с представлением о нем как об одном из художественных направлений XVIII столетия»[23]. Сама же российская исследовательница, благодаря которой произошли существенные изменения во взглядах на рококо в постсоветском литературоведении, придерживается именно этой точки зрения и обнаруживает истоки художественного мироощущения рококо «в том кризисе интереса к большой Истории, ослаблении героического пафоса и повороте к частному, интимному существованию человека, которыми отмечена культурная атмосфера конца XVII в.»[24].
Определенные внешние черты стиля рококо фиксирует уже само его название: термин «рококо» образован искусственно по аналогии с «барокко» от франц. roquaille – «мелкие камешки», «ракушки». Таким образом, изысканной формы перламутровая раковина стала своего рода эмблемой стиля рококо, отличительными особенностями которого являются причудливость, прихотливость фантазии, изящество, блеск, тяготение к миниатюрности. Однако, разумеется, сущность рококо несводима к этим внешним признакам, непонятна вне контекста его особого мироощущения.
Долгое время социальные «корни» искусства рококо искали в салонном аристократическом искусстве Франции начала XVIII в. и даже определяли рококо как «стиль эпохи Регентства», отличавшейся в придворной среде крайней легкомысленностью и распущенностью нравов (имеется в виду правление Филиппа Орлеанского, назначенного регентом после смерти Людовика XIV, ибо наследник, Людовик XV, правнук «короля-солнца», был еще мал). Однако подобный подход сужает видение той социальной среды, которая формировала рококо, вносит вульгарно-социологические оттенки в его понимание. Как справедливо замечает Н.Т. Пахсарьян, «связывать порождение любого культурного феномена, особенно в Новое время, с деятельностью определенного класса – значит упрощать проблему генезиса этого феномена»[25]. Исследовательница подчеркивает, что «если в старых учебных пособиях рококо связывали исключительно с переживающим упадок и разложение аристократическим дворянским кругом, то теперь сферой формирования этого искусства считают скорее те слои дворянства, которые склонны были к компромиссу с буржуазией, и собственно буржуазную демократическую среду общества, хотя вопрос этот подробно не разработан и концептуально не осмыслен»[26]. Заметим, что в пользу этой концепции свидетельствует и распространенность рококо именно в бюргерской среде в Германии; крупнейшие немецкие рокайные (рокайльные) авторы были бюргерами по происхождению.
Рококо органично вписывается в контекст Просвещения, что теснейшим образом связано с философскими корнями искусства рококо, с его мировоззренческими особенностями. Основой мировидения рококо является гедонизм нового типа, не связанный, как это трактовали раньше, со сплошной погоней за наслаждениями, с бездумным и безумным прожиганием жизни. Гедонизм рококо исходит из того, что стремление к счастью и наслаждению является естественной потребностью человека, лежащей в основе его разумной природы. В силу этого и сам гедонизм рококо – «естественный», «разумный» гедонизм. Он предполагает смягчение излишне ригористических требований, предъявляемых человеку старой ханжеской моралью. В связи с этим представители рококо критиковали ханжество общества в целом и Церкви в особенности, делали ставку на гуманную снисходительность к человеку, который всегда наделен теми или иными слабостями. Именно опора на «естественную» природу человека и критика религиозной морали в наибольшей степени сближают мировоззрение авторов рококо и просветителей. При этом рококо не обязательно полностью, всегда и во всем включено в орбиту Просвещения. Как отмечает Н.Т. Пахсарьян, «пафосом Просвещения было формирование и осуществление идеала, тогда как писателям рококо была бы близка мысль П. Валери: “Идеал – это манера брюзжать”»[27].
Действительно, рококо меньше всего свойственно стремление к морализаторству, к пафосности, к провозглашению идеалов. Не свойственны ему также тяготение к трансцендентному, метафизическому, стремление ставить «вечные» вопросы – черты, характерные для барокко. Именно поэтому рококо – новое явление, а не трансформация элементов барокко. Рококо целиком обращено к современности, к частному бытию человека, к его внутренним проблемам, к сложностям взаимодействия человека и социума в силу двойственности как индивидуальной, так и общественной морали. Н.Т. Пахсарьян подчеркивает, что писатели рококо стремятся «анализировать и отражать нравы и психологию современного общества, демонстрировать двойственность человеческой природы, ее естественно-скандальные аспекты, выражать компромиссное общественное сознание. В отличие от жизнестроительного пафоса просветительской литературы, ставящей перед человеком задачи самовоспитания, совершенствования себя и мира, литература рококо утверждает естественное несовершенство человека, стремится выявить в нем нюансы “игры тщеславия и достоинства” (Гатцфельд), представить добродетель и идеальность чувств как “труднодостижимые цели” (А. Зимек)»[28].
Следует заметить, однако, что именно стремление выразить компромиссное общественное сознание и понимание необходимости компромисса как непременного условия человеческого общежития также роднит мышление рококо с просветительским. Тем не менее рококо прежде всего делает особый акцент на двойственности и двусмысленности (амбигитивности) человека и морали. В связи с этим, как отмечает Н.Т. Пахсарьян, «одной из важных черт поэтики рококо становится амбигитивность (двойственность-двусмысленность), пронизывающая все компоненты произведения – от первоначального представления читателю достоверного/недостоверного сюжета, композиционной структуры с открытой или прямо незавершенной развязкой, до художественной интонации, в которой непрестанно смешиваются скептическое и трогательное, ирония и меланхолия»[29].
Столь же компромиссно и весьма органично рококо соединяет различные художественные тенденции, в том числе и уходящие корнями в предшествующую эпоху. В сущности, рококо вбирает в себя опыт и барокко, и классицизма, по словам Н.Т. Пахсарьян, «“снимая” их антиномичное противостояние друг другу»[30]. Исследовательница подчеркивает, что «на смену причудливо-сложным метафорам барокко в рококо приходят изящно-прихотливые метонимические сравнения, классицистические ясность и лаконизм дополняются подчеркнутой фрагментарностью и орнаментальностью»[31]. При этом рококо чуждо барочное стремление к метафизичности, к постановке «вечных» и «роковых» проблем бытия, но близки барочные эмоциональность и живописность деталей. Рококо чужды строгий рационализм классицизма, всяческая иерархия жанров, но ему близко стремление классицизма проникнуть в глубины человеческой души. Однако рококо не свойственны пафос классицизма (как и вообще какой бы то ни было пафос), его концентрация на предельно типическом, на создании не образа, но образца, его уход в «вечные», апробированные образы и сюжеты. Рококо, как уже отмечалось, целиком обращено к современности, к психологии обычного, частного человека, и оно раскрывает эту психологию во всей ее амбивалентности, двойственности, порой двусмысленности, играя полутонами, намеками, частностями. «“Играя” частностями, литература рококо обращает внимание современников на те “ограничения, сомнения, беспокойства”, которые таились внутри просветительской мысли, на ту непрочность, неуловимость, двойственность человеческой природы, от которой просвещенному разуму трудно и просто нельзя отмахнуться»[32].
Важнейшим феноменом, присущим рококо и лежащим в основе его мировидения, эстетики и поэтики, является игра. Авторы рококо, пожалуй, раньше других поняли, какое значение в жизни человека имеет игра. Человек, как известно, является прежде всего Homo Ludens – «человеком играющим» (определение известного культуролога И. Хёйзинги), и только в силу этого, возможно, он становится Homo Sapiens – «человеком разумным», создает культуру. Рококо воспринимает и репрезентирует жизнь в искусстве как игру, равно как и само себя понимает как игру, приносящую радость и наслаждение – то «разумное» наслаждение, которое лежит в основе «естественной» природы человека и является опорой гедонизма рококо. Отсюда проистекает особая игривость как отличительная черта стиля рококо. Однако, бесконечно играя и втягивая в эту игру читателя, зрителя, слушателя, рококо поднимает чрезвычайно серьезные проблемы, в том числе и социальные.
Особой заслугой рококо, безусловно, явилось открытие в мире искусства сферы частного, интимного существования. При этом, впадая в некоторую крайность, рококо в полемике с прежними подходами сводит все в жизни к частному и интимному. Тем не менее это не отменяет актуальности и остроты поднимаемых в литературе рококо проблем, но порождает особую манеру репрезентации этих проблем: игривость, легкость, изящество, мягкость, интимность интонации, искусство намека, ироничность, остроумие, эротизм, тонкая гривуазность. Рококо всегда стремится говорить о серьезных проблемах легко, непринужденно, остроумно. Его отличительными чертами являются блеск (в том числе и интеллектуальный), тяготение к миниатюрности и изяществу. Показательно, что именно такая иронически-игривая тональность свойственна столь важному жанру эпохи, как философская повесть. В том числе это касается и знаменитых философских повестей Вольтера, в которых поэтика классицизма соединяется с поэтикой рококо, что особенно сказывается в их тональности, в иронически-игривой, блестяще-интеллектуальной и остроумной манере. Подобная тональность проистекает не столько из стремления позабавить читателя и облегчить ему усвоение просветительских идей, сколько представялет собой глубоко аналитический прием актуализации этих идей, рассчитанный на активизацию читательского восприятия: читатель, как утверждал Вольтер, должен не пассивно «усваивать», но бесконечно «догадываться и предполагать». Это в высшей степени соответствует установке Просвещения – как в жизни, так и в искусстве – на «мужество пользоваться своим собственным умом».
Весь интерес литературы рококо, подчеркивает Н.Т. Пахсарьян, «направлен на постижение интимной психологии частного человека, на историю естественно-скандальных “заблуждений сердца и ума”»[33]. Не случайно первые тенденции литературного рококо можно обнаружить в произведениях писателей, отстаивавших позиции «новых» в знаменитом «споре “древних” и “новых” [“современных”]», или «споре о древних и новых», который развернулся в 90-е гг. XVII в. во Франции и Англии. Во главе «новых», или «современных», стояли Ш. Перро и Б. Фонтенель, «древних» возглавили Н. Буало, Ж. Расин, Ж. Лафонтен, Ж. Лабрюйер. Спор инициировал Перро поэмой «Век Людовика Великого» (1687), где помимо безмерного восхваления «короля-солнца» провозгласил превосходство современной литературы над древней (античной). Эти рассуждения продолжил поэт и философ Фонтенель в «Свободном рассуждении о древних и новых» (1688), где выступил также с осуждением суеверий, свойственных язычникам (а значит – и древним). Далее Перро развил свои взгляды в серии диалогов «Параллели между древними и новыми авторами» (1688–1697). Рассуждения «новых» строились на отождествлении искусства с наукой и перенесении на первое идей научно-технического прогресса. С их точки зрения, если современное общество опередило древних в естественных науках, значит оно не могло не превзойти их и в области искусства. Из этого вытекало, что современные писатели гораздо лучше, а главное – прогрессивнее древних. При этом Перро в «Параллелях…», где он сопоставлял науку, архитектуру, скульптуру, живопись, красноречие и поэзию, выступил против авторитаризма и поставил под сомнение принцип подражания в искусстве. «Древние» же полагали, что античным авторам нужно подражать, ибо они чрезвычайно глубоко выразили сущность человеческой природы, создали ярко выраженные, предельно типические, «образцовые» и вечные характеры. В силу этого невозможно говорить о превосходстве современных писателей над античными. Полемизируя с «новыми», Лабрюйер в «Характерах» (1688) говорил о неизменных константах человеческой личности. Следует подчеркнуть, что преклонение «древних» перед античностью и обращение к созданным ею образам и сюжетам служило помимо эстетических устремлений средством противостояния действительности и даже ее критики.
«Новые» становились все более популярными, хотя исторически они были не правы: прогресс в искусстве – понятие несуществующее, ибо ни один гениальный автор не отменяет предыдущего и не превосходит его, но наиболее полно выражает свое время и одновременно несет в себе вечность, соединяет национальное и универсальное (это лучше всего и раньше всего в конце XVIII в. осознают и объяснят немецкие просветители, в особенности И.Г. Гердер, утвердивший исторический подход к искусству). В этом плане совершенно очевидно, что Данте не может «отменить» или «превзойти» Гомера, а Шекспир – их обоих и т. д. Таким образом, по сути были правы «древние», но на стороне «новых» были симпатии широкой публики, ибо они обращали внимание на современность и ее злободневные проблемы. Отмечая значение «спора “древних” и “новых”» для французской культуры, К.А. Чекалов видит это значение в следующем: «…утверждение и даже абсолютизация рационализма и представления о неуклонном прогрессе в искусстве; акцент на познании политических, этических, религиозных аспектов современной цивилизации; осознание приоритетной роли национальной литературы; возрастающая роль женщин в культурной эволюции»[34]. Исследователь подчеркивает, что «все эти феномены, характерные для культуры Просвещения, в той или иной степени с ним [спором] связаны»[35].
К этому можно прибавить, что «спор “древних” и “новых”» оказался чрезвычайно важным не только для французской культуры. Так, он вызвал особый резонанс в Англии, где к нему подключился в числе прочих Дж. Свифт в своем первом памфлете «Битва книг» (1697), и именно на сторону «древних». Действие памфлета происходит в Лондоне, в Королевской библиотеке, где книги сходят с полок и в буквальном смысле вступают в битву. При этом древних авторов возглавляют прекрасные античные боги, а современных – уродливая богиня Критика. Благодаря такой расстановке сил Свифт недвусмысленно и усмешливо-ядовито высказывает свое критическое отношение к современности, в том числе к современной литературе и критике. В целом спор был важен для всего XVIII в., и не только для него, ибо, в сущности, это был спор о роли и статусе классического наследия, о необходимости ориентации на какой-либо эстетический канон или поисков собственных путей в искусстве, – спор, который в той или иной форме периодически повторяется в культуре. В эпоху же XVIII в. он стимулировал появление искусства рококо, первые литературные тенденции которого можно обнаружить именно в творчестве «новых».
Рококо формирует свою систему жанров: «легкая поэзия» – преимущественно галантная любовная лирика и анакреонтика, подчиненная гедонизму нового типа; «легкая» же галантно-эротическая, часто одновременно сатирическая и философская, ироикомическая поэма; прозаическая и стихотворная волшебная сказка; философская повесть с элементами сказки или фантастики; комедия масок; любовно-психологическая комедия; эссеистика; галантно-эротический, комедийный и социально-психологический роман. Именно последний жанр оказался особенно органичным для рококо, именно с социально-психологическим романом связаны его наиболее значимые открытия. Можно даже сказать, что по-настоящему этот жанр, столь важный для последующих эпох европейской литературы, был создан писателями рококо.
Рококо по-разному развивалось в различных европейских странах. Как направление оно наиболее четко выявилось во Франции. Отсюда, вероятно, долгое время держалось мнение, что рококо – сугубо французское явление, что отнюдь не так. Однако именно французское рококо оказалось наиболее влиятельным для остальных европейских культур и литератур. Именно во Франции раньше всего возникла та утонченная культура мысли, чувства и поведения, тот особый «галантный стиль» жизни, которые отличают рококо. Именно во Франции рококо нашло яркое выражение в живописи и скульптуре (особенно в мелкой пластике), дав миру имена Ф. Буше, Фрагонара, А. Ватто, Фальконе.
В развитии французского рококо выделяют три основных этапа: 1) 1690–1720 гг. – раннее рококо, которое часто тяготеет к интерференции с барокко (А.Р. Лесаж, А.Ф. Прево) или просветительским классицизмом (Ш.Л. де Монтескьё, Вольтер); 2) 1730-40-е гг. – зрелое рококо, характеризующееся взлетом социально-психологического романа (А.Ф. Прево, П.К. Мариво, К.П. Кребийон-сын); в это же время рококо ярко представлено в театре (П.К. Мариво) и поэзии (Ж.Б.Л. Грессе); рокайные тенденции отчетливо выражены в философских повестях Вольтера и в романах Д. Дидро (чисто рокайным является его первый роман – «Нескромные сокровища», 1748); 3) 1770-90-е гг. – позднее рококо, которое, несколько отойдя на задний план в связи со стремительным развитием сентиментализма в 1750-60-е гг., вновь заявляет о себе и разделяется на своеобразные варианты – «сатирический» (Э.Д. Парни, П.А. Шодерло де Лакло) и «апологетический» (Луве де Кувре, Дж. Казанова). Шедеврами драматургии рококо являются и две пьесы П.О. К. Бомарше из его трилогии о Фигаро – «Севильский цирюльник» (1775) и «Женитьба Фигаро» (1784).
В Англии рококо появилось очень рано – в драматургии эпохи Реставрации в конце XVII в. (особенно ярко – в пьесах У. Конгрива), но не сложилось в столь четко выраженное направление, как во Франции. Тем не менее рокайные тенденции «разлиты» по культурному пространству Англии XVIII в., дают яркие плоды в живописи (У. Хогарт, Дж. Рейнолдс, Т. Ромни), определяют лицо английской эссеистики и журналистики (Р. Стил и Дж. Аддисон) и взаимодействуют с другими художественными тенденциями у различных писателей на разных этапах: с барокко – в поздних романах Д. Дефо; с просветительским классицизмом и барокко – у Дж. Свифта; с просветительским классицизмом – у А. Поупа, К. Честерфилда; с сентиментализмом – в романах Л. Стерна и О. Голдсмита. Черты рококо ярко выражены в творчестве Г. Филдинга, сложно взаимодействуя с барокко, просветительским классицизмом и сентиментализмом (при этом многие исследователи, в том числе и английские, полагают, что творчество Филдинга представляет собой образец искусства рококо в чистом виде). Рококо ярко выражено в драматургии Р.Б. Шеридана, прежде всего в его комедии «Школа злословия».
В Италии литературу рококо представляют знаменитые фьябы (волшебные философские сказки для театра) К. Гоцци – в синтезе с барокко, а также творчество П. Ролли, К. Фругони, П. Метастазио.
Рококо достаточно весомо представлено и в литературе Германии, где оно развивается скачкообразно и обнаруживает себя на различных этапах – как в синтезе с другими художественными тенденциями, так и в более или менее чистом виде. На рубеже веков появляется раннее рококо, представленное в прозе К. Вейзе (в синтезе с барокко) и поэзии И.К. Гюнтера (также в синтезе с барокко, в наиболее чистом виде – в студенческих песнях). Затем, в 40-е гг. XVIII в., совершив определенный скачок и под очевидным влиянием французского и английского рококо, немецкое рококо достигает зрелости в творчестве Ф. фон Хагедорна, поэтов-анакреонтиков И.В. Глейма, И.П. Уца, И.Н. Гёца. На зрелом и позднем этапах немецкого Просвещения рококо наиболее ярко представлено в поэзии и прозе К.М. Виланда, его тенденции обнаруживаются в творчестве Г.Э. Лессинга, в лирике Ф.Г. Клопштока (в синтезе с сентиментализмом), в самом раннем (студенческом) творчестве И.В. Гёте.
Под явным влиянием западноевропейских образцов рококо распространяется и в русской культуре. Рокайными тенденциями (чаще всего – в синтезе с барокко, просветительским классицизмом и сентиментализмом) отмечено творчество М.В. Ломоносова, И.П. Дмитриева, Г.Р. Державина, И.А. Крылова, Д.И. Фонвизина. Однако особенно ярко рококо представлено в творчестве И.Ф. Богдановича: шедевром рокайного искусства стала его эротическая и философская ироикомическая поэма «Душенька» (1778).
Еще одним важным художественным направлением XVIII в., порожденным прежде всего духом Просвещения, стал сентиментализм. Сам термин, произведенный от латинского sentio – «чувствую», «ощущаю», а точнее – от английского sentimental – «чувствительный», закрепился сравнительно поздно, когда сентиментализм как стиль и направление уже существовал. Это произошло благодаря знаменитому
роману Л. Стерна «Сентиментальное путешествие» (1768), в предисловии к которому знаменитый английский писатель разделил всех путешественников на разряды (и весьма парадоксально, гетерогенно), а затем объявил, что он выбирает именно сентиментального (чувствительного) путешественника. Д.А. Иванов отмечает, что слово sentimental и раньше существовало в английском языке, но было связано с принадлежностью к области разума и означало «здравомыслящий», «высоконравственный», «назидательный», но затем – и именно благодаря Стерну – поменяло значение. «Теперь sentimental значит также “чувствительный”, “способный к переживанию возвышенных и тонких эмоций” и вводит его в круг наиболее модных слов своего времени»[36].
Таким образом, как подтверждает сам термин, в основе сентиментализма – своеобразный культ чувства и чувствительности, осознание способности чувствовать, ощущать, сопереживать, сострадать как конституирующей черты личности, как высшего критерия подлинной человечности. В связи с этим сентиментализм весьма часто и правомерно называли и называют чувствительным направлением в искусстве. Однако следует помнить, что неправомерно выведение сентиментализма за рамки Просвещения и тем более – противопоставление сентиментализма Просвещению, его культу Разума. Во-первых, напомним, что это культ Разума, соединяющийся с культом Природы, с поправкой на опыт. Основа Просвещения – рационалистический сенсуализм. В этих рамках остается и сентиментализм, базой которого является все тот же сенсуализм Дж. Локка, но при этом философия Локка дополняется философией «морального чувства» А.Э.К. Шефтсбери, а также влиянием концепций субъективного идеализма Беркли и Д. Юма (в Германии – интуитивистской философии И.Г. Гамана), иначе расставляются акценты в соотношении разума и чувства.
Если можно так выразиться, сентименталисты в еще большей степени, чем другие просветители, осознают, насколько разум нуждается в поверке опытом, естественными законами природы, естественными чувствами. Именно сентименталисты первыми распознали двойственность самого разума. С их точки зрения, в разуме можно обнаружить собственно разум, здравый смысл как одно из ведущих позитивных начал в личности и жизни социума, движущих историей и ведущих к несомненному прогрессу, и рассудок, который всегда эгоистичен, утилитарен, корыстен, служит карьере, достижению успеха. Рассудку противостоит чувство, которое находится в согласии с высоким разумом, дополняет и предполагает его («чем разум человека становится просвещеннее, тем его сердце – чувствительнее»). Для сентименталистов именно в чувстве по-настоящему раскрывается человек, чувство прежде всего является подлинным критерием истины, мерилом человечности. Еще Шефтсбери провозгласил, что нравственное начало заключено в природе человека, что «мудрость – скорее от сердца, чем от ума». «Мы велики своими чувствами», – заявил Ж.Ж. Руссо, который во второй половине столетия стал вождем европейского сентиментализма, его крупнейшим представителем и теоретиком.
Безусловно, именно сентименталисты острее всего ощущали неправедность и неестественность современной цивилизации, извратившей природные законы, именно они с особой страстью отстаивали концепцию «естественного состояния» и боролись с сословными предрассудками (и здесь важнейшую роль сыграли трактаты и романы Руссо). Сентименталисты распознали неравенство в самом третьем сословии; отсюда – их пристальный интерес к людям, находящимся на самой нижней ступеньке социальной лестницы, – крестьянам, батракам, слугам и т. д., в целом – ко всем презираемым, униженным, угнетенным. Именно они часто становятся главными героями сентименталистских произведений, именно их внутренний мир, их чувства впервые исследуются европейской литературой серьезно, трогательно, с присущим сентиментализму нравственным пафосом. Безусловно, именно литература сентиментализма отмечена наиболее ярко выраженными демократическими тенденциями. При этом, однако, незыблемым для сентименталистов, как и для просветителей вообще, остается тезис о внесословном подходе к человеку, об изначальной «естественной» природе человека. Поэтому они стремятся всячески доказать, что люди наделены равной способностью чувствовать независимо от их происхождения, что чувство уравнивает всех, что, например, одинаковой способностью любить наделены герцогиня и горничная, аристократ и простой батрак. Но и в самом чувстве писатель и герой сентиментализма остаются аналитиками, стремящимися осознать свои чувства, понять логику алогичного (поэтому, например, романы сентименталистов так часто перерастают в моральные трактаты, содержат в себе в изобилии нравственно-психологические размышления).

