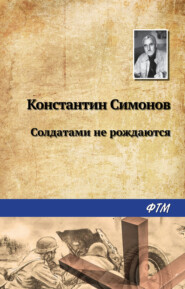
Полная версия:
Солдатами не рождаются
Но Бережной – это и следующий день того же самого наступления, когда стало ясно, что немцы остановили нас, задушили с воздуха, прижали к земле, и когда на НП дивизии среди бела дня под бомбежкой прорвался на своем «виллисе» командующий армией Батюк и с порога беспощадными площадными словами стал крестить Серпилина за то, что дивизия с утра не прошла ни метра.
Серпилин молчал, потому что если б он открыл рот и сказал все, что думает о Батюке и его словах, то вышедший из себя Батюк мог дать волю рукам, и тогда оставалось бы пустить пулю в лоб ему или себе.
Но бритая голова Бережного налилась кровью, и он не своим, задавленным голосом спросил, перебивая Батюка посреди его ругани:
– Товарищ командующий, разрешите обратиться?
И голос его был таким, что Батюк остановился и взглянул на Бережного.
– Я не знаю, почему молчит командир дивизии, – сказал Бережной, – но как же вы смеете с нами так говорить, как будто мы ваша барская дворня, нерадивые холопы! Какой же вы коммунист после этого, товарищ командующий?..
Батюк с искаженным лицом надвинулся на Бережного, и Серпилин уже вскочил, чтобы встать между ними, но Бережной сам отступил на два шага в угол блиндажа, заложил руки за спину, из багрового стал белым и сказал:
– Не подходите, товарищ командующий, я этого и отцу не позволял!
И Батюк опомнился. При всей его грубости и даже хамстве жило в его душе непогасшее чувство солдатской справедливости.
В первый, удачно начатый день он уже поверил, что пробьется к Сталинграду, и свалившиеся потом несчастья довели его до отчаяния, до неудержимой, дикой потребности сорвать свой гнев на других. С тем и ехал сюда прямо под бомбами, гнал машину с прилипшим к рулю от ужаса шофером, готовый – черт с ним! – тоже погибнуть здесь, где зря погибло столько людей. Собственная смерть казалась ему не важной рядом с тем, что произошло, – с неудачным наступлением его армии…
С тем и ворвался сюда, в блиндаж, и вдруг после слов Бережного остановился, тяжело сел на табуретку и сказал Серпилину:
– Давай карту.
Подвинув к себе карту, но еще не глядя на нее, осмотрелся – в землянке, к счастью, не было никого, кроме них троих, – повернулся к Бережному, поднял на него усталые глаза и сказал:
– Дурак ты, комиссар. Думаешь, меня ласкают, думаешь, на моей душе хоть одно живое место осталось?.. Дай воды попить.
Да, разные минуты жизни были связаны в памяти с Бережным и с Пикиным, и все это был кровавый сорок второй, кончавшийся сегодня год…
– Федор Федорович, точка… Ты что задумался? – откуда-то издалека донесся до Серпилина голос Пикина.
– Слышу, что закончил, – сказал Серпилин. – Наливай. Всего две минуты осталось.
Пока Пикин разливал шампанское по кружкам, Бережной включил радио. Было самое время: музыка ворвалась в шорохи и гудочки Красной площади. Все трое поднялись и, стоя у стола навытяжку, слушали, как в Москве далеко и громко падают удары часов.
Когда заиграли «Интернационал», Бережной запел его сильным, высоким голосом и пел до самого конца, а Серпилин и Пикин стояли и слушали молча.
Едва успели выпить, как затрещал телефон. Серпилин взял трубку.
– Спасибо, товарищ командующий. Благодарим… И вас также. Поздравляем Военный совет армии. Спасибо, все в порядке, тишина… Ближе к утру думаю в полки съездить. Так точно, празднуем… Спасибо… Командующий просил передать вам поздравление Военного совета с Новым годом, – сказал Серпилин, положив трубку.
– Судя по времени, – сказал Пикин, взглянув на часы, – в нашу дивизию в первую позвонил.
Пикин был чувствителен к таким вещам, гордился, что дивизия на лучшем счету, и ревновал, когда хвалили соседей.
– Да, – сказал Бережной. – Что-то такое на душе творится, сам не разберу. Что же это за год за такой, сорок второй! Что было и что стало с нами!
– Да, если бы не товарищ Сталин с его железной выдержкой, не знаю, чем бы этот год кончился, – сказал Пикин. – В прошлом году под Москвой до последней минуты три армии держал в кулаке, не дал растащить по частям – и ударил! А теперь здесь, у нас, тоже сумел дождаться часа! Железные нервы на войне – великое дело. Половина всей стратегии.
Серпилин молчал. Спорить с этим не приходилось. Не только не было возможности, но сейчас, после все новых и новых успехов, не было желания спорить.
И только в глубине души, несмотря на все происшедшее за последнее время, как камень лежал старый вопрос: как же так? Откуда же все-таки она взялась, та принесшая необозримые последствия внезапность июня сорок первого? Как мог Сталин так слепо верить в невозможность войны тогда, в июне? Да, слепо. Об этом не скажешь вслух, но другого слова, как ни насилуй себя, не подберешь. А ведь, если глядеть правде в глаза, именно та прошлогодняя внезапность в конце-то концов и привела нас сюда, к Волге. Да, Пикин прав: когда мы громим теперь немцев, за этим стоят и воля и выдержка – это Сталин.
Ну, а то, что было вначале? Это кто?..
– Ты что, в самом деле на рассвете в полки поедешь? – спросил Бережной Серпилина.
С этого вопроса начался разговор о разных дивизионных делах и мелочах, не имевших отношения к новогодней ночи.
Серпилин уже несколько дней собирался походить ночью по окопам переднего края, посмотреть, как идет служба.
– Посплю три часа и поеду. Начну с Цветкова. Могу взять тебя за компанию, – сказал он Бережному.
Но, оказывается, у Бережного были свои планы. Он еще до рассвета хотел выехать в тыл, в Зубовку, куда завтра к утру должны прибыть двести человек пополнения. Собирался встретить их там и поговорить еще до отправки в дивизию.
– Не терпится, – сказал Серпилин.
– Да, просто не верится такому счастью. Я бы, например, сейчас, когда на других фронтах такая война идет, нам бы ни одного человека не отвалил.
– Ну, это как сказать. И мы тут не до конца войны стоять будем, – заметил Серпилин и добавил, что раз Бережной едет в Зубовку, пусть днем на обратном пути заглянет в медсанбат – посмотрит, не создались ли там излишне мирные настроения в связи с затишьем. Есть много признаков, что ему скоро конец!
– Боюсь, как бы Бережной там в медсанбате не задержался, – сказал Пикин. – Туда, говорят, новый хирург прибыл – красивейшая женщина.
– Не беспокойся, не задержится, он не такой бабник, как ты, – сказал Серпилин. – Между прочим, ты хоть бы фигуру, что ли, сменил, а то мне тут зам по тылу на днях говорит: видел вас, товарищ генерал, издали в роте связи, но пока туда-сюда – не догнал: уже уехали. А в роте связи и ноги моей не было!
Пикин с его долговязой, жилистой фигурой в самом деле был издали похож на Серпилина, и это уже не впервые служило в их кругу предметом шуток.
– Вот ты о конце войны заговорил, – посмеявшись над Пикиным и снова став серьезным, обратился Бережной к Серпилину. – А когда он, по-твоему, будет, конец войны, не уточнишь?
– Где? У нас, в Сталинграде, или вообще?
– Вообще.
– Мне про Жукова прошлой зимой рассказывали, когда он еще Западным фронтом командовал. Его водителя другие все подбивали: «Спроси у Жукова, когда конец войны будет». Жукова не больно-то спросишь, но водитель как-то ехал с ним вдвоем и все же решился… Только открыл рот, а Жуков потянулся, вздохнул и говорит: «Эх, и когда только эта война кончится!..»
– Ладно, – рассмеялся Бережной, – допустим, Жуков не знает. А ты?
– Если сегодняшний день считать за середину, – значит, еще год шесть месяцев и девять дней. Девятого июля тысяча девятьсот сорок четвертого.
– Точно, – наморщив лоб, видимо пересчитав уме, сказал Пикин.
– А по-твоему, сегодняшний день можно считать за середину? – спросил Бережной, не уловив по интонации Серпилина, шутит он или говорит серьезно.
– Судя по событиям последнего времени, можно, – сказал Серпилин.
– Долговато, – мрачно сказал Бережной. – Боюсь, как бы бабам после войны не пришлось рожать от беспорочного зачатия!
– Союзники называется! – сказал Пикин. – Неужели и в этом году второго фронта не откроют?
– Ну, раз мы о втором фронте заговорили, значит, сотрясение воздуха началось. Не знаю, как вы, а я намерен на боковую! – Серпилин заложил руки за голову и сладко потянулся.
Когда Бережной и Пикин ушли, он, приказав Птицыну разбудить себя ровно через три часа, разобрал койку, разделся и лег. И, уже лежа, еще раз подумал: «Неужели и в самом деле только середина войны?»
Очень хотелось думать иначе. С тем и заснул…
2
К половине пятого утра Серпилин, как и намеревался, уже был в полку Цветкова. В дороге чуть было не передумал и не поехал к Барабанову, но потом сердито решил: «Ничего, не маленький в конце концов». И начал с левого фланга, с Цветкова.
Подполковник Цветков, когда приехал Серпилин, спал. И Серпилин приказал оперативному дежурному не будить командира полка.
– Пусть спит, обойдусь без него, дайте провожатого.
Но Цветкова все же разбудили, и он нагнал Серпилина на переднем крае, в ходе сообщения.
– Интересно у тебя дело поставлено, Цветков, – притворился сердитым Серпилин. – Командир дивизии одно приказывает, а твои офицеры по-другому делают.
– Сам проснулся, товарищ генерал, – соврал Цветков.
Он раз и навсегда заранее отдал приказание: кто бы и когда бы ни приехал в полк, все равно немедля будить его, если спит, или извещать, если отсутствует. Это было предусмотрено и на тот случай, если прикажут: не будить и не искать! У Цветкова всегда все было предусмотрено.
– Как спишь, Цветков, одетый или раздевшись?
– Раздеваюсь, товарищ генерал. Я своим солдатам доверяю, в кальсонах в плен не попаду.
– Так до сих пор в шинели и ходишь?
– Ничего, товарищ генерал, не воробей, не замерзну, – сказал Цветков.
Он любил форму и в самые трескучие морозы ходил в шипели и сапогах, полушубок и валенки за форму не признавая. Во всяком случае, для себя.
«Цветков есть Цветков», – идя вслед за попросившим разрешения обогнать его, чтобы показывать дорогу, Цветковым, подумал Серпилин, подумал теми самыми словами, которые часто можно было услышать в штабе дивизии, когда речь шла о Цветкове.
«Цветков есть Цветков», – говорили с разными интонациями. Говорили и тогда, когда Цветков выполнил в точности задачу дня, но, не успев получить новую, начинал топтаться на месте, не развивал успеха на свой страх и риск; говорили и тогда, когда он в самом безвыходном положении мертвой хваткой удерживал позиции, не помышляя ни отойти без приказа, ни запросить разрешения на отход. «Цветков есть Цветков», – говорили и тогда, когда он, не раскрывая рта, сидел на совещаниях, и тогда, когда он гораздо скупей соседей представлял к наградам, считая, что в его полку не сделано ничего сверх должного, и тогда, когда из политдонесений выяснялось, что именно у Цветкова нет ни одного случая самострела, ни одного ЧП, ни одного перебоя с подачей горячей пищи на передовую.
Цветков был командиром полка одновременно и средним и образцовым. И в зависимости от обстановки на первый план выступало то одно, то другое. Восхищались им редко, но не уважать его было невозможно.
У него и сейчас, в эту ночь, в полку, разумеется, был образцовый порядок. Все, кому было положено спать, спали, все, кому было положено дежурить, дежурили в полной боевой готовности.
Пройдя полтора километра по окопам переднего края, Серпилин вместе с Цветковым остановились около одного из дежуривших в окопах солдат.
С тех пор как солдат заступил на пост, у немцев ничего не было слышно. В их траншеях, тянувшихся по краю хутора, вдребезги разбитого бомбежкой, всю ночь стояла мертвая тишина.
– Только час назад один свисток был и небольшое хождение, – доложил солдат.
– Возможно, разводящего вызывали, – сказал Серпилин.
– Всю ночь молчат фрицы, – сказал солдат. – На пустой желудок много не наговоришь.
– А как у вас с пищей, с наркомовским пайком? Жалоб нет? – спросил Серпилин и почувствовал, как Цветков весь напрягся за его спиной.
– Никак нет, товарищ генерал, – сказал солдат.
«Черт его знает, – подумал Серпилин, – не вводили мы этого „никак нет“ и не культивировали; само собой, незаметно из старой армии переползло и возродилось, и все чаще приходится его слышать… Парень молодой, не с собой его принес, здесь приобрел».
Он спросил у солдата фамилию, какого он года и откуда. Фамилия у солдата оказалась редкая – Димитриади, он был грек из-под Мариуполя, двадцатого года рождения.
– Говорят, товарищ генерал, что Сталинградский фронт уже на полдороге к нашему Азовскому морю.
– Примерно так, – сказал Серпилин. – Об итогах боев за шесть недель слышали или еще не слышали?
– Говорят, богатое сообщение. Обещали утром в роту доставить.
Серпилин уже собирался идти дальше, но солдат остановил его вопросом:
– Товарищ генерал, разрешите спросить?
– Ну?
– Правда, по радио передали, что союзники сегодня ночью по всей Европе высаживаются?
– Кто это вам сказал?
– Солдаты говорят. Говорят, Черчилль обещал свое слово все-таки выдержать, которое товарищу Сталину дал, – чтобы их высадка хоть и в последний день, а все-таки по сорок второму году считалась.
– Тише, – сказал Серпилин и приложил палец к губам.
Солдат удивленно посмотрел на Серпилина и шепотом спросил:
– Почему?
– Немцы услышат, – сказал Серпилин. – По какому радио эту военную тайну приняли – по московскому или по солдатскому?
– По солдатскому, – поняв шутку, улыбнулся солдат.
– Нет, товарищ боец, – уже серьезно сказал Серпилин. – Не высадились наши многоуважаемые союзники и пока не собираются. Так что придется нам и в дальнейшем на самих себя рассчитывать.
– Конечно, – ответил солдат с готовностью, в которой чувствовалось разочарование. Ему было жаль, что солдатское радио набрехало и, стало быть, опять выходит, что войну не укоротит никакое чудо.
Следующий солдат, с которым говорил Серпилин, был ему знаком и раньше. Фамилия забылась, остался на памяти только подвиг: в одну сентябрьскую ночь, когда дивизии до зарезу нужен был «язык», этот невидный и немолодой уже солдат вызвался пойти взять «языка»; и пошел и взял.
– «За отвагу» вам вручили, а, Мартыненко? – спросил Серпилин, радуясь, что все же вспомнил фамилию солдата.
– Вручили, – сказал Мартыненко, а по его тону чувствовалось, что все это давно прошедшее. Сейчас его занимало другое: он был родом из Мелового, Ворошиловградской области, слышал сегодня, что по радио передавали итоги боев, и хотел знать, не указано ли там в итогах их Меловое. – Что станцию Чертково взяли, это еще три дня назад было в сводке, а Чертково и Меловое, можно сказать, одно и то же, – рядом!
Серпилин сказал, что в итогах вообще нет названий освобожденных нами населенных пунктов, только указано их общее количество – около полутора тысяч.
– А я все жду, жду, когда в сводке про наше Меловое напишут. Хуже всего, если передний край там встал между Чертковом и Меловым, тогда, значит, все в порошок сотрут. – Мартыненко с ожесточением махнул рукой.
Он был прав – знал войну по-солдатски и еще сам других мог поучить, что такое война. Серпилин только сказал ему в утешение, что помнит эти места еще по гражданской и навряд ли наши, взяв Чертково, застряли, сильных естественных рубежей там нет, и наши, скорей всего, сразу продвинулись за Меловое, до Камышовой.
То, что командир дивизии, оказывается, знал эту их донбасскую речку, обрадовало Мартыненко. Речка вдруг стала как бы их общей знакомой.
– Так думаете, разом до Камышовой дошли, товарищ генерал?
Серпилин развел руками.
– По здравому смыслу – так, но отсюда не видно.
– А когда здесь в наступление на фрица пойдем? Когда его к ногтю возьмем? – жестко, с озлоблением спросил Мартыненко, и в его голосе было нетерпение, хотя в тот день, когда фрицев будут брать здесь к ногтю, не кому другому, а именно ему придется первым вылезать из этого ближайшего к немцам окопа и идти по открытому полю под пулями к вон тем виднеющимся вдали снежным буграм.
«Наступление, наступление, – подумал Серпилин, когда, простившись с Мартыненко, пошел по окопу дальше. – Одно дело – с нетерпением ждать его, планируя в армейском или дивизионном масштабе, а другое дело – вот так ждать, как солдаты ждут. Закончилась артподготовка – вылез и пошел, а не пойдешь, прижмешься к земле под пулями, вот и не будет никакого наступления. И „вперед“ некому кричать, кроме самого себя. А что кого-то во время первой же атаки убьют, или тебя, или другого, – это у начальства уже запланировано, и солдат знает, что запланировано, что без этого не обойдется. Знает, а все же спрашивает: когда фрица к ногтю? И не для виду спрашивает, а по делу. И хотя у тебя больше орденов на груди, чем у него и есть и будет, а высшая доблесть – все же солдатская. И коли ты стоящий генерал, про тебя, так и быть, скажут: „Это солдат!“ А если нестоящий, так в не дождешься это услышать».
– Что, товарищ генерал, к командиру роты зайдем? – спросил Цветков.
– А кто у тебя сейчас на роте? Алферов? – через плечо спросил Серпилин.
– Алферов.
Серпилин прислонился грудью к брустверу окопа, чувствуя даже через полушубок ледяной, пронзительный холод окаменевшей земли.
Там, впереди, за тишиной, были немцы.
Что они делали в эту новогоднюю ночь в своих ледяных норах? О чем думали, на что надеялись? Но что бы они там ни думали, каждый по отдельности, все вместе они думают как раз противоположное тому, что думаем мы. И каждое наше желание сталкивается с их противоположным, и каждая наша надежда – с их противоположной, и каждый наш расчет – с их противоположным. И все, что было и будет хорошо для нас, было и будет плохо для них. И так до конца войны, до последнего ее часа, потому что война как монета: сколько ни катится, а все равно на ребро не станет – ляжет или орлом, или решкой, кто-то сверху, кто-то снизу; пощады нет и не будет ни нам от них, ни им от нас…
Отсюда, из этого окопа на передовой, все казалось огромным: и то, что впереди, и то, что сзади. А ты, человек, находился как бы на самом острие громадного клина, молча упертого в этой тишине в грудь врага. И какая бы великая сила ни была там, позади тебя, все равно, когда начнется, она тобой, твоим телом, вдавится в это лежащее впереди враждебное, молчаливое пространство.
«Да, нелегкая солдатская должность, – подумал Серпилин. – А сколько людей на ней…»
– Ну что ж, зайдем к Алферову.
Когда они зашли в землянку, лейтенант Алферов, бледный, худенький юноша в съехавшей на затылок ушанке и полушубке внакидку, сидел на корточках, притулясь к железной печке-времянке, и, прижав к уху телефонную трубку, чему-то задумчиво улыбался. Огонек «катюши» – сплющенной снарядной гильзы – освещал улыбавшееся лицо Алферова и спавших вповалку на полу людей.
Увидя входящее начальство, Алферов положил трубку, стряхнул с плеч полушубок, нахлобучил ушанку, вытянулся в струнку и стал докладывать.
– За дежурного самого себя оставили? – спросил Серпилин, выслушав доклад.
– Так точно. Решил: пусть поспят. А мне не спится.
– С кем говорили? – спросил Серпилин. – Возьмите трубку, договаривайте, раз начали.
По смущенному виду командира роты ему показалось, что тот вел новогодний, неслужебный разговор. Может быть, с каким-нибудь знакомым санинструктором, хотя Цветков стремился обходиться в полку без женского пола и у него санинструкторы – почти все мужчины.
– Я ни с кем не говорил, товарищ генерал, – сказал Алферов. – Я песню слушал.
– Вон как! – удивился Серпилин. – Объясните, недопонял.
– У нас тут есть одна связистка на промежуточной, – сказал Алферов, с опаской покосившись в сторону командира полка, – очень поет хорошо. Иногда, когда она ночью дежурная бывает, мы ее по линии спеть просим.
Серпилин перехватил взгляд Алферова и повернулся к Цветкову. Цветков смотрел на своего командира роты со смешанным выражением свирепости и удивления. От удивления брови Цветкова поднялись так высоко, что казалось, сейчас сорвутся с лица и улетят.
– И какие же она песни поет? – спросил Серпилин.
– Разные, товарищ генерал, – сказал Алферов. – Сейчас «Землянку» мне пела. – И опять покосился на Цветкова.
– Хорошая песня, – сказал Серпилин. – Может, ее и нам с командиром полка можно послушать?
Алферов неуверенно посмотрел на него, не шутит ли; увидел, что не шутит, и взял трубку.
– Селиверстова, а Селиверстова… Селиверстова… Давай еще спой. – Он вопросительно посмотрел на Серпилина: сказать, для кого придется петь, или не говорить?
Серпилин покачал головой: «Не надо».
– Спой, Селиверстова, – просительно повторил Алферов, – только сначала, а то меня тут прервали.
И, подождав несколько секунд, подался в сторону и передал трубку Серпилину.
Серпилин услышал доносившийся сквозь хриплые потрескивания молодой женский голос:
Бьется в тесной печурке огонь,На поленьях смола, как слеза…Он любил эту песню, потому что было в ней, и в музыке и в словах, что-то особенное, щемящее солдатскую душу и до того простое, что проще не скажешь.
До тебя мне дойти нелегко,А до смерти – четыре шага…«Вот именно, четыре шага, а то и два и один».
Почему-то сегодня он думал о смерти больше обычного, не о своей смерти, а вообще о людской.
Он вздохнул и перед последним куплетом протянул трубку Цветкову:
– Послушай и ты, как у тебя в полку поют.
Цветков взял трубку, как змею, и недовольно приложил ее к уху. По выражению его лица было ясно, что ни качество пения, которое его мало интересует, ни либеральное отношение командира дивизии к такому нарушению порядка не смогут переменить его последующего образа действий, – Алферову все равно потом достанется на орехи за то, что занимал линию разной чепухой. Командир дивизии может позволить себе мягкосердечие, ему что – посидит да уйдет, а Цветкову надо оставаться и блюсти порядок в своем полку, и никто, включая командира дивизии, не может ни лишить сто этого права, ни освободить от этой обязанности.
Серпилин потрогал ладонью крохотную железную печурку – она была совершенно холодная.
– Бедно живешь, студент, – сказал он Алферову.
– Каждая щепка на счету, товарищ генерал, экономим. Подтапливаем, когда уж терпеть нет возможности.
Серпилин назвал его студентом потому, что он и в самом деле был недоучившийся студент, кончивший краткосрочные курсы младших лейтенантов и попавший на фронт прямо с курсов в июле в самую кашу.
Алферов не был тогда в их дивизии и забрел в нее случайно, когда с несколькими бойцами из своего взвода без оружия бежал куда глаза глядят. Бежал и нарвался на Серпилина, который поставил его по стойке «смирно» и спросил голосом, не предвещавшим ничего хорошего:
– Вы кто, командир Красной Армии или трус, спасающий свою шкуру? Отвечайте: кто вы?
Вот тогда-то он и сказал дрожащими губами ту нелепую, запомнившуюся Серпилину фразу:
– Я вчерашний студент, товарищ генерал.
Он сам хорошо помнил ту минуту и знал, что Серпилин тоже помнит ее, потому что командир дивизии уже не впервые, встречая его, называл студентом.
Но сейчас он не стыдился той минуты, о которой они оба помнили, потому что знал – он сейчас уже не тот, каким был тогда, и на груди у него новенький орден Красной Звезды, полученный за ноябрьские бои. И командир дивизии видит этот орден, и не только видит, но и сам подписал наградной лист на него.
А Серпилин, глядя на этого студента, теперь лейтенанта и командира роты, радовался, что не расстрелял тогда перепуганного мальчишку, хотя вполне могло случиться, что и расстрелял бы. Обстановка была такая, что миндальничать не приходилось.
Цветков положил трубку и, напоминая о себе, негромко кашлянул.
– Ума не приложу, что нам с топливом делать, – сказал Серпилин, кивнув на времянку. – Только и остается одно – Сталинград поскорее…
Он не договорил, потому что, глухо отдавшись в землянке, до них донесся слитный звук нескольких почти одновременных разрывов.
– Выйдем, послушаем, – сказал он Цветкову, – наши или немцы дурака валяют.
Как только вышли на воздух, сразу стало ясно, что это на участке барабановского полка, за три километра отсюда. Разрывы были частые; судя по звуку, рвались немецкие мины. Потом в грохот разрывов вплелись пулеметные очереди.
Что немцы предприняли ночную вылазку, не верилось. У них было не подходящее для этого настроение.
«Наверное, что-нибудь непредусмотренное творит сам Барабанов, а немцы бьют по нему», – с дурным предчувствием подумал Серпилин и, не возвращаясь в землянку, пошел вместе с Цветковым в штаб полка, чтобы оттуда связаться с Пикиным и узнать, в чем дело.
По дороге в штаб полка, продолжая прислушиваться к разрывам и стрельбе, Серпилин все больше укреплялся в первой пришедшей в голову мысли: Барабанов по случаю Нового года задумал отличиться и взять неудобно торчавшую перед фронтом полка высотку, которую в дивизии звали «Бугор», а в полку за ее вредность – «Чиряк». Стремясь поскорее проявить себя как командир полка. Барабанов уже несколько раз домогался разрешения взять ее, но Серпилин не разрешал, придерживал.

