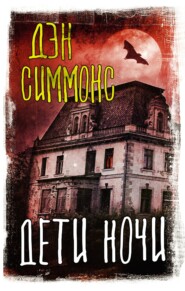
Полная версия:
Дети ночи
Я вздохнул. Фортуна полез под стол и извлек оттуда бурдюк с вином, но я сделал отрицательный жест и, вытащив термос из кармана пальто, наполнил обе кружки. Раду Фортуна кивнул; выглядел он так же серьезно, как и все три последних дня. Мы сдвинули кружки.
– Skoal, – сказал я.
Питье оказалось очень неплохим; свежим, еще сохраняющим температуру тела. До свертывания, когда появляется привкус горечи, было еще далеко.
Фортуна осушил кружку, вытер усы и одобрительно кивнул.
– Ваша компания купит завод в Копша-Микэ? – спросил он.
– Да. Или наш консорциум привлечет к этому европейские инвестиции.
– Вкладчики Семьи будут счастливы, – улыбнулся Фортуна. – Пройдет лет двадцать пять, прежде чем эта страна сможет позволить себе роскошь беспокоиться об окружающей среде… и о здоровье людей.
– Десять лет, – возразил я. – Забота об экологии заразна.
Фортуна сделал жест руками и плечами – особый трансильванский жест, которого я не видел уже много лет.
– Кстати о заразе, – сказал я. – То, как обстоят дела с приютами, иначе как кошмаром не назовешь.
Маленький человечек кивнул. Тусклый свет от двери за моей спиной освещал его лицо.
– Мы не располагаем такой роскошью, как ваша американская плазма или частные донорские банки крови. Государству пришлось позаботиться о запасах.
– Но СПИД… – начал было я.
– Будет локализован. Благодаря гуманным порывам вашего доктора Эймсли и отца О’Рурка. В течение нескольких следующих месяцев американское телевидение будет передавать спецвыпуск в «60 минутах», в «20/20» и во всяких прочих программах, которые появились у вас со времени моей последней поездки. Американцы сентиментальны. Общественность поднимет вой. Потечет помощь от разных организаций и тех богатеев, которым больше нечем заняться. Семьи начнут усыновлять больных детей, платить бешеные деньги за их доставку в Штаты, а местные станции будут брать интервью у матерей, рыдающих от счастья.
Я кивнул. Фортуна продолжал:
– Ваши американские медики, плюс британские, и западногерманские наводнят Карпаты, Бучеджи, Фэгэраш… А мы «обнаружим» еще много приютов и больниц, еще такие же изоляторы. За два года это будет локализовано.
– Но они могут забрать значительное количество ваших… емкостей… с собой, – мягко сказал я. Фортуна улыбнулся и снова пожал плечами.
– Есть еще. Всегда найдется еще. Даже в вашей стране, где подростки убегают из дома, а фотографии пропавших детей помещают на молочных упаковках. Разве не так?
Допив из кружки, я поднялся и шагнул к свету.
– Те времена прошли. Выживание равняется умеренности. Все члены Семьи должны это однажды усвоить. – Я повернулся к Фортуне, и мой голос зазвучал более гневно, чем я ожидал: – Иначе что? Опять инфекция? Рост Семьи, более быстрый, чем рост раковых клеток, более страшный, чем СПИД? Ограничиваясь, мы сохраняем равновесие. Если же продолжать… размножаться, останутся одни охотники без добычи – обреченные на голод, как когда-то кролики на острове Пасхи.
Фортуна поднял руки ладонями вперед.
– Не стоит спорить. Нам это известно. Поэтому Чаушеску пришлось уйти. Поэтому-то мы его и сбросили. Ведь вы ему и отсоветовали идти в тоннель, где бы он добрался до кнопок, с помощью которых мог уничтожить весь Бухарест.
Какое-то мгновение я только смотрел на маленького человечка, а когда я заговорил, голос мой звучал очень устало:
– И все же будете ли вы мне подчиняться? После стольких лет?
Глаза Фортуны ярко блестели.
– О да.
– А вы знаете, почему я вернулся?
Фортуна встал и двинулся в сторону темного коридора, откуда начиналась еще более темная лестница. Он показал наверх и повел меня в темноту, в последний раз исполняя при мне роль гида.
Помещение служило кладовой над рестораном для туристов. Пять веков назад здесь была спальня. Моя спальня.
Другие члены Семьи, которых я не видел уже несколько десятилетий, если не столетий, ждали здесь. Облачением им служили темные одежды, которые использовались лишь для наиболее торжественных церемоний Семьи.
Моя кровать тоже ждала меня. Над ней висел мой портрет, написанный во время заточения в Вышеграде в 1465 году. Я задержался на мгновение, чтобы взглянуть на изображение: на меня смотрел венгерский аристократ: соболий воротник отделан золотой парчой, накидка застегнута на золотые пуговицы, шелковая шапочка обшита по моде того времени девятью рядами жемчуга и крепится застежкой в форме звезды с большим топазом в центре… Лицо очень знакомое и одновременно поразительно чужое: длинный орлиный нос, зеленые глаза – настолько большие, что кажутся гротескными, широкие брови и еще более широкие усы, слишком большая нижняя губа над выступающим подбородком… Все вместе создавало высокомерный и вызывающий беспокойство образ.
Фортуна меня узнал. Несмотря на годы, на разрушающее действие возраста и произведенные пластическими операциями изменения – несмотря ни на что.
– Отец, – прошептал стоявший у окна старик.
Я всматривался в его лицо, часто моргая от усталости. Мне трудно было точно вспомнить его имя…
Возможно, один из кузенов моих добринских братьев. Последний раз я видел его во время Церемонии более полутора столетий тому назад, когда уезжал в Америку.
Он вышел вперед и робко прикоснулся к моей руке. Я кивнул, достал из кармана перстень и надел его на палец.
Все в комнате преклонили колени. Я слышал хруст и щелканье древних суставов. Добринский кузен встал и поднял к свету тяжелый медальон. Мне был знаком этот медальон. Он представлял собой символ ордена Дракона, тайного общества, появившегося в 1387 году и реорганизованного в 1408-м. Золотой медальон на золотой цепи имел форму дракона, свернувшегося в кольцо, с открытой пастью, растопыренными лапами, поднятыми крыльями; хвост закручивается к голове, а вся фигура переплетается с двойным крестом. На кресте – два девиза ордена: «О quam misericors est Deus» («О, как милосерден Господь») и «Justus et Pius» («Справедливый и благочестивый»).
Мой отец был посвящен в орден Дракона 8 февраля 1431 года… В тот год, когда я появился на свет. Будучи драконистом, последователем «draco», то есть «дракона» по-латыни, он носил этот знак на щите, а также чеканил его на своих монетах. Поэтому мой отец и получил имя Влад Дракула; «dracul» на моем родном языке означает «дракон» и «дьявол» одновременно. «Dracula» – «сын дракона».
Добринский брат повесил медальон мне на шею. Я ощутил тяжесть золота, тянущего меня вниз. Около дюжины находившихся в комнате мужчин пропели короткий гимн и стали подходить ко мне по одному, чтобы поцеловать перстень, после чего возвращались на свои места.
– Я устал, – сказал я. Голос мой напоминал шорох древнего пергамента.
Тогда они сгрудились вокруг, освободили меня от медальона и дорогого костюма, а затем бережно облачили в льняную ночную рубашку. Добринец отбросил с кровати льняное покрывало. Исполненный благодарности, я лег в постель и откинулся на высокие подушки.
Раду Фортуна придвинулся поближе.
– Ты приехал домой, чтобы умереть, Отец. – В его словах не прозвучало вопроса. У меня не было ни нужды, ни сил, чтобы кивнуть.
Старик, который мог быть одним из прочих добринских братьев, подошел к кровати, опустился на колено, еще раз поцеловал мой перстень и произнес:
– В таком случае, Отец, не пора ли подумать о рождении нового Князя и его Посвящении?
Я посмотрел на этого человека, представив себе, как бы Влад Цепеш с висевшего над моей головой портрета посадил бы его на кол или выпустил из него потроха за столь неделикатный вопрос.
Но я в ответ лишь кивнул.
– Это будет сделано, – сказал Раду Фортуна. – Женщина и повитуха для него уже подобраны.
Я прикрыл глаза, подавив улыбку. Сперма собрана много десятилетий назад и объявлена жизнеспособной. Мне оставалось лишь уповать на то, что им удалось ее сохранить в этой полумертвой злополучной стране, где даже надежда имела мизерные шансы на выживание. Я не испытывал ни малейшего желания знать грубые подробности подбора и осеменения.
– Мы начнем подготовку к Посвящению, – сказал старик, которого я знавал когда-то как молодого князя Михню.
Настойчивости в его голосе не было, и я понял почему. Мое умирание будет медленным процессом. Болезнь, с которой я живу так давно, легко меня не отпустит. Даже теперь, когда болезнь поистаскалась и одряхлела от времени, она руководит моей жизнью и сопротивляется ласковому призыву смерти.
С этого дня перестаю пить кровь. Я принял решение, и оно останется неизменным. Вновь переступив порог этого дома, взойдя на древнее ложе, по своей воле я отсюда не уйду.
Но даже при соблюдении поста неутомимая способность моего тела исцелять себя, продлевать собственное существование будет сопротивляться моему желанию умереть. Еще год или два, а то и больше я буду находиться на смертном одре, прежде чем мой дух и притаившееся на уровне клеток стремлениепродолжать уступит неизбежной необходимости закончить.
Я решил, что буду жить до тех пор, пока не появится на свет новый Князь и не совершится обряд Посвящения, – сколько бы месяцев или лет ни прошло до этого момента.
Однако к тому времени я не буду уже престарелым, но вполне живым Вернором Диконом Трентом: я стану лишь мумифицированной карикатурой на человека со странным лицом, изображенного на портрете над моей кроватью.
Не открывая глаз, я поглубже вдавливаюсь в подушки и кладу желтоватые пальцы поверх покрывала. Старейшие члены Семьи один за другим подходят, чтобы в последний раз поцеловать мой перстень, а затем начинают перешептываться и переговариваться вполголоса в соседнем зале, как крестьяне на похоронах.
Внизу, на древних ступенях дома, в котором родился, я слышу легкое поскрипывание и пошаркивание, когда остальные члены Семьи длинной чередой поднимаются наверх в благоговейном молчании, чтобы посмотреть на меня – как на какую-нибудь мумию из музея, как на опустошенное, пожелтевшее в своей гробнице восковое тело Ленина, – и поцеловать перстень и медальон ордена Дракона.
Я позволяю себе уплыть в сны.
Чувствую, как они роятся вокруг меня, эти сны о минувших временах, иногда – о лучших временах, а чаще всего – о временах страшных. Я ощущаю их тяжесть, тяжесть этих снов крови и железа и отдаюсь им, впав в тревожное забытье, в то время как в памяти моей чередой проходят последние дни, шаркая, будто любопытные и скорбные члены моей Семьи – Семьи Детей Ночи.
Глава 7
Доктор Кейт Нойман сходила с ума. Она вышла из детского отделения, прошла через изолятор, где выздоравливали ее восемь больных гепатитом В, постояла перед никак не обозначенной комнатой для умирающих младенцев, заглянув при этом в окошко и стукнув кулаком по косяку, после чего стремительно направилась в сторону ординаторской.
Помещения бухарестской Первой окружной больницы напоминали Кейт старую переплетную фабрику в Массачусетсе, где она как-то проработала целое лето, чтобы скопить достаточную сумму на учебу в Гарварде: те же коридоры, выкрашенные в грязно-зеленый цвет, такой же потрескавшийся и замызганный линолеум, такие же гнусные люминесцентные лампы, дающие неровный жидкий свет; по вестибюлю прохаживались мужчины того же, что и на фабрике, пошиба: с небритыми физиономиями, развинченными походками и самодовольными, похотливыми взглядами искоса.
Кейт Нойман была сыта по горло. Прошло шесть недель с тех пор, как она приехала в Румынию для «короткой консультационной поездки», сорок восемь часов с того времени, как она спала, и почти двадцать четыре часа после того, как она принимала душ. Сколько дней она не выходила на улицу, на солнце, и не сосчитать, а с того момента, как она видела умирающим последнего ребенка из комнаты без таблички, прошло лишь несколько минут. Для Кейт Нойман всего этого было достаточно.
Она ворвалась в дверь ординаторской и остановилась, тяжело дыша, оглядывая обращенные к ней озадаченные лица врачей – в основном смуглолицых мужчин; многие были в хирургических костюмах не первой свежести и с жиденькими усиками. Их сонный вид не вводил Кейт в заблуждение, поскольку она знала, что долгое пребывание в палатах здесь ни при чем: большинство врачей имели короткий рабочий день и недосыпали лишь из-за того, что вели так называемую ночную жизнь в послереволюционном Бухаресте. На дальнем конце кушетки Кейт заметила синие джинсы и почувствовала облегчение оттого, что вернулся ее румынский приятель и переводчик Лучан Форся, но тут человек подался вперед, и она увидела, что это не Лучан, а всего лишь американский священник, которого дети называли отцом Майком, и гнев, подобно черной приливной волне, вновь захлестнул Кейт.
Заметив у бака с горячей водой администратора больницы, господина Попеску, она обрушила свое негодование на него.
– Сегодня мы потеряли еще одного ребенка. Еще одного ребенка не стало. Девочка умерла совершенно бессмысленно, мистер Попеску.
Круглолицый администратор взглянул на нее, моргнул и помешал ложечкой чай. Кейт была уверена, что он ее понимает.
– Не хотите ли узнать причину? – спросила она. Двое педиатров начали пробираться к выходу, но Кейт встала в дверном проеме, подняв руку жестом регулировщика.
– Все должны это услышать, – тихо сказала она, не отрывая взгляда от Попеску. – Неужели никто не хочет знать, почему мы потеряли сегодня еще одного ребенка?
Администратор облизнул губы.
– Доктор Нойман… вы… наверное… очень устали, да?
Кейт не сводила с него глаз.
– Мы потеряли маленькую девочку в девятой палате. – Голос у нее был таким же безжизненным, как и взгляд. – Она умерла от эмболии, потому что кто-то небрежно делал внутривенное вливание… чертовски простое, рутинное вливание… И толстая сестра, от которой несет чесноком, вогнала пузырек воздуха прямо в сердце ребенку.
– Imi pare foarte rаu, – пробормотал господин Попеску, – nu am lnteles.
– Черта с два не понимаете! – бросила Кейт, почувствовав, что ее гнев превращается во что-то острое, хорошо заточенное. – Отлично все понимаете.
Она повернулась и окинула взглядом дюжину уставившихся на нее медиков.
– Вы все понимаете. Эти слова очень легко понять… Небрежность, халатность, неряшливость! Это уже третий за месяц ребенок, которого мы теряем исключительно из-за дурацкой некомпетентности.
Кейт взглянула в лица ближайших к ней педиатров.
– А вы где были?
Тот, что повыше, повернулся к своему коллеге и с ухмылкой сказал что-то шепотом по-румынски.
Слова «tiganesc» и «corcitura» прозвучали вполне отчетливо.
Кейт шагнула к нему, с трудом подавляя в себе желание врезать прямо по густым усам.
– Я знаю, что девочка была цыганской полукровкой, дерьмо ты собачье.
Она сделала еще один шаг, и румын, хоть и был дюймов на пять выше ее и фунтов на семьдесят тяжелее, вжался в стену.
– Еще я знаю, что вы продаете выживших детей американским проходимцам, которые рыщут вокруг, – сказала Кейт педиатру, нацелив палец так, будто собиралась проткнуть ему грудь. В следующее мгновение она отвернулась, словно ее оттолкнул исходивший от него запах. – И чем занимаются остальные, я тоже знаю. – Ее исполненный отвращения голос звучал настолько измученно, что она сама еле его узнавала. – Самое малое, что вы могли сделать, – это спасти больше детей…
Двое стоявших у входа педиатров торопливо выскочили из ординаторской. Другие врачи тоже оставили чай и потихоньку покинули помещение. Попеску подошел ближе и сделал попытку прикоснуться к руке Кейт, но передумал.
– Вы очень устали, мисс Нойман…
–Доктор Нойман, – произнесла Кейт, не поднимая глаз. – И если, Попеску, уход в палатах не станет лучше, если еще хоть один ребенок умрет из-за небрежности, ей-богу я пошлю доклад в ЮНИСЕФ, Общество по усыновлению и спасению детей и во все прочие организации, на которых вы греете руки… Такой доклад, что вы от американцев впредь гроша ломаного не получите и ваши ненасытные друзья пошлют вас в то место, которое нынче заменяет в Румынии ГУЛАГ.
Попеску покраснел, побледнел, опять покраснел, попытался на ощупь поставить чашку на стол сзади, уронил ее и, прошипев что-то по-румынски, шаткой походкой вышел.
Кейт Нойман постояла еще немного, по-прежнему упершись взглядом в пол, потом подошла к столу, подняла чашку и поставила ее в нишу над баком с горячей водой. Почувствовав утомление, накатывающее медленными волнами, она закрыла глаза.
– Ваша работа здесь почти закончена? – подал голос американец.
Кейт отреагировала незамедлительно. Бородатый священник все еще сидел на кушетке; его синие джинсы, серая футболка и кроссовки выглядели неуместно и несколько нелепо.
– Да. Еще неделя – и я уеду при любом раскладе.
Священник кивнул, допил чай и отставил кружку с отбитыми краями.
– Я наблюдал за вами, – мягко сказал он. Кейт посмотрела на него. Она всегда недолюбливала верующих, а целомудренные попы раздражали ее больше всего. Священники казались ей бесполезным анахронизмом – колдунами, сменившими страшные маски на белые стоячие воротнички и расточающими фальшивую заботу, стервятниками, вьющимися над больными и умирающими.
Кейт осознала, насколько она устала.
– А я за вами не наблюдала, – тихо сказала она, – но видела, как вы общаетесь с только что поступившими детьми. Дети к вам тянутся.
Отец О’Рурк кивнул.
– А вы спасаете им жизнь.
Он подошел к окну и отодвинул плотные шторы. Насыщенный свет вечернего солнца залил комнату – возможно, впервые за несколько лет.
Кейт моргнула и потерла глаза.
– Смотрите-ка, доктор Нойман, совсем как днем. Может быть, прогуляемся?
– Нет необходимости… – начала было Кейт, пытаясь рассердиться на него за столь самоуверенный тон, но не смогла. Эмоций у нее осталось не больше, чем заряда в подсевшем аккумуляторе.
– Хорошо, – сказала она.
Они вместе вышли из больницы навстречу бухарестскому вечеру.
Глава 8
Обычно Кейт добиралась до своей квартиры на такси уже затемно, но сейчас они шли пешком и она жмурилась от густого вечернего света, падающего на стены домов. Ей казалось, будто раньше она никогда не видела Бухареста.
– Значит, вы остановились не в отеле? – спросил священник.
Кейт стряхнула с себя задумчивость.
– Нет. Фонд снял для меня небольшую квартирку на улице Штирбей Водэ. – Она назвала адрес.
– А… – произнес он. – Это прямо рядом с садом Чишмиджиу.
– Рядом с чем? – переспросила Кейт.
– Сад Чишмиджиу. Одно из моих любимых мест в городе.
Кейт покачала головой.
– Ни разу не была. – Она криво улыбнулась. – Не слишком-то много я видела с тех пор, как сюда приехала. Вне больницы я провела всего три дня, да и те проспала.
– А когда вы приехали? – спросил он.
Сейчас они шли по оживленному бульвару Бэлческу, и Кейт заметила, что отец О’Рурк прихрамывает. Здесь, на тротуаре возле университета, тени были более глубокими, а воздух – прохладным.
– Гмм… четвертого апреля. О господи!
– Понимаю, – сказал отец О’Рурк. – В больнице день кажется неделей. Неделя – вечностью.
Когда они дошли до площади Виктории, Кейт вдруг остановилась и нахмурилась.
– Какое сегодня число?
– Пятнадцатое мая, – ответил священник. – Среда.
– Я обещала вернуться в Центр по контролю за заболеваниями к двадцатому. Они прислали мне билеты. Совсем забыла, что уже так скоро…
Она тряхнула головой и обвела взглядом площадь. Позади виднелась церковь Крецулеску, вся в лесах, сквозь которые проглядывали пулевые выбоины на закопченном фасаде. Дворец Республики на противоположной стороне получил еще более серьезные повреждения. Над входом с колоннами висели красные и белые флаги, но двери и разбитые окна были заколочены досками. Справа находился отель «Атене-палас», который функционировал, но некоторые окна зияли провалами, а строчки пулевых отверстий напоминали шрамы от иглы на коже наркомана.
– ЦКЗ? – переспросил О’Рурк. – Так вы из Атланты?
– Из Боулдера, в Колорадо, – ответила Кейт. – Головная контора все еще в Атланте, но в течение нескольких лет там же располагался и Центр по контролю за заболеваниями. Филиал в Боулдере появился сравнительно недавно.
Они пересекли площадь Виктории на зеленый свет и пошли по улице Штирбей Водэ. Перед отелем «Бухарест» на них налетели три цыганки. Целуя собственные руки, протягивая младенцев и похлопывая Кейт по плечу, они наперебой повторяли:
– Рог la bambina… Рог la bambina…
Кейт полезла в карман, но отец О’Рурк уже наскреб мелочи для каждой. Цыганки скорчили физиономии, увидев монеты, бросили что-то на своем наречии и поспешили вновь занять места перед отелем. За всем этим безразлично наблюдали от входа валютчики в джинсах и кожаных куртках.
Штирбей Водэ была поуже, но также забита громыхающими по булыжнику и разбитому асфальту дешевыми «дачиями», а также «мерседесами» и «БМВ», принадлежавшими местной мафии. Кейт снова обратила внимание на легкую хромоту священника, однако решила ничего не спрашивать.
– А вы откуда?… – вместо этого поинтересовалась она, прикидывая, стоит ли добавлять «святой отец». Но язык у нее так и не повернулся.
Улыбка тронула уголки губ священника.
– Орден, в котором я работаю, располагается в Чикаго, и здесь я выполняю поручения Чикагской епархии, хотя уже довольно давно не бывал там. В последние годы я много времени провел в Центральной и Южной Америке. А еще раньше – в Африке.
Кейт взглянула влево, узнала улицу Тринадцатого Декабря и сообразила, что до дому ей осталось один-два квартала. При свете дня улица имела совсем иной вид, чем по вечерам.
– Значит, вы что-то вроде специалиста по Третьему миру, – констатировала она, чувствуя себя слишком усталой, чтобы сосредоточиться на разговоре. Тем не менее английская речь доставляла ей удовольствие.
– Что-то вроде, – согласился отец О’Рурк.
– И вы специализируетесь на сиротских приютах по всему миру?
– Не совсем. Если у меня и есть специальность, то это дети. Иными словами я стараюсь отыскивать их в приютах и больницах.
Кейт понимающе кивнула. Лучи света, отразившись от зданий, упали на несколько ореховых деревьев вдоль улицы, окутав их золотисто-оранжевым ореолом. Воздух был насыщен типичными для любого крупного восточноевропейского города запахами: неочищенные выхлопные газы, сточные воды, гниющие отходы… Но в прохладном вечернем ветерке ощущалась и свежесть зелени вперемешку с ароматом цветов.
– Неужели на улице здесь может быть так хорошо? Кажется, за все время мне запомнились только дождь и холод, – тихо сказала Кейт.
Отец О’Рурк улыбнулся.
– Погода с начала мая почти летняя. А деревья на улицах к северу отсюда – просто что-то невероятное.
Кейт остановилась.
– Номер пять. Это мой дом. – Она протянула ру-ку: – Ну что ж, спасибо за прогулку, за беседу… м-мм… святой отец.
Священник смотрел на нее, не подавая руки. Выражение его лица казалось несколько непонятным, замкнутым, будто он спорил о чем-то с самим собой. Кейт впервые заметила, какие у него удивительно ясные серые глаза.
– Парк там, недалеко, – сказал О’Рурк, показывая вдоль Штирбей Водэ. – Меньше квартала отсюда. Вход в парк трудновато заметить, если не знаешь, где он. Я понимаю, вы измотаны, но…
Кейт действительно чувствовала себя как выжатый лимон, да и настроение было паршивое. Кроме того, этот целомудренный поп в джинсах ничуть не казался ей соблазнительным, несмотря на поразительно красивые глаза. И все же впервые за несколько недель она говорила не о медицине и с удивлением поймала себя на том, что не испытывает желания закончить прогулку.
– Да-да, конечно, – кивнула она. – Покажите мне парк.
Сад Чишмиджиу заставил Кейт вспомнить собственные представления о том, каким когда-то, десятки лет тому назад, был Центральный парк в Нью-Йорке, еще до того, как по ночам в нем воцарилось насилие, а днем – суета. Чишмиджиу был настоящим городским оазисом, потаенной жизнью деревьев, воды, цветов и игры света в листве.
Они прошли через узкую калитку в высоком заборе, которую Кейт прежде не замечала, спустились по лестнице между высоких валунов и оказались в лабиринте мощеных тропок и булыжных дорожек. Несмотря на обширные размеры, от всех уголков парка веяло уютом: ручеек, протекающий под каменным арочным мостиком, переходящий затем в широкую тенистую заводь; неухоженная длинная лужайка, явно не тронутая косой садовника и радующая глаз буйством диких цветов; игровая площадка, звенящая голосами детей, одетых еще по-зимнему; присматривающие за ними бабушки сидят на длинных скамейках, а вокруг каменных столов и лавок собрались кучками мужчины, наблюдающие за шахматной игрой; со стороны украшенного разноцветными огнями ресторана на островке доносятся звуки смеха.
– Чудесно! – воскликнула Кейт.
Миновав шумную детскую площадку, они прошлись по восточному берегу заводи, взошли на бетонный мостик и остановились, чтобы понаблюдать за парочками, катавшимися на лодках внизу.

