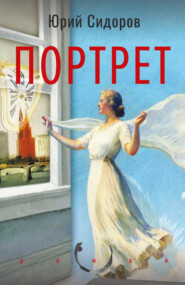
Полная версия:
Портрет
– Вам тоже нравится? – в глазах Зарубина вспыхнул огонек.
– Молодой человек, я, конечно, не мужчина, но, объективно говоря, она хороша. Так что у вас неплохой вкус, поздравляю и желаю, чтобы и в жизни вы встретили достойную пару.
– Я хотел про художника побольше узнать. Правду говорят, что рисуют картины с живых людей? Ежели так, то он знает Ревмиру.
– Кого-кого? – переспросила Заречная.
– Ну, девушку с картины.
– Это вы ей такое имя придумали?
– Да. Ревмира! Революция мировая!
– Не знаю, не знаю, – покачала головой заведующая. – Вы меня простите великодушно, но она не очень похожа на революционерку. По крайней мере, в таком платье по баррикадам не побегаешь. Да, и вот что. Я не сильна в новых именах, но как раз недавно читала, что Ревмира – сокращение не от революции мировой, а от революционного мира. Но тут вы, думаю, лучше знаете.
– Ничего вы не смыслите, – с горячностью выпалил Матвей. – Она революционерка, самая настоящая. Иначе и быть не может, ведь она красивая. А то, что в платье таком, да рядом с розами, то Ревмира задание выполняет в тылу у белых.
– Как же ей родители могли такое имя дать, если она до революции на свет появилась? – улыбнулась Заречная.
– До революции? – почесал в голове озадаченный Мотя. – А она… она сама потом имя сменила. Вот!
– Хорошо, хорошо, пусть будет по-вашему, – успокоительно произнесла Пульхерия Петровна. – Так чем я могу помочь вам?
– Я хотел про художника узнать. Раз он Ревмиру рисовал, то, значит, они знакомы.
– Понятно, – прервала Заречная. – Художник картину не рисует, а пишет, но это так, к слову. Теперь насчет Станового. «Девушка и утро» попала в наш музей в начале двадцатых, можно поднять бумаги и уточнить. Я тогда еще здесь не служила. На самой картине даты, насколько я помню, нет, только автограф художника. Но в любом случае полотну больше десяти лет. Если предположить, что Становой писал с натуры, что бывает часто, но не всегда, то в этом случае вашей Ревмире сейчас за тридцать. Давайте сделаем так. Я наведу справки и завтра, если заглянете, расскажу, что дастся узнать.
– Меня с утра выписывают завтра, – угрюмо пробурчал Мотя.
– Откуда выписывают? Из больницы? То-то я думаю, почему вы несколько дней подряд в музее проводите, с вашего строительства путь неблизкий. Из больницы сбежали?
– Ничего я не сбежал, – обиженно насупился Матвей, – меня сам Никодим Петрович отпустил. Ой, совсем забыл, он же вам привет, нет, не привет, как это… поклон передавал.
– И ему от меня поклон передайте. Только обязательно! Замечательный доктор! И человек душевный. Извините, что так долго вас держу, распорядок больничный ломаю. Идите, голубчик, а то Никодим Петрович ругаться будет, еще и мне попадет.
Матвей вышел из кабинета Заречной. Оказавшись в залах музея, он, естественно, позабыл о всяческих обедах, больницах, вообще о времени и направился туда, куда не мог не пойти.
На профиль Ревмиры сейчас падала тень: свет в зале не зажигали, поскольку посетителей практически не было, а заунывный дождик за окном добавлял серости. Матвею показалось, что летнее утро с сочной зеленью за окном девушки потускнело, будто подернулось вуалью.
– Слушай, парень, тебе пора в больницу, – за спиной Моти прозвучал глуховатый женский голос.
Он обернулся и увидел Машу, второго экскурсовода. Та отличалась от остальных работниц музея своим несколько фамильярным отношением к посетителям. Хотя, может, и не так: чужая душа – потемки.
– Чего уставился? – гнула свою линию Маша. – Мое дело маленькое. Заведующая сказала отправить тебя в больницу, вот я и отправляю. Давай живей! Мне домой надо успеть малого покормить, а я тут с тобой стою.
– Ладно, ладно, не бухти. Иду сейчас.
– Сам не бухти! Я к нему по-доброму, а он еще обзывается.
В больнице Зарубина предупредили, чтоб зашел после обеда к доктору. Никодим Петрович сидел за своим небольшим столом и старательно заполнял медицинские документы, осматривая перо после каждого погружения в чернильницу. Увидев Матвея, он промокнул написанное и отодвинул чернильный прибор.
– Заходите, молодой человек. Как там Пульхерия Петровна? Поклон от меня передали?
– Да, – сконфуженно ответил Зарубин, вспомнив, как едва не забыл выполнить просьбу доктора. – Она вам тоже поклон передавала.
– Спасибо. Замечательная женщина! – улыбнулся Никодим Петрович. – Надеюсь, она вам помогла?
– Нет, – обреченно опустил голову Матвей. – Ничего не знает про этого художника. Не местный он.
– Не отчаивайтесь. Насколько я знаю Пульхерию Петровну, она всевозможные справки соберет, уяснит, что сможет.
– Да, она сказала, что документацию посмотрит, как картина в музей попала. Под конец дня велела заглянуть. Так что я еще раз отлучусь. Можно, доктор?
– Хорошо. Теперь по завтрашнему дню. Я созвонился с медпунктом на строительстве. Часов в десять-одиннадцать будет грузовая машина в Потехино, какое-то оборудование поступило, забирать будут. С этой оказией и поедете. Только, Матвей, в кабину сядете и никак иначе. Я и шоферу скажу, и старшему. Легкие беречь – вот таков мой наказ! С терапевтом из медпункта я переговорил. Вам сейчас работу полегче подыщут.
– Как это полегче? – Зарубин чуть не задохнулся от возмущения. – Я не белоручка, я доброволец! В комсомол недавно приняли. Буду ту же работу делать, что и бригада. Я вот на сварщика хочу выучиться. Только первый день начал… когда упал.
– Значит так, товарищ комсомолец! – неожиданно жестко ответил Никодим Петрович. – Вы ведь социализм строить сюда приехали? Так? Я спрашиваю! Так?
– Так, – еле слышно пробормотал Мотька.
– А раз так, то зарубите себе на носу, товарищ Зарубин, что социализм строят не абы какие, а здоровые люди. Посему, милостивый друг, извольте заботиться о своем здоровье и беспрекословно исполнять врачебные предписания.
Матвей решил с доктором не спорить, а то вдруг запрет его сейчас в больнице и поминай как звали – никакой Ревмиры сегодня уже не увидишь и про художника ничего не узнаешь. Хотя Мотя особо и не надеялся после утреннего разговора с заведующей. Раз она не знает, то кто тогда вообще знать должен?
Зарубин помчался в музей, сразу как вышел от доктора.
Тетя Глаша решительно отвела Мотину руку с протянутыми деньгами за билет:
– Брал уже сегодня. Так проходи. Ходишь будто на работу.
Зарубин собирался поинтересоваться насчет Пульхерии Петровны, но замялся и прямиком направился к Ревмире. Дождик, пока он пребывал в больнице, стих, и сквозь редкие, неуверенные просветы в тучах иногда выскакивали лучи долгожданного осеннего солнышка. Вот и сейчас один из них ласково скользил чуть ниже глаза Ревмиры. Лучик то становился блеклым от набегающего облака, то вновь разгорался. Моте казалось, что Ревмира ему подмигивает. Какая жалость, что художник изобразил девушку почти в профиль. Матвею нестерпимо хотелось увидеть скрытый Становым второй глаз Ревмиры. Он представлялся еще прекраснее, чем тот, который был на картине. Хотя как второй глаз может быть прекраснее первого? Она, Ревмира, косая, что ли? От такой мысли Матвею стало не по себе. Нет, второй глаз такой же красивый, как и первый, просто Ревмира становится еще восхитительней, когда смотрит обоими. Такое объяснение Матвея устроило, и он успокоился.
Зарубин почувствовал взгляд в спину, рыскающий прямо по позвоночнику. Он порывисто обернулся и увидел Машу. Опять нелегкая экскурсоводшу принесла, мешается под ногами весь день.
– Зайди к Заречной! – в приказном тоне сообщила Маша и удалилась.
Матвей повернулся к картине и, улыбнувшись Ревмире, повел глазами в направлении правого нижнего угла полотна. Там был автограф художника. Зарубин, конечно, видел его и раньше, но специально никогда не всматривался. Ну написана витиевато буква «В», после которой стоит точка, больше похожая на запятую, а дальше различимы только буквы «Ст», завершающиеся росчерками, которые уменьшались в размере и одновременно закруглялись кверху. Неужели сейчас он, Мотька, узнает, кто такая Ревмира? Если бы заведующая ничего не выяснила, то зачем тогда было присылать за ним экскурсоводшу?
Глава 10. Таинственный Василий становой
Надежды Матвея не оправдались. Едва он просунул раскрасневшееся лицо в кабинет, Заречная вылила на взбудораженную головушку Зарубина добрый ушат холодной воды:
– Проходите, голубчик, присаживайтесь. К искреннему моему сожалению, поиски ни к чему не привели. В архиве есть только расписка о том, что несколько картин, в том числе «Девушка и утро», конфискованы у купца Поливанова и переданы в сектор культуры исполкома. А уже оттуда они поступили в наш музей. Было это в 1921 году, в апреле, число, простите, запамятовала.
– Поливанов? Кто это такой? – растерянно начал спрашивать Матвей. – Он наверняка Станового знает, раз картины были.
– Василия Станового была изъята только одна эта картина, остальные принадлежат другим художникам.
– А сам Поливанов? Давайте прямо сейчас к нему пойдем! – в словах Матвея заполыхал огонь надежды.
– Купец Поливанов был арестован за контрреволюционную деятельность. О дальнейшей судьбе его мне неизвестно. Видимо, в тюрьму посадили. Либо на Север выслали, тогда многих туда отправляли.
Матвей от расстройства прикусил губу. Вот возникла одна-единственная тоненькая ниточка и порвалась, едва появившись на свет. Поливанов – конечно, классовый враг, наверняка много кровушки попил у бедноты, но сейчас он совсем не помешал бы на свободе, в своем собственном доме. Зарубин представил себе, как с пристрастием допрашивает жирного купчишку с лоснящимися щеками: все бы выведал про Станового. Этот Поливанов такое вспомнил бы, о чем и думать забыл!
– Матвей, мне не хочется вас расстраивать, – мягким, успокаивающим голосом продолжила Заречная, – но вряд ли удастся еще что-то узнать здесь, в Потехино. Я не искусствовед. Конечно, раз в нашем музее есть работа Василия Станового, то надо заниматься поисками. Запросы послать в Москву, в Ленинград, хотя бы в Южноморск. По-хорошему, туда надо ехать, поработать в архивах. Но сейчас нам командирование не под силу ни в финансовом плане, ни в кадровом. Одно могу сказать точно – Становой не из местных. Возможно, «Девушку и утро» купец Поливанов купил во время своих путешествий, он на широкую ногу жил.
– А мог ему кто-то обменять Ревмиру за продукты, за хлеб? – Зарубин искал спасительную зацепку.
– Ревмиру вашу точно никто не мог обменять, – заулыбалась Пульхерия Петровна. – Крепостное право в прошлом веке отменено. А «Девушку и утро»… да, такое возможно. Но я не знаю потехинцев, у которых были бы частные собрания. Значит, и в этом случае речь идет о приезжем.
Моте стало тошно от бессилия. Не хотелось никуда идти, вставать со стула, даже шевелить пальцами. Неужели ему никогда не удастся найти и увидеть Ревмиру? Какое неумолимое в своей безысходности слово – никогда…
– Не переживайте, голубчик, – Заречная протянула через стол руку и мягко провела по ладони Матвея. – Это всего лишь картина, портрет. Не уверена даже, можно ли ее отнести к портретному жанру: девушка в профиль изображена, многое от натюрморта присутствует.
До сознания Матвея долетало: «портрет», «натюрморт». В другой раз он с любопытством спросил бы, что означает красивое, необычное слово «натюрморт», но сейчас Зарубиным овладело опустошающее безразличие.
– Знаете, я вам завидую белой завистью, – продолжала успокаивать заведующая, – такой молодой, красивый, целая жизнь впереди. Какой-то девушке очень повезет с вами. И обязательно вам учиться надо. В «Южноморской правде» пишут, что оборудование на заводе самое современное будет. Вот направят вас и товарищей ваших учиться, тогда сможете в архивы походить, в библиотеках посидеть. Я уверена, что многое о Василии Становом узнаете и нам в музей сообщите. А наши экскурсоводы будут о вас потом рассказывать посетителям.
– Сейчас надо цеха возводить, не ко времени учеба, – пробурчал Мотя, но про себя отметил, что нарисованная Заречной перспектива ему нравится.
– Учеба, голубчик, всегда ко времени. Уж поверьте мне! – убежденно заключила Пульхерия Петровна.
– А в Потехино ни у кого больше нельзя спросить?
– Я подумаю, – уклончиво произнесла Заречная и начала передвигать бумаги на столе.
Матвей понял, что ему пора уходить. В конце концов, у заведующей наверняка есть всякие важные и неотложные дела, от которых он полдня отвлекает.
– Спасибо большое. Я тогда пойду, пожалуй… по музею похожу…
– Походите-походите, – с лукавой искоркой в глазах разрешила Заречная. – Только мы сегодня не до пяти, а до четырех работаем, вы нас простите великодушно.
Распрощавшись с Пульхерией Петровной, Зарубин устремился к Ревмире и провел возле нее неотлучно остававшееся до закрытия время. Оказалось, что, пока он был у заведующей, напротив картины появился стульчик. Матвей поначалу решил, что поставили для пожилых посетителей. Правда, бабушек и дедушек в музее он особо не замечал. Но мало ли, вдруг они в другое время приходят. А Матвею до стула нет дела – он молодой. Но постепенно слабость от перенесенной болезни заставила Зарубина сначала опереться на стул руками, а потом и вовсе сесть.
Приглушенные детские голоса слышались из зала, посвященного природе севера Южноморского края. Наверное, школьники пришли на экскурсию. Матвею очень не хотелось, чтобы непоседливые и шумные пацаны и девчонки врывались в мир, где он был наедине с Ревмирой. Но голоса оставались вдалеке, а затем и вовсе стихли.
Матвей сидел на стуле и неотрывно смотрел на Ревмиру. Глаза его от напряжения стали подергиваться, и казалось, что по лицу и фигурке Ревмиры скользит рябь, будто по поверхности воды в теплый летний день. Мотя сомкнул веки. Девушка начала медленно отплывать в неизвестную даль. Вот она повернула голову, и Матвей наконец увидел ее лицо целиком. Ревмира улыбнулась и размеренно помахала рукой. Она спиной вперед заскользила вдаль, а желтые розы выпорхнули из вазы и вереницей полетели за своей хозяйкой, обрамляя фигурку девушки ярким, праздничным созвездьем…
– Надо же! Как умаялся-то, – растормошила Зарубина властная рука тети Глаши. – Ты, мил человек, совсем обессилеешь тут. Это подумать только – заснул прямо в зале. Давай собирайся, закрываемся мы.
Матвей встрепенулся и суетливо поднялся со стула. Тяжело было смириться, что улыбающаяся, приветливо помахивающая рукой и свободно скользящая по воздуху Ревмира – всего лишь сон.
– Завтра, небось, опять на свиданку явишься? Так не забудь, мы с утра закрыты будем, позже приходи. А вообще гляжу я, что дурь тебе, парень, в голову втемяшилась. Ты будто мешком пыльным ударенный, – подытожила тетя Глаша, собираясь запереть за Матвеем дверь.
– Уезжаю я, выписывают завтра. Теперь и не знаю, когда прийти смогу, – Зарубин грустно посмотрел на билетершу.
На следующий день «яшка» подкатила к больнице, еще и десяти часов не было. В кузове виднелся большой деревянный ящик, на котором черной краской было неровно написано «электродвигатель». Около кабины, посвистывая, прохаживался крепкий молодой парень с пробивающимся из-под кепки густым рыжим чубом.
Никодим Петрович, отдав необходимые распоряжения, первым вышел к калитке и там поджидал Матвея. Когда Зарубин, держа в руке свой заплечный мешок, спустился с крыльца, врач что-то методично и размеренно рассказывал парню с рыжим чубом. Мешок оттягивал Моте руку. Набитые сейчас внутрь теплые вещи привезли ребята из бригады в первый же выходной, когда Зарубин еще метался в бреду. Потом лэпщики, несколько человек, были еще один раз. Матвей тогда начинал выздоравливать, но был довольно слаб, быстро утомлялся. Потому ребята пробыли недолго. Мотю удивило, что среди них не было Лешки Хотиненко. Спрашивать о нем Зарубин не стал, мало ли какие дела могли помешать лучшему другу приехать, но с огорчением подумал, что когда-нибудь их с Лешкой жизненные дорожки вот так возьмут и разойдутся. В конце концов, не век же неразлучными быть. Жизнь – не трудкол, посложнее будет.
Распрощавшись с Никодимом Петровичем, Матвей залез в кабину и с любопытством принялся рассматривать приборы со всякими хитрыми стрелками и цифрами. Раньше в кабине «яшки» ездить ему не приходилось, все только в кузове.
– Чего, интересуешься? – легко впорхнул на водительское место рыжеволосый парень. – Давай знакомиться! Александр, Сашка!
У шофера оказался легкий и дружелюбный характер. Он всю дорогу балагурил, рассказывал всяческие истории. Матвей совсем перестал замечать ямы и ухабы, от которых тело подбрасывало будто на пружинах, а затылку приходилось в принудительном порядке «целоваться» с верхом кабины.
Себя Сашка называл потомственным шофером в третьем поколении. Оказалось, что его дед и отец работали извозчиками в Москве. Матвей впервые в жизни познакомился с настоящим, коренным москвичом. Александр с таким упоением рассказывал о своих родных Сокольниках, что Моте очень захотелось там побывать, увидеть все своими глазами.
Зарубин выждал минутку, когда Сашка сделал паузу, закуривая папиросу, и спросил:
– Чего ж ты тогда из самой Москвы сюда подался?
– Чудак-человек! – широко улыбнулся шофер, протягивая Моте пачку сигарет. – Я такой же доброволец, как и ты, через райком сюда попал. Хочу своими руками завод-гигант построить, чтоб было потом о чем внукам рассказать! Да ты кури!
– Нельзя мне сейчас, – с грустью посмотрел на папиросы Мотя. – Знаешь, мне Москва сказочной кажется. Когда малым был и на вокзале тырил, столько раз хотел в Москву удрать. Один раз мы с Лешкой, он сейчас тоже здесь, на строительстве, может, слышал, Хотиненко фамилия, так вот мы с ним в товарняк забрались. Да нас хромой Прохор, это главарь наш был, нашел. И хорошо, что нашел, этот товарняк не в Москву ехал, а наоборот совсем. А мы подумали, что раз на табличке написано, то, значит, прямиком в столицу.
– Да, Москва, она всем городам город! – мечтательно произнес Сашка. – Еще побываешь! Вот завод построим, в отпуск к своим махну. Давай вместе! Сокольники тебе покажу, Замоскворечье, ну, Кремль увидишь, самой собой. Москва-река, она знаешь какая широкая! Не меньше Волги! Правда, я на Волге не был, но Москва-река точно ей не уступает. На трамвае покатаешься! Знаешь, как на подножке висеть надо? Я тебя научу!
– Ты недавно приехал? – спросил Мотя. – Я тебя не припоминаю.
– Три недели. Пусть не с начала, но я считаю, что не опоздал. Цеха начинают монтироваться, металлоконструкции со станции возим, вот теперь оборудование пошло.
За разговором незаметно прикатили в Соцгород. Сашка высадил Мотю в палаточном городке, а сам укатил к котлованам. Зарубин накинул вещмешок на плечо и посмотрел по сторонам. Все знакомое, будто и не уезжал никуда. Да и больница вместе с Никодимом Петровичем начала расплываться в памяти, как волна от брошенного в речку камушка. Словно и не было ни метания в жару, ни слабости, пронизывающей каждую клеточку, ни льющегося в окошко белесого света низкого осеннего неба. Была только Ревмира.
Матвей пошел к палатке, около которой столкнулся с погруженной в поварские хлопоты Люсей. Та бросилась на шею к Зарубину:
– Мотька, дорогой, наконец-то! Выздоровел? Полностью? Давай я тебя накормлю.
Пока Матвей с проснувшимся от свежего воздуха аппетитом уминал порцию каши, Люся, перескакивая с пятого на десятое, рассказывала ему новости.
– Ты одна сегодня? Где Поля? – спросил Матвей, когда поток слов от Лусине начал иссякать.
– В другой бригаде она, – ответила девушка, потупив глаза. – Пошла на каменщицу учиться. Ей, Мотя, сейчас очень деньги нужны. Ты ведь не знаешь, она у нас ездила домой, к своим, отпуск дали, целых двенадцать дней. На той неделе вернулась, к выходному. Ну и… в общем, трудно там, голодно…
Люся замолчала. Матвей вопросительно посмотрел на нее. Девушка вздохнула:
– Пусть лучше она сама тебе расскажет. Или Лешка твой. А мне другую напарницу обещали. Ждем новичков, завтра должны приехать.
Мотя отправил в рот последнюю ложку каши, придвинул к себе кружку с чаем и… вздрогнул. Издалека, с той стороны, где располагался «Таежный», послышался собачий лай. От него по коже побежали мурашки.
Глава 11. Отчаяние от бессилия
– Видела, какой Мотька исхудавший вернулся? – Лешка прижал к себе сидевшую рядом Павлину.
Поля затуманенными от слез глазами смотрела вдаль, на другой берег Мотовилихи. Невдалеке, в пожухлой траве, послышалось стрекотание кузнечика, сумевшего дожить до этой поздней осенней поры.
– Поля, перестань! Нельзя же так, – Алексей увидел, как задергались губы девушки, и принялся осыпать ее поцелуями.
– Ты… ты… исхудавших не видел, – сквозь всхлипывания прорывались обрывки слов Павлины.
– Ну перестань, Полечка! Ты же денег им оставила. Много денег. Они теперь перезимуют, – горячо зашептал Хотиненко.
– Ты ничего не понял, Лешенька! Уполномоченные придут и всё-всё выскребут. Ни зернышка не оставят, ежели найдут. Я ведь рассказывала, в селе орудует Васька-бандит. На нем клейма ставить негде, это тебе весь колхоз скажет, все село. А его Антип Иванович уполномоченным сделал. Что творится-то?
Хотиненко уже много раз слышал от Павлины ее постоянно повторяемый, сбивчивый, полный непонимания, жалости и одновременно гнева рассказ о происходившем в Высоком. Лешка не мог взять в толк, каким образом Антип Иванович Овечкин, заслуженный и уважаемый человек, председатель колхоза, мог потворствовать таким, как Васька-бандит. Послушать Полю, так не верится, что такое вообще может происходить. Какие-то уполномоченные, местные и пришлые, бандиты настоящие, врываются в дома, разувают и раздевают, заставляют стоять в холодных ямах или в амбар без одежды бросают, из которого уже выскребли все до последней крошки.
– Как же райком? Райисполком? – снова и снова повторял Алексей, задавая вопросы, на которые ни у него, ни у Поли нет ответов. – Там что, советской власти не осталось?
– Не знаю я, Лешенька, ничего не знаю… Ты мне веришь?
– Верю, Полюшка, верю, – горячие губы Хотиненко собирали с Полиных щек и губ соленые слезы.
– Увольняться мне надо, – всхлипнула девушка, – и ехать. Пропадут мал мала без меня. Мамочка вся почернела и тонюсенькая сделалась ровно спичка. Не переживут они зиму. Чует мое сердце, не переживут. А батя совсем руки опустил. Запил крепко. Хлеб весь подчистую забрали, муку, зерно на посев, картошку с капустой, а самогон батя сумел спрятать. Где – ума не приложу. И еще варенье осталось, вишневое да грушевое. Так оно в горло уже не лезет, приторное.
Полины плечи дрожали в теплых, сильных руках Алексея. Девушка шумно вдохнула воздух сквозь душившие слезы и сорвалась в громкий, неудержимый плач:
– Полканчик! Бедный! Я его щеночком крошечным помню!
У Алексея перехватило дыхание. Ему невыносимо снова слышать эту историю про то, как пришлось съесть дворового пса.
– Не надо, Полечка! Забудь, не терзай себя. По-другому никак… Сама говоришь, что мал мала… раз нет другого мяса.
Лешка знал, что дома у Павлины еще две кошки, но страшился спросить о них. Наверное, живы пока, раз Поля ничего не говорит.
– Уеду я, Леша. Завтра уеду!
– Поля, не надо! Ты по-другому хотела. На каменщицу пошла… Своим помогать деньгами сможешь. И я помогу. Куда мне зарплату девать?
– Ничего ты не понял! – голос Павлины переполнен слезами. – Не выживут они без меня. Я сама так думала: каменщицей буду, денег больше, посылать буду. А ведь там всё-всё отберут, что они купят на эти деньги. И сами деньги тоже найдут и отберут.
Павлина оторвала свое лицо от губ Алексея.
– Лешенька, ты иди… Мне одной побыть надо… Иди! Я посижу немного и приду… Не жди меня…
С тяжелым сердцем Хотиненко поднялся и пошел по направлению к палаткам. На улице совсем стемнело. Алексей подумал, что нельзя оставлять сейчас Полю одну, никак нельзя. Он спешно вернулся и не застал девушку на месте.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
http://2rybinsk.ru/true-love-legend/
2
http://artrussia.ru/andrei_markin/picture/2927
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

