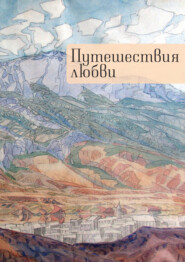
Полная версия:
Путешествия любви
Потом сама собой разрушилась страна, Али уехал к себе на родину, там началась война, говорили, что он стал боевиком, она даже видела его однажды по телевизору: обросший, с бородой, – он долго и прямо смотрел на нее с экрана, словно узнав.
Потом она потеряла его из виду, считала убитым, уехавшим из страны, пропавшим, и, наверное, так оно и было.
Но иногда дохнет вдруг с юга посреди зимы на нее огнедышащим змеем, жарко, страстно, и она понимает, что то лето осталось, оно никуда не делось, никуда не исчезло.
Утренние размышления о любви (2). ТростинкаОн надолго уехал, и теперь ты потеряла то живое ощущение мира как космоса, огромного, дышащего, трепещущего, населенного чьими-то тенями, голосами, случайной музыкой, – дышит ночь и звезды над тобой, ворочается тьма под тобой, – тебя вдруг, как тростинку (тростинка – твоя душа), качнуло порывом черного космического ветра (летом ветер теплый, даже горячий, зимой – ледяной), ты балансируешь между жизнью и смертью, но ты понимаешь в эти секунды все-все-все, тебе открыты все тайны мироздания и собственной души.
Это происходило всегда, когда ты смотрела ему в глаза, слышала его голос (тебе было не важно, о чем он говорил), касалась его руки. Мир открывался тебе навстречу одним порывом, весь, сразу.
Ты и теперь любишь-любишь-любишь, но без его голоса, его взгляда и касания, ты чахнешь-чахнешь-чахнешь, как цветок на космическом сквозняке, и чтобы вернуть то космическое ощущение любви, ты ходишь по каким-то картинным галереям, смотришь на картины, слушаешь музыку, особенно тебе помогает оперное пение, причем женское, ты сливаешься с их голосами, скорбишь и жалуешься вместе с ними, ты читаешь стихи – свои и чужие, ты жадно поглощаешь все то, что называют духовной пищей, наконец, ты даже опиваешься отнюдь не духовным напитком, – и на миг, но только на миг, – вдруг приходит то невозможное, потерянное тобой ощущение опасного счастья – черной пропасти под ногами и звездного купола над головой – и ты между ними.
Дневные размышления о любви (2). Поцелуев мостНе Петербург, еще Ленинград. 79-й слякотный февраль XX века. Мы с Мариной, которую все называют Крашэ, студентки театрального училища, посланы в культурную столицу на зимние каникулы. Просто так, за хорошую учебу, набираться тут той самой культуры, которой в Москве нет.
Живем в общаге консерватории. Засыпаем под музыку Рахманинова в час ночи. В шесть часов утра просыпаемся под музыку Чайковского. Студенты консерватории играют на роялях, стоящих во всех углах и предбанниках общаги. В нашей комнате стоит скромное пианино. Крашэ садится за него и одним пальцем набивает мелодию из пяти китайских нот: «Краснеет восход над рекой Хуанхэ…»
«Чайковский» замолкает. Слушает. Потом, словно возмущаясь, выдает бурную негодующую руладу, похожую на индюшачью. Из чисто московской (а вернее, пермской, поскольку она из Перми) вредности Крашэ добивает на клавишах китайскую утреннюю песнь, посвященную великой реке Хуанхэ.
Идем по Невскому, месим ногами питерскую снежную кашу. Этой каши просят наши сапоги, и мы, загребая снежное месиво полной ложкой, от души их ею кормим. С небес прямо за шиворот нам сыплется мокрое крошево.
Около метро «Гостиный двор» мы встречаем еще одну нашу студентку, которая живет в Питере, – Валентину, – и она нас ведет в знаменитую пирожковую на Невском, объясняя, что пирожковая эта – рай для студентов. Там можно испить горячего бульона и съесть пирожок. Причем бульон – бесплатный. Вернее, вторая кружка. А где вторая, там и третья – нас же трое.
Пируем. Вернее, кайфуем. Решаем, куда пойдем дальше. Валя спрашивает: «В Эрмитаж или Русский музей?» Крашэ говорит, что ей не нужны музеи. Что у нее куда более важная миссия. Ей необходимо найти Поцелуев мост.
Я против моста. Объясняю Крашэ, что в такую погоду все же лучше ходить по дворцу, в тепле разглядывая шедевры.
Крашэ непреклонна. Говорит, что от того, найдет она Поцелуев мост в Питере или нет, зависит ее жизнь и судьба. Не более и не менее. При этом она стоит очень близко (это ее манера – подходить во время разговора к человеку впритык), смотрит на нас сквозь толстые стекла очков: ее голубые глаза за стеклом отчаянно плавают, как рыбы в аквариуме, – близко-близко, объясняет нам жалобным голосом, что найти Поцелуев мост – это просьба Димона, и мы – на свою голову – тут же соглашаемся идти с ней.
Потому что Димон – это святое. Димон, актер, красавец, – последняя любовь Крашэ.
Платоническая, потому что Димон – «голубой».
Но это не страшит Крашэ. Она считает, что когда-нибудь переделает Димона.
А если нет, то духовное все равно важнее телесного. Поцелуев мост станет их символическим загсом, так как согласно одной из легенд, если поцелуешься на мосту со своим любимым, то и не расстанешься с ним никогда. Димон приедет завтра, и завтра же произойдет их символическое бракосочетание.
Короче, вот такой бред. Но мы верим в бред Крашэ, потому что верим в их любовь с Димоном.
Выходим опять в крошево и слякоть. Кружим по городу, спрашивая у прохожих дорогу к Поцелуеву мосту.
Подходим к одному мосту, другому, третьему, четвертому… Доходим до Новой Голландии, куда нам присоветовал идти один из проходящих морячков, а там, мол, рукой подать. Рвемся в эту самую Голландию пройти. Но Голландия на замке, патруль нас не пускает, объясняя, что там находится что-то очень секретно-военное. В поисках стратегически важного для нас объекта – Поцелуева моста – ходим вокруг военной базы, как три диверсантки, то и дело выбирая из своих глазниц залетающий туда мокрый снег.
Наконец-то видим: у реки Мойки стоит маленький домик, в домике – окошко, на окошке – герань, аленький цветочек цветет, и понимаем, что мост, у которого домик этот стоит, непременно должен называться Поцелуевым. Не ошибаемся.
Мы торжественно всходим на Поцелуев мост, взволнованно носимся по нему туда-сюда и трижды друг с другом расцеловываемся на вечную дружбу.
Вечером мы сидим у Валентины – в узкой, как шкаф, комнате в коммуналке на Желябова. Валентина кипятит в чайнике две бутылки красного сухого вина, добавляет туда сахара и гвоздики и, обзывая этот напиток глинтвейном, разливает его по чашкам.
Мы сдвигаем наши чаши за великую платоническую любовь Крашэ и Димона. Крашэ раскраснелась и выглядит настоящей невестой. Ее огромные голубые глаза висят, как воздушные шары, словно бы отдельно от нее.
Мы пьем горячее вино, болтаем, мы – счастливы.
На другой день Димон не приедет. Ночью его заберут, дадут срок. Из тюрьмы он так и не выйдет. Куда-то сгинет.
Крашэ закончит институт, уедет в Пермь, будет сильно пить, в перестроечные времена умрет в больнице, отравившись спиртом «Ройял».
Утренние размышления о любви (3). Нить.Утром действительно стало легче и понятнее, как жить дальше. Что надо просто очень долго, протяженно, не суетясь, его любить. Что уже все состоялось, что любовь есть, но просто она вот такая – без частых звонков и почти что без встреч, но нить натянута. И надо этому просто радоваться, что вот есть это натяжение. На том и остановимся пока. Пусть он у меня сияет протяженно, как свет звезды. Он же природное явление – ветер, звезды, степь, мой сад – счастье.
Дневные размышления о любви (3). КустанайОни познакомились на Волге, на теплоходе, на котором плыли из Куйбышева (да, тогда Самара называлась Куйбышевом) в Волгоград в командировку. Им достались верхние полки в темном четырехместном трюме, и поэтому они старались проводить все время на палубе. Днем они загорали, ели сахарный, истекающий алым соком арбуз, неизвестно чему смеялись, глядя друг другу прямо в глаза. Его глаза были тогда синие, такого же цвета, как Волга. В Волгограде, переделав командировочные дела, они поехали в Волжский, к ее подруге.
Они сидели у костра на берегу ее любимой реки Ахтубы, пели, смотрели в звездное небо, пили самогон, который гнала мать подруги, – подруга танцевала у костра так, словно камлая и призывая к ним всех речных и степных духов, остро пахла полынь, – и между ними случилось то, что и должно было случиться, – случилась любовь. Она свалилась на них, такая огромная, что они, подавленные ею, весь день пролежали в гостинице, испуганно прижавшись друг к другу, и не знали, что делать с ней, открывшейся перед ними бездной, и не знали, как с ней сладить.
На другой день он уезжал в Москву. Она – в свои астраханские степи, откуда и была родом. У нее был муж и сын шести лет. У него была жена и сын-старшеклассник.
Потом они еще несколько раз встречались, тайно, жадно. В чужих городах, на чужих квартирах, чужих диванах и простынях. Однажды встретились на квартире у его знакомого доктора. На чужой плите она жарила курицу, он разглядывал медицинскую энциклопедию. Она подошла, заглянула. Он рассматривал каких-то безобразных уродов: две головы, четыре ноги, Маша и Даша. Она ужаснулась. Он поднял голову и сказал: выходи за меня замуж. Нет, сказала она, не помедлив ни секунды (он не простит ей того, что она отказала ему, не помедлив – именно – ни секунды) и через секунду удивившись тому, что сказала «нет». Потом пришла домой к мужу и сказала: я ухожу от тебя к другому. Что тогда началось!
Муж, конечно, ее не отпустил. Потом были дни, месяцы, годы, которые, казалось бы, только и были созданы для того, чтобы ими, как бинтами, можно было замотать эту любовь, одеть ее в смирительную рубаху, чтобы она там умерла внутри нее, отмучилась, сдохла. И вроде бы отболело. Сын вырос, муж сидел в кресле у телевизора, жизнь вроде бы состоялась.
Через десять лет они случайно встретились опять в командировке, в Кустанае, в казахских степях. Сидели в шатре, куда их пригласили на пирушку в честь окончания общего дела. Он и она сидели и молча смотрели друг на друга. Потом так же молча, как звери, встали и пошли в степь. Они любили друг друга так же жадно, как и десять лет назад, как будто и не было никаких десяти лет, как будто не было у нее семьи, мужа и сына, как будто не было разлуки. Над ними так же, как тогда, в Волжском, на берегу Ахтубы, грозно висела огромная звездная бездна и так же остро и грешно пахла полынь.
Утром, когда они уже были в гостинице, из номера он позвонил жене в Москву и сказал, что уходит от нее, потому что встретил здесь, в Кустанае, женщину, которую любил десять лет. На том конце провода вдруг тонко заголосили, его жена голосила и голосила, не останавливаясь, тонким пронзительным голосом ребенка, которому очень больно. Его жена плакала и плакала, а он стоял, отвернувшись к окну, держа телефонную трубку, и слушал.
Она тихо оделась и вышла.
Утренние размышления о любви (4). На мобильный телефон……сегодня позвонила мама, сказала, что ее выписали из больницы. Муж прислал смс-ку, что сел в поезд и скоро уже, через несколько суток, приедет. Позвонил сын и несказанно меня обрадовал, сказав, что… (ну, это уж совсем личное, об этом промолчу). Позвонили от режиссера и продюсера, что сценарный договор со мной подписан. Из Питера звонила моя лучшая подруга. И только один человек, засевший в моем сердце занозой, – не позвонил.
Дневные размышления о любви (4). Чрезмерные людиНочью муж объявил, что уходит от нее.
– Мне что, ему морду набить?! – спросил он, этот чрезмерный человек.
Она промолчала и молча ушла в свою комнату. Всю ночь слушала, как там, в соседней комнате, собирают ли вещи. Не испугалась, нет. Даже интересно было.
Утром тихо выскользнула из дома и поехала на работу.
День начинался странно. Приехала на работу, а там лежит на столе заявление от ее заместительницы на увольнение. Лежит еще со вчерашнего дня. То есть, когда уходил от нее муж, в это же время ее заместительница писала заявление тоже на уход от нее.
Потом пришел очень приятный человек из Литвы, бывший католический монах, он жил во Франции, в ордене молчальников, потом у иезуитов. Принес рукопись.
Она долго говорила с ним. Ей хотелось от него узнать, каково это – умея говорить, промолчать всю жизнь. Ей нравились чрезмерные люди. Люди, куда-то уходящие, уезжающие, экспериментирующие над собой, своей жизнью и судьбой.
Пришла ее заместительница и сказала, что да, действительно уходит, уезжает, не хочет так жить, хочет быть одна. Уедет куда-то в деревню и будет смотреть на то, как падает снег зимой, а весной вскрываются реки. Ей надо это увидеть собственными глазами. Иначе она не выживет. Что ей надоела цивилизация.
Куда-то они все, эти чрезмерные люди, убегали, думая, что там, куда они убегут, будет легче.
Потом она пошла на выставку книги одного знакомого белорусского художника. И они так хорошо посмотрели всю выставку вместе. Когда она спрашивала его, в какой технике сделана та или иная работа, он подробно рассказывал ей, как это делается. Каждую технику он подолгу изучал, шел в помощники к тому, кто умел делать это, и постепенно учился. Он делал несколько работ в той технике, которой научался, и переходил – уходил – к другой.
На выставку пришел человек, который умел делать оригами. Он объяснил им, что оригами – это древнее японское искусство складывания из бумаги. Из тысячной купюры он моментально сложил слона – с бумажными бивнями, хвостом, ушами. По дороге к метро он говорил, говорил. Как сделает оригами к театральной постановке, где будет все бумажное – дома, машины, столы, стулья, и герои тоже будут бумажными, они будут лежать, сидеть и ходить. Ей хотелось спросить: а слова будут тоже бумажные? И он вдруг ответил на не произнесенный ею вопрос, что слова в этой театральной постановке не нужны. Он хотел затащить ее тут же к себе на Сокол, где была его мастерская, чтобы показать свои работы.
Она, сказав, что ей надо пораньше домой, поехала на Киевский вокзал и села в электричку. Но когда уже села, там что-то сказали, перечислили остановки, назвали в том числе и ее станцию – Востряково. Она подумала, что именно перечислили те, где электричка остановится, но вышло все наоборот. Они, не останавливаясь, ехали и ехали по какой-то глухомани с уханьем и свистом целый час.
Наконец остановились, и на темный перрон вывалились такие же невнимательные, как и она, пассажиры, несколько человек, и они небольшим отрядом помчались через мост на другую, обратную – последнюю – электричку. А было уже очень поздно и темно, и шел дождь, и одного мужика страшно ругала жена по телефону, что он такой у нее непутевый и заехал черт-те куда.
Они стояли, ждали еще час электричку, и ей захотелось позвонить тому, из-за которого уходил от нее ее муж. И она позвонила. Он взял трубку, и голос был у него неузнаваемый. Он тоже не узнал ее, она даже представилась: звонит такая-то. Тогда он немного окреп голосом, обрадовался, но был явно занят, и очень быстро, быстро они поговорили.
Что вот, схоронил отца и что пять дней было очень и очень плохо, а сейчас уже немного отпускает, полегче. Что бегает теперь каждый день с бумагами, на наследство и еще на что-то. Что уезжает в воскресенье, но вот что жалко. Что так долго был в Москве, но так мало встречались. И что: где же ты была? Куда уезжала? И почему так надолго?
И он начал быстро сворачивать разговор. Сказал, что уже сейчас не встретимся, но он приедет (она услышала, в январе), и что – увидимся. Что теперь он всем про нее рассказывает и что она очень, очень красивая (тут они засмеялись оба). Да! Да! – сказал он. И они попрощались как-то сразу оба. Он сказал: обнимаю. Она сказала: целую. И всё. Сказал еще, что сегодня девять дней, как отец ушел.
Потом вдруг как-то сразу пришла электричка, и она, сев, дала мужу паническую смс-ку, что едет из Апрелевки, что заехала не туда, чтоб встречал.
И он стоял около станции, ждал ее, молча взял вещи, и они шли, как раньше, в любовные еще времена, пешком под дождем до дома. И он что-то радостно говорил, и дома тоже, пока она готовила ужин, все говорил.
Михаил Шелехов (Минск)
Хозяин одинокой комнаты
Памяти Фани Абрамовны Гецелевич, доброй феи мультипликаторов Союза кинематографистов СССР
1. Гусь и другиеОм! Все тут. И кувшин, и капли, его наполняющие.
Падал мелкий городской снег, похожий на ледяные опилки. По бульвару шел молодой человек и тащил тяжелый брезентовый мешок. Молодой человек был худ и нервен. Он тащил мешок, сильно наклонившись в правую сторону. Но мешок победил. И упал на землю четырьмя лапами черепахи.
Молодой человек задумчиво постучал ботинком и зашел к мешку с левой стороны. И перехитрил. Мешок этого не ожидал. Человек живо схватился за лямку и ринулся вперед. Но остановился, как вкопанный. Перед ним стоял гусь. Белый, как башня. С клювом красным, как гранат, и глазами старого генерала. Лапы его тонули в снегу. И это было похоже на черпак с ручкой. Не умный уличный пес, а гусь. Гусь – домашнее животное или просто мясо?
Пес был бы братом молодому человеку, а гусь? Прохожий смутился.
Молодой человек уронил мешок в снег, достал из кармана колбасу и смущенно сунул ее назад. Что ест гусь? Щиплет траву. Глотает червей и клюет лягушек. С этим сейчас худо. Но разве можно обидеть старшего брата да еще на пустом городском бульваре, темным вечером, в снег?
Одному – пес, другому – гусь. Умей ответить. Каждый голос – голос Будды. Каждая форма – форма Будды. Спроси у гуся, что ему надо? Озеро, облако, тростник. И еще песня. И молодой человек заговорил:
– В лунную ночь песня лягушки оглашает вселенную!
Гусь величественно кивнул.
И молодой человек запел. А что ему еще оставалось? Тигр бы потребовал у него ногу, а гусь? Гусь – знаменитый меломан. Но убьет одним ударом в глаз. Однако на свое счастье молодой человек был музыкален.
Он представил весеннюю ночь, пение цикад и теплый ветер над черным озером, из которого к луне всплывают лилии… И счастливая песнь лягушки разнеслась над сугробами бульвара.
Гусь слегка раскачивался, кивая головой. А потом стал танцевать. Он поднимал тяжелые красные лапы и перевалился на месте, как бочонок, пока не утоптал полянку в снегу. После чего стал ловко поворачиваться, как огромный моток серебряных ниток. Гусь вертелся так самозабвенно, что это бы тянулось до самого утра. Но певец охрип и замолчал.
Молодой человек поклонился, и гусь поклонился ему, после чего залез на зеленый мешок – сторожить. А молодой человек пошел по бульвару. Он шел и вешал объявления… На фонарь, на дерево, на каменную девушку с лыжами, на задремавшего ангела с мечом, который висел в воздухе, на детские качели.
Молодой человек срочно снимет квартиру!
Снимет квартиру!
Квартиру!
Мудрый уходит – дома опасно. Как лебедь оставляет осенью свой пруд, покидает он свой дом в поисках нового жилища. Успел до зимы – счастье. Опоздал – жди весны, которая похоронит белые кости. А немудрый – ищет дом.
На скамейке сидела одинокая фигура. В задумчивости человек наклеил белый лоскут на черную спину и пошел дальше. Фигура на скамейке шевельнулась и посмотрела ему вслед. Это была старая женщина с добрыми черными глазами феи, у которой четырнадцать кошек.
Молодой человек, сгорбившись, наклеивал объявление на лоб какому-то человеку с бородой и пистолетом на афишной тумбе.
– Ты не против? – сказала женщина вдруг.
Молодой человек оглянулся. Женщина на скамейке разговаривала как будто сама с собой, крутя локон на виске и качая ногой в маленьком сапожке.
– А тебе не будет тесно? – заботливо спросила женщина. – Ладно, ты ляжешь на кушетке у окна. Хорошо, что ты законопатил окна.
Бездомный человек смотрел на нее, не понимая. А потом повернулся, чтобы уйти. Его ждал гусь на своем пьедестале. Гусь знает, что делать. Может, они пойдут под мост. Всюду есть мосты.
– Пойдемте. Я сдам вам комнату! – сказала вдруг женщина. – Пойдемте, это недалеко – метро «Аэропорт».
– Здесь под землей летают самолеты? – криво усмехаясь, сказал он, не веря счастью.
– Иногда.
Они пошли по аллее – и пришли к мешку, на котором сидел гусь.
Человек покопался в кармане пальто, и достал опять ту же самую колбасу, и виновато развел руками. А старушка достала крекер – и гусь поймал его на лету, открыв клюв величиной с кошелку.
Он придержал крекер лапой, склевал его и посмотрел им вслед. По белой дорожке уходила женщина в серой шубке с черным воротником, слегка горбунья. И молодой человек с тяжелым мешком. Их было двое. Падал тихий снег.
А гусь смотрел на белую дорожку и ничего не понимал. На ней отпечатались подошвы трех людей… Третьи следы сами возникали на снегу.
Он повернул голову. Ангел с мечом так же дремал, прислонившись в воздухе к желтому фонарю, который горел в потемках, как золотая луковица.
Гусь покачал головой. Нет, не всё понятно на свете. Это то же самое, что ловить в желтой от глины воде канала мелькающих рыб.
2. Поищи мореОткрылась дверь, и в комнату вошел мешок. Он с грохотом встал посреди комнаты. А затем в комнату проник и его хозяин. Он снял берет и сел на мешок, разглядывая жилище.
Четыре роскошных настольных лампы с цветными витражными стеклами стояли по углам на четырех столиках красного дерева. А с потолка на обрывке шнура свисала обычная лампочка. Портрет китайской красавицы на шелке улыбался – почти икона. Белые молочные бокалы, почти в рост человека. Подсвечники для двух свечей. Гонг. Избушка на курьих ножках из спичек. Бабочки за стеклом. Портрет какого-то старца в черной шапке. И гипсовая маска Пушкина с закрытыми глазами.
Человек посмотрел на четвертую стену. На ней висела большая черная шелковая занавесь. Три золотые рыбки с краевыми плавниками играли на черном шелке.
Молодой человек развязал мешок и достал акваланг. Оранжевый аппарат, похожий на счастье юности.
Он сидел и смотрел на золотых рыбок. А они играли и играли в черной воде. Как вдруг шторы за его спивой поползли и сомкнулись, закрывая в окнах ночь. Человек вздрогнул. Он смотрел на уток, которые вышиты на ковре. Игла, которая их вышивала, бесследно ушла из вышивки. И вот она возвращалась.
Скрипел мелкий желтый паркет. Деревянные планки прогибались, как будто кто-то невидимый шел по ним. Вспыхнула одна лампа… За ней вторая. Третья… А паркет все скрипел и скрипел. И смолк. Дверь открылась и вошла старушка с черными глазами на старом и добром лице. Она несла чай.
– Хотите в театр? – спросила она.
– Нет, – ответил молодой человек грустно. – Я хочу плавать с аквалангом.
– Я не могу сдать море, – улыбнулась женщина.
– Жаль, – ответил молодой человек.
– Я подумаю, – сказала старушка. – Может быть, я помогу вам. Не скучайте.
– Мне нравится, – широко развел руки молодой человек и спросил. – А кто это?
И он сделал волнообразный жест руками. Старушка приложила палец к губам:
– Только не трогайте ножниц! – сказала она шепотом и помахала пальцем.
Под настольной лампой на клетчатой скатерти лежали ножницы. Молодой человек встал, заложил руки за спину и склонился, разглядывая ножницы таинственно и серьезно.
А старушка вышла. И что-то шумное и пестрое блеснуло там, за дверью. Это был театр. Театр, который начинается с дверцы в стене.
Она шла по партеру. Зал был полон и гудел. На втором ряду было два пустых места. И старушка с замшевой сумочкой в руках села на одно из них.
Занавес колыхался. К женщине подбежал запыхавшийся гражданин с билетом в руке.
– Разрешите! Я не успею добежать до своего места. Рядом с вами никого нет.
– Здесь занято, – тихо сказала старушка.
Занавес поднялся…
– Кто м-о-ожет сравниться с Матильдой мое-е-ей? – запел сильный голос.
Женщина повернула голову в сторону пустого кресла:
– Ты прав, Генрих, – сказала она тихо. – Никто.
На сцене шло действие. Оно шло беззвучно.
– Скучно? – спросила старушка, глянув в сторону пустого кресла, и улыбнулась. – Ты прав, в сороковом году было лучше…
Беззвучно двигались, стояли, падали, прыгали, носили друг друга на руках, целовались актеры. Самое нелепое в театре – зрительный зал и зрители. Если бы все прыгали на сцене, никто бы не пил по ночам водку. И не грабил соседа в подворотне.
– Послушай, у нас нет моря? – спросила старушка, повернув голову в сторону пустого кресла.
Кресло как будто пожало плечами. Оно устало слушать и слегка зевало.
– Поищи! Не может быть, чтобы его не было. Обычное море, где плавают с такой оранжевой штукой… Да-да, ты прав, с аквалангом, – сказала она.
Зал разразился аплодисментами.
– Пойдем? – наклонила голову женщина.
И подушка второго кресла тоже поднялась, как будто там кто-то сидел.
Театр кончается шляпами и шубами. И гардеробщик, застыв, смотрел, как серая бедненькая шубка описала в воздухе пируэт и сама собой опустилась на плечи старушки, как будто невидимые руки подали ее нежно и бережно.
Дверь сама собой распахнулась – как от порыва ветра. Молодой человек расхаживал по комнате. Пол был усыпан обрезками бумаги. Ножницы, взятые без спроса, валялись на полу, в белом мусоре.



