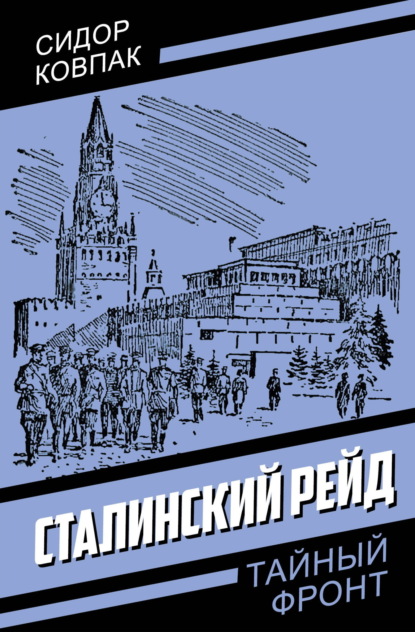
Полная версия:
Сталинский рейд
Мои родные выяснили, что в Котельву вернулось с фронта около двухсот человек. Все они, как и я, прячутся. Надо было приниматься за организацию партизанского отряда из солдат-фронтовиков и устанавливать советскую власть в Котельве. Отец и брат Алексей помогли мне связаться с односельчанами-фронтовиками: Бородаем, Тягнырядно, Гнилосыром, Шевченко, Радченко, Кошубой, Салашным, Гришко и некоторыми другими.
В клуне у отца мы провели свое первое совещание. Выработали план действий, распределили обязанности. Меня хлопцы избрали начальником штаба (так тогда назывался командир партизанского отряда), Бородая – комиссаром. Сбор отряда назначили через день в лесу, в пяти километрах от слободы. Явились 120 человек, из которых 70 имели винтовки, револьверы и охотничьи ружья. Многие привели с собой лошадей.
Бойцов без оружия, но с лошадьми назначили связными, часть оставили в резерве, а вооруженных разбили на боевые группы. Скрытно подошли к слободе и внезапным ударом захватили почту, телефонную станцию, волостное правление и полицию, находившуюся на казарменном положении.
Мы предполагали, что самым сложным будет бой с полицейскими. Эта задача возлагалась на группу под моим командованием. Однако решить ее удалось без потерь. Мы по-пластунски подползли к часовым, охранявшим казарму, и без шуму сняли их. Потом наша группа быстро окружила казарму. Через разбитое окно я предложил полицейским немедленно сдаться. В казарме поднялся шум. Видно, не все согласились капитулировать. Дали два залпа по окнам. Слышим – кричат:
– Не стреляйте, сдаемся!
Из окон полетело оружие – винтовки, наганы, шашки, а сами полицейские с поднятыми вверх руками по одному выходили на крыльцо казармы. Хлопцы их обыскали. Самых заядлых приверженцев Центральной Рады и кулаков задержали, остальных отпустили под честное слово, что против народа воевать больше не будут.
Одержав победу, партизаны ударили во все церковные колокола. На площади собралось более десяти тысяч человек. Все уже знали о случившемся и с большой радостью встретили сообщение о том, что отныне и навсегда вся власть в Котелевской волости принадлежит народу. Встал вопрос об избрании органов управления. Народ кричал:
– Пусть партизаны командуют, красные!
– Вы власть завоевали, вам и управлять!
Единогласно был избран волостной ревком под председательством Радченко. Меня выбрали председателем земельной комиссии, однако не снимались и обязанности начальника штаба партизанского отряда. Не успели проголосовать, как со всех сторон посыпались вопросы:
– Как с землей?
– Будем ли ее делить?
Слово взял только что избранный член ревкома директор школы Федченко. Слобожане считались с ним, так как он умел создавать видимость, что стоит на защите бедных. На самом деле он был ярко выраженный меньшевик-соглашатель. Федченко начал длинно и нудно объяснять, что забирать землю у помещиков и кулаков нужно, но делить ее еще нельзя. Необходимо прежде избрать особый комитет, который пригласит специалистов-землемеров, те произведут обмер и наметят, сколько и где каждому прирезать, на каких условиях и т. д. Крестьяне уразумели: коль так пойдет дело, долго им не видать матушку-землю, ради которой они взялись за оружие. Поднялся невероятный шум.
Тут только я по-настоящему почувствовал всю тяжесть ответственности. Молчать дальше было нельзя. Вышел вперед, поднял руку. Наступила тишина.
– Все земли помещиков, кулаков, монастырей отныне принадлежат народу. Делить ее начнем завтра, а сегодня, после митинга, пусть все десятские придут на заседание земельной комиссии. Заодно решим и о разделе кулацкого леса.
Многотысячная толпа воспрянула.
– Ура! – гремела площадь. – Да здравствует Советская власть!
Земельная комиссия собралась в помещении бывшей волостной управы в самой большой комнате. Народу набилось битком. Кроме членов комиссии, членов ревкома и десятских, пришли многие бедняки, были и зажиточные мужики.
– Ну, люди, так как же делить землю будем?
Опять поднялся шум. Самыми активными были бедняки.
– Забрать всю землю и делить подушно! – кричали они.
Кое-кто из подкулачников попытались было сбить крестьян с толку, повторяли доводы меньшевика Федченко: дескать, без специалистов-землемеров не обойтись. Но беднота так ополчилась, что они замолчали.
Уточнили количество помещичьей и кулацкой земли. Потом каждому десятскому указали, какую землю отвели его десятку. Условились, что в первую очередь нарезать участки безземельным. Закончили распределение под утро и прямо с заседания пошли в поле.
Радостные и счастливые, как на большой праздник, вышли люди на весеннюю пахоту. Работали от зари до зари, да только урожай собирать не пришлось. Предательское поведение Троцкого на мирных переговорах в Бресте обернулось нашествием кайзеровских орд. Горе и разорение принесли немцы на Украину. Немецкий кованый сапог подминал под себя все живое, революционное. Притихшие было кулаки повылазили из своих нор и за отнятую у них землю люто начали мстить партизанским семьям.
Сколько женщин, детей, стариков заживо сожгли они в заколоченных снаружи хатах, сколько людей изувечили, растерзали… Реками лилась кровь, раздавались стоны по всей Украине. Не миновала злая участь и нашу округу. Оскверненные трупы революционеров болтались на виселицах и в Опошне, и в Вельске, гибли семьи партизан в Диканьке и Пархомовке. Только нам, котелевским партизанам, удалось спасти своих близких. При отступлении мы взяли с собой заложников, самых именитых богатеев, двух попов, урядника и крепко-накрепко предупредили кулачье, что если пострадает хоть одна партизанская семья, заложники будут повешены.
Несколько месяцев пробыл наш отряд в Котелевском лесу. Оттуда мы контролировали район четырехугольника: Полтава – Зеньков – Ахтырка – Краснокутск. Совершали ночные налеты на немецкие гарнизоны в окрестных селах, нападали из засад на вражеские колонны, громили осиные гнезда продавшихся оккупантам петлюровских жовтоблакитныков.
Под ударами созданной из красногвардейских и партизанских отрядов Красной Армии оккупанты вынуждены были отступить на запад. Народ вновь взялся за плуг и косу, по которым так соскучились трудовые руки. Но и на сей раз недолго продолжалось затишье. Нагрянула новая беда: с юга шел Деникин. Опять пришлось бросать семью, мирный труд и идти в поход.
Накануне отхода к нам в Котельву приехал из Ахтырки секретарь уездного комитета партии Подвальный. Собрал он нас, слободских активистов, в ревкоме.
– Ну, как дела? – спрашивает.
– Да чтобы хороши были – сказать нельзя. Вот в лес уходить собираемся. Будем противника с тылу бить.
– Знаю, все знаю. Отряд Котелевский хороший. Только вот что, друзья, впереди у вас бои, а партийной организации еще нет.
Каждый из нас много слышал о партии, мечтал быть в ее рядах. Общие мысли высказал Бородай – отрядный комиссар:
– Большевистская партия правильная. Мы за нее, за товарища Ленина. Только, товарищ секретарь, сомнение у нас: сможем ли мы быть настоящими большевиками?
Подвальный рассмеялся.
– Вы, хлопцы, не сомневайтесь. Вы и есть самые настоящие большевики. Проводите, можно сказать, в жизнь политику партии, политику товарища Ленина.
– Тогда пишите, товарищ Подвальный, – раздалось сразу несколько голосов.
– Ты, Сидор, у нас командир, тебе и почет первому записаться, – промолвил Бородай.
Первым секретарем нашей партийной ячейки избрали Гнилосыра. На всю жизнь запомнил я день 29 мая, когда уполномоченный уездкома уже в походе вручил мне партийный билет.
Отступая, наш отряд в районе Ахтырки встретил группу партизанских отрядов, руководимых Пархоменко. С ними пошли дальше на север, постоянно отбиваясь от наседавших белогвардейских банд. Под Тулой наш Котелевский отряд красных партизан влился в создаваемые новые части Красной Армии. А ко мне, как назло, прицепился сыпной тиф. Сдали меня в санитарный поезд, и уж не помню, как очутился в Саратовском военном госпитале. Вышел из госпиталя худой, кожа да кости. В Саратовском губкоме товарищи предложили побыть в тылу, окрепнуть. Но я отказался, попросился на фронт. Послали в Уральск к Чапаеву. В дивизии назначили помощником начальника команды по сбору оружия. Она состояла из ста двадцати закаленных в боях красноармейцев и рабочих уральских заводов.
В то время молодая Советская республика не могла полностью снабдить многочисленные фронты самым необходимым – винтовками, пулеметами, патронами, снарядами, хотя все это было в стране. Контрреволюционные элементы – кулаки, купцы, духовенство, хозяева заводов, магазинов, мельниц – прятали огромное количество оружия. Особенно много его было у зажиточного уральского казачества – оплота царизма. Страны Антанты усиленно снабжали оружием не только армии Деникина, Колчака, Врангеля, но и многочисленные банды анархистов и эсеров, действовавшие в нашем тылу.
Нужно было обезвредить заклятых врагов революции, готовящих удар в спину. Нашей команде помог сам Василий Иванович Чапаев. После одного неудавшегося поиска он собрал нас и начал расспрашивать, где мы были, как искали оружие, что нашли.
– Не так искать надобно. Спрашивать у кулаков да справных казаков, где они оружие ховают, нечего, все одно не скажут.
Василий Иванович рассказал о том, как он дрался с белоказаками, где и как добывал оружие и боеприпасы. После этого совещания дела у нас пошли лучше. Мы находили оружие в овинах и на чердаках, в горенках купеческих дочерей и в искусно замаскированных бункерах, вырытых в отдаленных от жилья буераках. Нашли мы оружие и в алтаре за иконостасом старой станичной церкви. Было его здесь немало – сотня винтовок и около полутысячи гранат, десять тысяч винтовочных патронов да два английских пулемета.
Когда Красная Армия разгромила Колчака в Сибири, а Чапаевская дивизия – калединцев у Гурьева, нашу команду направили на Южный фронт. В Уральске мы погрузили в эшелоны все собранное оружие, артиллерию, боеприпасы и двинулись на юг Украины. Командующий 6-й армии, в распоряжение которого мы прибыли, приказал немедленно доставить привезенное в воинские части, которые в те дни готовились к штурму Перекопа. Перевозить оружие и боеприпасы предстояло по бездорожью на расстояние до ста и больше километров. Снова пошли бойцы по селам и хуторам. Кулаки Таврии запрятали своих коней с тачанками в днепровских плавнях, ярах и клунях. С большим трудом собрали мы двести пароконных подвод. Работали до полного изнеможения, задание выполнили в срок.
* * *Взяла наша армия Перекоп. Разгромили Врангеля. Страна приступила к мирному труду. Многих демобилизовали, меня же откомандировали в распоряжение Запорожского губернского военного комиссара. В июле 1921 года получил назначение сначала помощником военного комиссара, а несколько позже – военным комиссаром Большетокмакского уезда.
Советская республика только-только поднималась из руин, всюду зияли раны войны. Банды из недобитого царского офицерья и местного кулачества терроризировали население. На борьбу с бандитами были мобилизованы все коммунисты уезда и в первую очередь работники военкомата. В селах создали отряды самообороны. За полгода напряженной борьбы число банд заметно уменьшилось.
Вскоре я получил приказ выехать в город Геническ и организовать там уездный военный комиссариат. Аппарат Генического уездного комиссариата подбирался наспех, многие его работники ни разу не бывали в боях, плохо знали оружие, а ведь нам надо было вести борьбу с бандами.
Вспоминается такой случай. Получили мы сведения, что километрах в сорока от Геническа зверствует небольшая банда местного «пана атамана». Бандиты убили председателя сельсовета, двух кооператоров, изнасиловали и повесили учительницу. Вызвал меня секретарь уездного комитета партии и говорит:
– Бери, Ковпак, милицию и свою военкоматовскую команду, да езжай, разделайся с бандой.
В село приехали под вечер, собрали актив. В это время банда, не зная о нашем прибытии, с гиканьем и беспорядочной стрельбой ворвалась в село. При сложившейся обстановке наша застава должна была пропустить их и ударить с тылу, но неопытные бойцы открыли огонь преждевременно и тем спугнули бандитов. Преследуемые отрядом, бандиты заехали в топкое место Сиваша, бросили коней, а сами вплавь переправились на противоположный берег.
Этот случай послужил хорошим уроком для необстрелянных бойцов. Последующие наши операции были более удачными, и вскоре мы сумели уничтожить не только эту, но и другие банды. После Геническа работал военным комиссаром Павлоградского округа. Однако годы, проведенные в окопах, подорвали здоровье – крепко мучил ревматизм. Обратился с просьбой о демобилизации. В июле 1926 года моя просьба была удовлетворена.
Но еще до приказа о демобилизации я уже стал председателем колхоза имени Ленина в селе Вербки. История эта довольно интересная. С конца 1924 года мне, как постоянному уполномоченному Павлоградского окружкома партии, часто приходилось бывать в Вербках. Проводил там беседы, собрания, помогал комитету бедноты. Председателем Вербского сельсовета был Илларион Васильченко – парень хороший, но несколько горячий, в боях с белыми он потерял ногу, ходил на деревяшке. Так вот, вместе с активистами села он решил снять церковные колокола.
Не разъяснив прихожанам (верующим) суть дела, Васильченко с товарищами пришли к церкви и развернули подготовительные работы. Дьячок с пономарем побежали по селу:
– Люды! Антихрысты церковь грабують!
Через несколько минут активисты были окружены толпой женщин, «вооружившихся» вилами, граблями, сапками. Сообразив, что это может для них кончиться плохо, Васильченко и его друзья заперлись в церкви. Кто-то об инциденте сообщил в уезд. На место прибыло человек тридцать конной милиции. Атмосфера накалилась еще больше. Подстрекаемые дьячком и кулаками, женщины набросились на милиционеров.
По указанию секретаря окружкома Барабанова я срочно отправился в село. Въехал на тачанке в самую гущу толпы. Женщины, перебивая друг друга, голосисто кричали.
Встал на тачанке во весь рост и жду. Долго ждал, пока народ утихомирился. Речь свою начал с того, что осудил поступок Васильченко. Особо подчеркнул, что он не имел права снимать колокола без согласия народа. Потом пожурил женщин за то, что они прибегли к самосуду. Так нельзя. У нас есть народная власть, и она во всяком деле разберется со всей справедливостью. Далее я сказал, что Васильченко свяжу, увезу в уезд, там его и накажут. Так я и сделал. С тех пор установились у меня с вербовцами хорошие отношения. Через несколько месяцев, когда в селе провели разъяснительную работу, вербские прихожане сами сняли колокола.
В сентябре 1925 года Павлоградский окружком партии поручил мне организовать в Вербках колхоз. На общее собрание пришли все жители села. После доклада и ответов на вопросы первым с провокационным заявлением выступил подкулачник.
– Мы обсуждали этот вопрос целую неделю, и он для всех ясен. Давайте записываться. Только вы, товарищ военком, пишитесь первым. Если вы будете у нас председателем, тогда и мы все запишемся.
Подкулачники, видимо, рассчитывали, что я не соглашусь, и тогда им будет легко сорвать организацию колхоза. Я ответил, что если меня изберут, то с радостью буду работать.
Васильченко вел собрание. Он не растерялся и сразу обратился к собравшимся:
– Кто за то, чтобы товарищ Ковпак был председателем нашего колхоза, прошу поднять руки.
Избрали единогласно.
Вот так и стал я председателем колхоза. Проработал полтора года, подготовил на свое место толкового молодого парня и попросил колхозников освободить меня от председательских обязанностей. Люди согласились, но потребовали, чтобы я оставался заместителем. Что ж, воля народа – закон.
В последующие годы работал директором Павлоградского кооперативного хозяйства, затем Путивльского подсобного хозяйства. В 1937 году меня назначили заведующим районным дорожным отделом Путивльского райисполкома.
Колхозы нашего района год от года крепли и развивались. Повышались урожаи зерновых, резко увеличивались посевы конопли, свеклы, табака, картофеля, росла продуктивность животноводства и птицеводства. Дорог же хороших в районе не было. Их надо было строить. Начать решили с главной магистрали, соединяющей Путивль с железнодорожной станцией. Попробовали выхлопотать денег – ничего не вышло. Райком партии предложил строить своими силами. Связались с бригадирами колхозных дорожных бригад и шаг за шагом развернули работу. На помощь пришли дорожные бригады не только из ближних, но и из дальних колхозов. В первый год продвинулись на километр: хорошо уложили подушку и замостили булыжником. Это был наш первый экзамен перед трудящимися района, и выдержали его мы с честью.
Во второй год вывезли пять тысяч кубометров камня и столько же песку, замостили пять километров дороги. Начали строить мост через Сейм. Трудился весь актив района. В работу включились дорожные бригады всех колхозов. На третий год подготовили к мощению четырнадцать километров. Для строителей организовали подвоз горячей пищи. Торговали ларьки и палатки. К осени 1939 года дорогу и мост через Сейм построили. Открытие их превратилось в большое народное празднество.
Во время первых выборов в местные Советы путивляне избрали меня депутатом районного и городского Советов, а на первой сессии горсовета – председателем исполкома.
Путивль – небольшой город, но он имеет много характерных и интересных особенностей. История его древняя. На протяжении веков он служил надежным заслоном Киевской Руси, а позже Московского государства от набегов половцев и крымских татар. В Путивле до сих пор сохранились остатки крепостного городища, на стены которого, как свидетельствует «Слово о полку Игореве», выходила Ярославна оплакивать судьбу князя Игоря Святославовича. В городском музее бережно хранятся экспонаты, рассказывающие о героической борьбе путивлян с польской шляхтой, документы о могучем народном движении Ивана Болотникова, начавшемся в Путивле, о героических действиях путивльских отрядов красных партизан в годы гражданской войны.
Город расположен на холмистом берегу Сейма. В ясную погоду с путивльских холмов открывается прекрасный вид на юг, восток и запад. Луга и поля чередуются с лесами и перелесками. Чудесный край с богатыми охотничьими и рыбными угодьями ежегодно привлекает к себе на отдых многих москвичей, ленинградцев, горьковчан…
До войны в Путивле насчитывалось немногим больше двенадцати тысяч жителей. Промышленность была развита слабо: в городе имелось два завода – плодоконсервный и маслобойный, мельница и несколько мелких предприятий. На западной окраине располагалась МТС. Много в Путивле было учебных и культурных заведений: три средние, одна семилетняя и одна зооветеринарная школы; два училища механизации сельского хозяйства, педагогическое училище, плодоовощной техникум, две библиотеки, кинотеатр, Дом пионеров, Дом учителя, краеведческий музей…
Жилой фонд города находился в запущенном состоянии. Водопровода совсем нс было. Электростанция работала из рук вон плохо, электросеть обветшала. Подует ветер, и половина Путивля погружалась во тьму.
Новый состав горисполкома начал свою деятельность с приведения в порядок жилого фонда. Проверили состояние каждого дома, каждой комнаты и разработали план ремонта жилья, который утвердили на заседании горсовета, и приступили к его выполнению.
Ассигнованных на ремонт денег и материалов не хватало, дело подвигалось медленно, но на помощь опять пришел актив. Чего только не сделают наши советские люди, когда их устремление и энергия направлены на определенную, нужную народу цель. Нашли и лес, и краски, и проволоку, из которой научились делать гвозди. Организовали производство кирпича и извести, добычу камня и мела. Работа кипела круглый год. В 1940 году план ремонта жилья был намного перевыполнен.
В том же году были открыты портняжная и сапожная мастерские, пекарня по выпечке кондитерских изделий, колбасный цех, организована транспортная артель…
Ранней весной приступили к озеленению. На улицы и площади города вышло почти все население. Застрельщиками в этом деле была молодежь – студенты, учащиеся старших классов. За одну весну фруктовыми и декоративными деревьями засадили парк, разбитый на бывшей базарной площади. В центре парка установили памятник В. И. Ленину. Десятки тысяч деревьев высадили вдоль улиц.
Приятно было пройти по городу, он на глазах расцветал. Домики преобразились, все сияло свежей краской. А как красиво было весной 1941 года, когда зацвели сады, покрылись листвой молодые посадки.
Каждое утро, по дороге в горисполком, я обходил места, где велись работы по благоустройству. Ходил не только по улицам, но и напрямик – проходными дворами, перелазами, так что и город, и где что делается хорошо знал.
Знали и меня в городе, да и во многих селах района было немало знакомых. Бывало, подъезжаешь к селу, а детвора уже встречает разноголосым щебетанием.
Не успеешь подойти к сельсовету или правлению колхоза, как начинает собираться народ. Кто за советом, кто с просьбой или жалобой, а кто просто послушать, о чем говорить будут.
Ну, а на праздники – на 1 Мая или на октябрьские торжества – от приглашений отбою не было. Зайдите да зайдите… И заходил. С хорошими людьми, которые тебе в работе всячески помогают, и повеселиться можно.
Хорошо жить начинали. Во всем реально ощущалась великая победа советского народа – победа социализма. И вдруг все круто изменилось…
Началась война народная
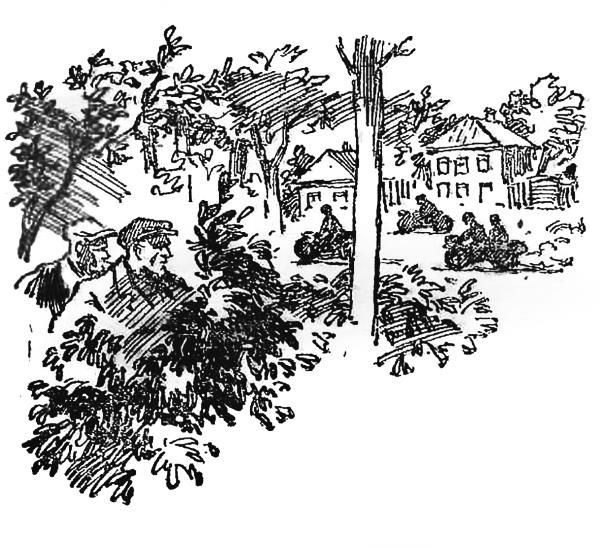
Люди старшего и среднего поколений навсегда запомнят этот день – 22 июня 1941 года, когда ударил гром тяжелейшей войны. Пришлось сразу, в несколько часов, отказаться от мирных планов и намерений.
В этот день, через несколько часов после тревожной вести о нападении фашистской Германии на Советский Союз, собралось бюро Путивльского райкома партии. Решили: активу перейти на казарменное положение, строить бомбоубежища, срочно ремонтировать помещения, пригодные для использования под госпитали, создавать истребительные отряды, всячески помогать райвоенкомату в проведении мобилизации.
В напряженной работе незаметно летели дни.
3 июля. Становится реальной опасность проникновения фашистских армий на Левобережную Украину, на Сумщину и даже к нашему Путивлю, расположенному чуть ли не в тысяче километров от государственной границы. Слушали по радио обращение ЦК ВКП(б) к народу. В память врезались слова:
«В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды конные и пешие… создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников… уничтожать их на каждом шагу».
Задача ясна. Долго раздумывал: где в свои пятьдесят пять лет я сумею больше принести пользы? Там, на востоке, или в тылу врага? За плечами опыт боев в империалистическую войну, партизанская и армейская школы Пархоменко и Чапаева, курсы в высшей стрелковой школе, двадцатитрехлетний стаж работы с людьми, двадцать два года труда и учебы в партии. Коммунисты, рабочие, жители Путивля избрали меня председателем исполкома горсовета. Как же оставить своих избирателей, если сюда придет враг? Ведь председатель исполкома – это представитель советской власти в городе, а власть наша народная, с народом она делит радость и горе…
Твердо решил – останусь.
Вечером собрался партийный актив. Внимательно выслушали сообщение о работе ЦК КП(б)У по подготовке к развертыванию партизанской борьбы в районах, которым угрожает оккупация. Речей не произносили. Все ясно. Нужно действовать.
Решили, соблюдая строжайшую секретность, создать из партийного и советского актива района и личного состава истребительного батальона, сформированного при совете Осоавиахима, четыре партизанских отряда: первый – в Спащанском лесу, второй – в Новослободском, третий – в Казенном, четвертый – в селе Литвиновичи.
Отрядом в Спащанском лесу поручено командовать мне, в Новослободском – Рудневу. Кроме того, мне поручили создать три базы с продовольствием и снаряжением: одну в Спащанском лесу, вторую в Монастырском, третью в массиве молодого сосняка, невдалеке от села Ильино-Суворовка. Расчет простой: в случае тяжелого положения, которое может создаться в Спащанском и Монастырском лесах, Ильино-Суворовская база, заложенная в степи, далеко от дорог, будет надежным резервом.
20 августа. Задание райкома по закладке баз выполнено. Вчера закончили последние работы. Этим делом занимались я, Коренев – директор инкубаторной станции, зав. отделом коммунального хозяйства горсовета Попов, председатель Кардашевского сельсовета Рыжков, коммунисты Козаченок, Мерзляков, Толстой, Войкин и Демьяненко.
Под видом оказания помощи Красной Армии мы изготовили 250 котелков, несколько десятков ведер и баки для варки пищи. Запасли 75 пар сапог, 250 шапок, 100 ватных курток, 500 пар белья, 100 пар рукавиц, полторы тонны сливочного масла, полтонны варенья, тонну колбасы, крупы разной, лапши, сала, соли, сахару, сухих овощей и фруктов. Из боеприпасов сумели раздобыть 750 килограммов аммонала. Все это днем свозили на склад горсовета, а ночами скрытно переправляли в лес.

