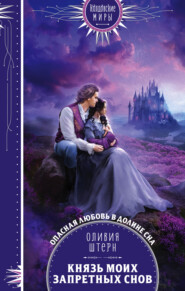
Полная версия:
Князь моих запретных снов

Оливия Штерн
Князь моих запретных снов
…По Дороге сна – мимо мира людей; что нам до Адама и Евы,
Что нам до того, как живет земля?
Хелависа. «Дорога сна»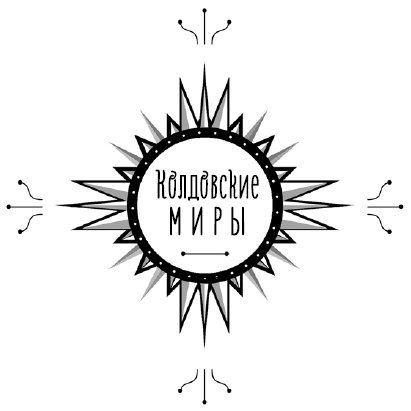
© Штерн О., текст, 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
Пролог
Хлопнула дверь, моментально разрезав солнечное утро на половинки. Одна из них, яркая, умытая вчерашним дождем, цветущая васильками и крупными бордовыми мальвами, мгновенно исчезла. Мне же досталась другая: душная, кислая, пропахшая помоями и навозом, наполненная мычанием, шуршанием соломы, сопением и хрюканьем.
В амбаре не было темно. Сквозь маленькое окошко, затянутое пузырем, сочился мутный желтоватый свет, но все равно в душе шевельнулось беспокойство, глупое и беспричинное. Прихрамывая, я дотащила ведро с помоями до загородки, вывернула его в корыто и поспешила к выходу. Дел впереди еще много. Очень. И никто их, кроме меня, не сделает.
А потом я вдруг подумала, что, входя в амбар, специально подперла дверь жердью, и закрыться она никак не могла.
Толкнула дверь – та не шевельнулась. Навалилась всем телом – безрезультатно. Если я и подпирала ее, чтоб не захлопнулась, то кто-то постарался подпереть с другой стороны, чтоб я уже не открыла.
Дэвлин! Хоршев сыночек своей мамочки! Теперь, когда он меня запер, я не успею натаскать воды, за что вполне ожидаемо получу оплеуху. И охота ж ему была вставать в такую рань, чтобы мне насолить?
Я отставила ведро, опустилась на колени перед дверью. Сарафан запачкался, но было уже не до него. Я припала лицом к шершавым доскам, попыталась сквозь щель рассмотреть, чем там застопорили дверь. По ту сторону темнело что-то большое, не меньше, чем полено. Ах ты паршивец!
И, понимая, что хозяйских оплеух теперь точно не избежать, я уселась прямо на землю. Все, что оставалось, – ждать, пока матушка Тирия изволит самолично заглянуть в амбар, обеспокоившись отсутствием завтрака на столе.
Я подтянула колени к груди, оперлась спиной о доски. От нечего делать расправила пострадавший подол сарафана. Потом сняла башмаки и принялась рассматривать мозоли на мизинцах, которые так надоедливо болели последнее время.
Ступни у меня маленькие и узкие, но сбиты в кровь. И мозоли противные. А у матушки и у Милки ступни розовые, мягкие, они даже покупали специальную мазь в баночках и ей ноги натирали. Меня и гоняли тогда за ней к торговцу. Мазь приятно пахла, розами. Мне тогда досталось… понюхать, что задержалось на донышке. Тонкий-тонкий прозрачный слой. Я собрала мазь и натерла ей руки, потому что потрескались и болели. Матушка унюхала и заставила трижды перемыть полы в доме, чтоб я на чужое не заглядывалась. А Дэвлин ходил следом и ржал как конь. Мила, правда, не ржала, зато нарочно на свежевымытые полы накрошила хлеба, и мне снова досталось.
Я сидела на земле и размышляла. Это всегда так: когда ничего не делаешь, в голову лезут самые разные мысли. Какие? Например, о том, как я могла бы жить, если бы матушка Тирия была моей родной матерью. Или о том, куда делись мои настоящие родители и почему меня оставили на крыльце этого дома. Я всегда представляла себе свою маму очень красивой, утонченной. Печальной принцессой, которую заперли в самой высокой башне мрачного замка. И, конечно же, она умела читать и писать, и обязательно была очень доброй. А почему она меня бросила? Ну, вдруг меня украли ее враги? О том, что моя родная матушка жива и выбросила меня, потому что не нуждалась в дочке, думать не хотелось.
Потом мысли вернулись к Дэвлину. Он был очень похож на матушку Тирию, рыхлый, рыжий и в веснушках. Когда мы были совсем еще детьми, он вел себя терпимо. Но почему-то когда стали подрастать, нрав у него сделался просто отвратительным. Он был старше на четыре года, и я в двенадцать лет не совсем поняла, зачем он прижал меня к стене всем своим рыхлым телом. А потом, когда полез целоваться, укусила за щеку. Сильно, до крови.
Тогда… меня наказали. А после того случая все, что делал Дэвлин, – это пакости. Разные, всякие, маленькие и не очень. Вот примерно как сейчас. Зачем он меня запер?
Шесть лет прошло уже с того случая. Злопамятный засранец.
За дверью что-то зашуршало, и меня словно пружиной подбросило. Развернувшись, я снова припала к щели. Снаружи была видна чья-то серая юбка, длинная. Юбка колыхалась, я увидела сжатую в кулак руку. Молодую руку.
– Мила! – позвала я. – Это ты? Выпусти!
Молчание. Я не понимала почему. Уж Миле-то не за что на меня злиться. Незачем.
– Мила?
Меня затрясло. Почему она молчит? Что они там задумали?
– Ильса, – наконец сказала она и присела на корточки.
Я увидела ее лицо, круглое, розово-веснушчатое. И даже один глаз увидела, водянисто-серый, в реденьких рыжих ресницах.
– Милочка, выпусти меня, – я вцепилась в плохо оструганные доски, – это Дэвлин меня запер, да? Выпусти, пожалуйста! Матушка злиться будет, а я…
– Ильса, – Мила приблизила губы к щели, – знаешь… я не могу. Не могу выпустить, прости. И это я тебя заперла.
Меня словно холодной водой окатили.
– Но… почему? За что? – Cиплый шепот царапал сжавшееся в спазме горло.
– Матушка приказала. А Дэвлин еще ночью поехал в замок Бреннен.
– Выпусти меня, – прошептала я, – Мила, выпусти…
Упоминание замка Бреннен напрочь лишило способности мыслить. И я заорала, уже не таясь:
– Выпусти! За что? Что я тебе сделала? Я же тебя спасла! Мила-а-а-а!
И заколотила кулаками в доски, сдирая кожу, но уже не чувствуя боли. Потом опомнилась, снова вцепилась в дверь, припала к щелке – серая юбка быстро удалялась.
– Мила-а-а-а!!!
…Вот так. Остается только сидеть на полу. Амбар крепкий, из него не выбраться. А оконце слишком маленькое и слишком высоко, чтобы им воспользоваться.
Снова полезли мысли, непрошеные, неприятные. Почему они так со мной? Если меня отдадут в замок Бреннен, то… я даже не знаю, что со мной станет. Но уверена – это будет во много раз хуже, чем десять оплеух от матушки и лезущий под юбку Дэвлин. Люди, способные ходить в Долину Сна, уже не остаются людьми.
А я… я сделала самую огромную ошибку в своей жизни, не позволив Миле в эту Долину шагнуть.
Каждый добрый поступок наказуем, вот к какому выводу я пришла.
Мысли – бестолковые мысли – раздражали. Я поднялась, стала ходить по амбару, как была, босиком. Когда двигаешься, немного легче.
Значит, замок Бреннен…
Сколько мне осталось? Наверное, уже недолго. Наша деревня в полудне езды от замка. Вернее, от каменного утеса, который стоит, чуть склонившись, любуясь собственным отражением в море. Утес так и называют, «горбатым». А на горбу стоит старый-старый замок, куда нет никому хода – кроме тех, кто может защитить людей от Сонной немочи и от власти духа Урм-аша, проклятого духа Вечного сна. Болтают, что там, за высокими серыми стенами, сложенными из древних камней, сноходцев изготавливают из тех, в ком есть частица духа Пробуждения. Болтают и о том, что тех, кого привозят в Бреннен, сперва потрошат, затем, уже выпотрошенных, вымачивают в больших черных чанах, а вместо внутренностей внутрь кладут солому. Вроде как сноходцы после этого могут вытащить из Долины любого… мне не хотелось, чтобы меня разрезали, словно рыбину, и выпотрошили. Жить хотелось… очень. Любой ценой.
И я ничего не могла сделать. Ни-че-го. От осознания собственного бессилия, невозможности хоть что-нибудь изменить мутило, а во рту пересохло.
А может быть, так даже лучше?
У меня нет никого, кто бы обо мне горевал. Никто не будет ходить на мою могилу, если умру. Ну не Дэвлин же, в самом деле. И даже если меня выпотрошат и набьют соломой… Как-то ведь эти сноходцы остаются живыми? Как-то разъезжают они по королевствам? Еще и плату берут такую, на какую вся наша деревня жила бы год.
Меня начало знобить. Надо было чем-то себя занять, а я не знала, чем. Подошла, погладила корову Марьку. У нее был такой теплый и мягкий нос, и глаза – большие, блестящие, как будто она собиралась заплакать.
– Маречка, – невольно прошептала я, – моя хорошая…
Поняла, что сама уже реву, горячие слезы катились по щекам. Было страшно, но сильнее страха терзало осознание того, что моя приемная семья попросту меня продает. А Милу я ведь вытащила, выхватила у Сонной немочи, успела до того, как ее тело стало превращаться в сухую куколку…
Когда за дверями раздался шум, я только прижалась спиной к загородке, за которой печально стояла Марька. Перед глазами стремительно сгущался туман, сердце трепетало где-то в горле. И как будто издалека-издалека услышала я голос матушки.
– Вот, милостивые государи, вот тут она, наша ласточка. Отдаю, от сердца отрываю. Вы уж не обидьте меня. С двумя детьми остаюсь.
В открывшемся дверном проеме возникли два плечистых мужика в черных доспехах, на головах – шлемы.
– Не надо, – вырвалось у меня жалкое, – матушка, не надо! Пожалуйста! Клянусь, все буду делать и злить вас не буду! Только не отдавайте!
– Молчи, дуреха, – совсем недобро ответила матушка Тирия, – совсем ума лишилась? Да не слушайте ее, государи мои, дурная девка, блажная. Вчера сама просилась.
– Так, может, ты нас обманываешь? Не похоже, чтоб сама просилась, – пророкотал один из мужчин, останавливаясь.
– Милку спросите, милостивые государи! Увидите все как есть. Частица Энне-аша в ней, клянусь Всеми!
– Не надо, – прохныкала я, понимая, что деваться уже некуда.
Двое шагнули ко мне сквозь трепещущее полотнище надвинувшегося обморока.
– Извольте с нами, барышня, – прогудел один из них.
– Нет… нет!
И тут не иначе как безумие меня охватило. Я рванулась вперед, между ними, прямо к распахнутой двери. Дура. Разве женщина может тягаться в ловкости с тренированными воинами?
Они меня так мягко и ловко подхватили под локти, что я даже не сразу поняла: ноги болтаются над землей.
– Идемте, барышня. Не надо бояться.
– Отпустите! – взвизгнула я, извиваясь всем телом, едва не выскакивая из сарафана. – Умоляю, пустите! Я же… никому… дурного не делала… никому…
– Конечно, никому и ничего, – согласились они.
И поволокли прочь из амбара, словно я ничего не весила. Босиком, как была.
Я успела увидеть довольную рожу Дэвлина, опечаленное лицо Милы. Она по воздуху начертила мне вслед оберегающий знак, призывая Всех быть милостивыми. Потом… широкие ступени крыльца сбоку, трещина в беленой стене дома, ветвистая, наискосок. Ворота. Цветущие мальвы, ярко-розовые, бордовые, желтые, раскрытые навстречу солнцу.
Прямо за воротами стояла черная карета, огромная, как мне показалось, без окон. Просто здоровенный черный ящик.
Все так же, без особого труда, но при этом очень аккуратно, меня затолкали внутрь, и снаружи щелкнул запираемый замок. Я свалилась на колени, ноги не держали, и судорожно хватала ртом душный воздух, в котором витали совершенно незнакомые мне запахи. Я бы даже сказала – ароматы, цветочные и свежие, точно первые капли дождя после засухи.
– О, – прозвучал чей-то голос. Мужской, приятный голос. – Надо же, свинарником запахло.
Карета дернулась и покатилась, прочь от дома и навстречу замку Бреннен.
Глава 1
Тропой сноходцев
– Да ну, почему же сразу свинарником? Просто… еще один запах природы, – ответил ему кто-то.
Зрение постепенно привыкало к сумраку кареты, я судорожно сглотнула. По углам, под потолком, раскачивались небольшие кованые фонарики, и блики рыжеватого света плясали по мягкой обивке и по тем, кто уже находился внутри.
На одном диване сидели два молодых мужчины, отменно одетые, сразу видно, что из благородных. Тот, что поближе ко мне, жгучий светлоглазый брюнет, оказался очень красивым – ну прямо принц из сказки. И он же, морщась, старательно зажимал нос кружевным платком. Второй мужчина был светловолос, но и близко не так красив, как первый. В свете фонариков я рассмотрела, что глаза у него темные, почти черные. Кажется, он мне улыбнулся, но улыбка получилась жутковатая: двигалась только одна половина лица, вторая застыла, словно часть вечно равнодушной маски.
На втором диване, в уголке, сидела девушка, тоже очень хорошо одетая – настоящая куколка. Темноволосая. И глаза такие выразительные, карие, как у лани, в густых ресницах – таких, что даже взгляд казался бархатным.
– Энне-аш воистину неразборчив, – надменно прогнусавил брюнет с платком. – Надо же, никогда не думал, что он обращает свой взор на селянок!
– Благословенный Энне-аш может обратить свой взор на любого, – поучительно заметил светловолосый, – и в этом наше счастье и спасение.
А потом он вдруг поднялся, сделал шаг ко мне и протянул руку.
– Поднимайтесь. Никто здесь не причинит вам вреда.
И снова улыбнулся, а я… все стояла на коленях и словно завороженная смотрела на эту его жутковатую ухмылку и никак не решалась прикоснуться к его чистым и наверняка пахнущим одеколоном пальцам. Мои-то были грязными, в мозолях и трещинах.
– Давайте-давайте, – добродушно сказал мужчина, – ну?
И испытующе уставился на меня. Совсем не добродушно. Взгляд резал похлеще тех серпов, которыми срезают колосья. Я решилась. Подала руку, а он сперва сжал ее, а затем просто наклонился, подхватил меня под локти и дернул вверх, ставя на ноги. Подтолкнул чуть назад, и я плюхнулась на диван, тот самый, на котором в уголке молча сидела разодетая в пух и прах девушка с глазами лани.
Мужчина вернулся на свое место, закинул ногу на ногу. Башмаки… нет, туфли были у него дорогущие, такие красивые… Хорошо, что в карете темно, потому что я, похоже, начала стремительно краснеть: оттого, что они все одеты и обуты, а я босая, с грязными руками и ногами, да еще и в старом линялом сарафане, и коса растрепалась.
– Больше уже ни за кем заезжать не будут, наверное, – сказал светловолосый.
– Могли бы сперва нас отвезти, а потом уже… за этой, – буркнул брюнет. Он все еще подносил к носу платок, а на меня и вовсе не смотрел.
Зато внимательно смотрел светловолосый.
– Как тебя зовут? – внезапно спросил он.
Щеки нещадно горели, но я все же подняла глаза и выдохнула.
– Ильса… Ильсара, господин.
– Я тебе не господин, – он улыбнулся, – в замке Бреннен все равны. Все, кто при рождении заполучил частицу духа Пробуждения.
– Возражаю, – прогнусавил брюнет, – вот этой вот… я был и буду господином. И настаиваю, чтобы ко мне она обращалась именно так и никак иначе. А лучше пусть вообще не обращается. Нам с ней даже на одной лавке делать нечего.
Мне показалось, что при этих словах светловолосый чуть заметно улыбнулся – но его половинчатая улыбка так же быстро исчезла. Он серьезно посмотрел на меня.
– Ну, раз у нас все вот так… Тогда я представлю тебе собравшихся. Начнем с дам. – Он отвесил шутливый поклон в мою сторону и продолжил: – Вот эта девушка, что рядом с тобой, – Габриэль де Сарзи. А этот грозный аристократ – Тибриус ар Мориш ар Дьюс. Был бы наследником герцогства, да не вышло. Энне-аш решил его избрать как сосуд для частицы себя.
Тут мне показалось, что брюнет, наследный герцог, прямо заскрежетал зубами, но почему-то промолчал.
– И, наконец, я. Альберт Ливес, воспитанник Школы Парящих. Если бы наставники не узнали о том, что я тоже несу в себе частицу духа Пробуждения, то мог бы тоже стать наставником…
И он, как мне показалось, глубоко вздохнул.
Потом снова улыбнулся.
– А у тебя есть фамилия?
Я пожала плечами. Какая фамилия может быть у сироты, подброшенной на крыльцо крестьянского дома? Даже имя мне дал жрец Всех, когда его позвали к найденному на крыльце младенцу.
– Понятно, – сказал Альберт. – Ну, значит, я буду называть тебя просто Ильсой. Или Ильсарой? Как тебе больше нравится?
– Красивое имя, – вдруг подала голос девушка.
У нее оказался довольно тонкий и нежный, словно россыпь хрустальных колокольчиков, голосок. Наверное, с таким голосом она могла бы петь в храме Всех.
– Даже звучит аристократично, – добавила она. – Мне нравится «Ильсара».
И прозвучало мое имя так непривычно, так чуждо… как будто и не мое вовсе.
– Меня всегда называли Ильсой, – тихо сказала я и обхватила себя руками.
– Ну хорошо. Ильса так Ильса, – согласился Альберт.
Тибриус ар Мориш ар Дьюс ничего не сказал, уставился в потолок кареты.
Нас немного потряхивало на ухабах. Фонарики раскачивались. Пахло цветами, свежестью, а еще новой кожей. В карете воцарилось молчание. Альберт откинулся на спинку дивана и, казалось, задремал, утратив ко мне какой-либо интерес. Габриэль де Сарзи тоже устроилась в уголке, сложила тонкие руки на груди и прикрыла глаза.
Я вздохнула. Мерные покачивания кареты и скрип рессор помимо воли навевали сон. Я еще раз оглядела своих попутчиков. И как они могут так спокойно спать, если будут выпотрошены и набиты соломой?
И тут закралось в душу подозрение, что нам, деревенским, сильно недоговаривали. Или наоборот, говорили слишком много, куда больше того, что происходило в замке Бреннен на самом деле. А если это так, то, возможно, и неплохо то, что меня забрали от матушки Тирии?
Я забилась в уголок дивана, натянула на коленки сарафан, так, чтоб было поменьше видно мои босые ноги, и задумалась.
Сидела и вспоминала… О том, как все узнали о частице духа Пробуждения во мне.
* * *Мы привыкли жить в окружении духов. Их очень много, всех не запомнишь – наверное, именно поэтому самые большие, самые лучшие храмы посвящали Всем. Чтоб никого не обидеть и не прогневить. Духи были очень разные: добрые, злые, честные, хитрые – и по большей части не трогали людей. Разве что дух Огня мог вдохнуть частицу себя в новорожденного – и тогда, начиная с определенного возраста, малыш мог спокойно жонглировать горящими углями. Или, например, если ребенка коснулся дух Грозы, такой человек был способен эту самую грозу призвать. Если частица духа в нем была большой, то и призываемая гроза становилась страшной бурей. Маленькая частица, соответственно, позволяла вызвать теплый дождик и ветер. Я даже один раз видела, как во время засухи пригласили старуху, сгорбленную и седую – годы согнули ее дугой, так что ее нос оказался где-то на уровне моей талии. Старуха эта обошла вокруг деревни, вышла в поле и очень долго там стояла, опираясь на клюку. А потом как-то быстро небо затянуло черными тучами, и полило так, что деревню едва не смыло. В амбаре было воды по щиколотку, и матушка верещала как резаная, требовала, чтоб я воду вычерпала. А как ее вычерпаешь, если она повсюду?
В общем, духов было много, но только два из них очень активно вмешивались в жизнь людей: это Энне-аш, дух Пробуждения, и Урм-аш, дух Сонной немочи.
Наверное, духи эти что-то не поделили между собой или еще как-то повздорили, нам неизвестно. Но определенно они друг друга ненавидели и были готовы истребить, почему-то втягивая в свои войны нас, обычных смертных. Урм-аш, судя по всему, был злым, жадным и хищным. Он обосновался в Долине Сна и любил заманивать к себе людские души. Делал он это, когда человек засыпал. Вот просто засыпал кто-нибудь – и уже не просыпался, буди – не буди. Некоторое время человек, которым овладела Сонная немочь, еще дышал… А потом превращался в куколку. Я никогда не видела, как это, – но слышала, что тело ссыхается, кожа делается словно бумага, если тронуть ее пальцем, то порвется… А внутри – ничего. Пустота. Все внутренности тоже ссохлись, превратились в труху.
Однако всех этих ужасов можно было избежать, если вовремя позвать сноходца, того самого, которого выпотрошили в замке Бреннен и набили соломой. Тогда, если заболевший Сонной немочью еще дышал, сноходец уходил в Долину Сна и как-то умудрялся привести заблудившуюся душу обратно и водворить ее в тело.
Вот на этом-то я и попалась.
Так уж получилось, что однажды я пришла убираться в спальне Милы. Утро было позднее, а Милка все еще бессовестно дрыхла. Я специально стала греметь дужкой ведра и с грохотом отодвигать стулья, но Мила и не думала просыпаться. Когда я дошла до мытья полов под кроватью, у меня руки так и чесались подергать ее за косы, я остановилась над спящей, размышляя, насколько мне за это попадет от матушки… И вдруг увидела.
Я увидела, что Мила стоит рядом с кроватью – и одновременно лежит на ней. А еще, что Мила – та, которая стоит, – опутана тонкой багровой паутиной, блестящей, кое-где, как мне тогда показалось, в мелких кровавых сгустках. Паутина эта тянула Милу к пятну, которое походило на марево над пашней в жаркий день. Пятно колыхалось, расплывалось, и с каждым мгновением Мила пододвигалась к нему все ближе и ближе.
– Мила, – выдохнула я, немея от ужаса.
Как же так?
Вот же она, дрыхнет себе на кровати.
И вместе с тем…
А Милка смотрела на меня так умоляюще-пронзительно и при этом молчала, что у меня дыхание застряло в горле. Я разглядела, почему она не может говорить, ее рот был зашит все теми же кровавыми стежками.
Все решилось в считаные мгновения.
Уже совершенно не соображая, что происходит, я протянула вперед руки, рванула к себе Милку, ту, которая стояла над собственным же телом. Я ее схватила за предплечья, поверх рукавов сорочки, изо всех сил дернула. Паутина лопалась с треском, и в тот миг, когда лопнула последняя липкая нить, Милка наконец подалась ко мне – а у меня под пальцами ее тело вдруг стало мягким, словно пух, и распалось золотой пылью.
– Милка, – прошептала я, и потом крикнула: – Мила-а-а-а!
– Ильса, – хрипло позвала та Милка, которая лежала на кровати и теперь проснулась, – что… было? Я помню, как меня куда-то затягивало… И спальня вся сделалась прозрачной, а ты…
Благословенный дух Пробуждения, Энне-аш, оставил во мне кусочек себя самого.
Именно поэтому я и увидела, как Милка уходит в Долину Сна, и именно поэтому успела ее схватить.
Ну а дальше… Говорят, Сонная немочь не забирает дважды. Мила была в безопасности.
А за регистрацию сноходца отваливали целое состояние.
Даже матушка живо сообразила, что же произошло в спальне. И теперь я еду в темной карете без окон, одна среди аристократов, прячу свои ужасные ноги и руки. Но страх потихоньку отступает. Они ведь не боятся того, что с ними сделают в замке Бреннен? Возможно, не все так плохо?
Карета остановилась.
Альберт приоткрыл глаза, встряхнулся.
– Ну, приехали.
* * *Замок Бреннен встретил нас торжественной, почти потусторонней тишиной и пустотой. Когда я выбиралась из кареты – последняя, прячась за спины несостоявшегося герцога и Альберта, – почему-то ожидала марширующие шеренги защитников замка в черных балахонах, толпу отмеченных духами. Но нет. Ничего такого не случилось. Внутренний двор оказался совершенно пустым, безжизненным. Приоткрыв рот, я рассматривала внешнее кольцо замковой стены, по внутренней стороне которой паучьими лапами разбегались многочисленные деревянные лестницы и закрытые коридоры, огромное центральное строение, закрывшее полнеба, с беспорядочно разбросанными стрельчатыми окнами, в стеклах которых отражалось солнце. Деревянная черепица тускло блестела старым серебром, точно так же, как серебряные ложки матушки, когда их начистишь мелом. И все это… оказалось настолько красиво и величественно, что я не сразу сообразила: меня окликнули.
Оказывается, глазея на замок, я пропустила самое важное: к нам подошел высокий мужчина, немолодой уже, седоватый. Он был облачен в богатое одеяние из черного бархата – что-то вроде многослойной туники, длинной, ниже колен, – а на груди золотились вышитые звезды и еще какие-то символы. И теперь он строго уставился на меня. Альберт посторонился, давая этому господину меня рассмотреть. Я осторожно взглянула в лицо незнакомцу и поразилась тому, какой у него молодой и цепкий взгляд. А глаза цветом как ягоды ежевики…
– Барышня, вы оглохли? – сухо повторил он, сверля меня тяжелым и не сулящим ничего хорошего взглядом.
– Я… простите…
Он был таким… манерным, таким роскошным, и вышивка на груди так и искрилась, так и переливалась. Вконец смутившись, я обреченно уставилась на него, ожидая… Чего? Я и сама не знала. Матушка обычно награждала оплеухой, ее муж разражался непристойной бранью. Этот господин… казалось, мог ударить, сильно ударить. И я невольно втянула голову в плечи, надеясь, что мой никчемный вид вызовет жалость.
– Я поинтересовался, как вас зовут, – вкрадчиво поинтересовался мужчина, даже не шевельнувшись, не сделав ни единого движения в мою сторону. – Вам ведь несложно ответить?
Кажется, его герцогство презрительно фыркнул.
А я набрала воздуха побольше и сказала:
– Ильсара, господин. Меня зовут Ильсара.
– А фамилия?
Тяжелый взгляд скользнул по мне снизу вверх и обратно, мне показалось, что мужчина скривился. Все-таки… Какой он… Явно не крестьянских кровей. Красивый, хоть и не молод уже. Мне вообще не доводилось встречать мужчин, которые бы старились красиво. В деревне, на тяжелой работе, мужики быстро превращались в сморщенных, сгорбленных и искореженных жизнью.



