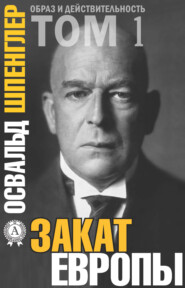
Полная версия:
Закат Европы. Том 1
Если теперь попробовать понять внутренний механизм падения западной культуры, распада ее души, то лучше всего обратиться к ницшевской идее нигилизма. В самом деле, согласно Шпенглеру, всякая культура переходит на стадию цивилизации после соответствующей переоценки всех ценностей, с которой выступают выдающиеся отрицатели этой культуры, т. е. великие нигилисты. По этой причине, считает Шпенглер, буддизм, стоицизм, социализм суть проявления мироощущения людей не цветущей культуры, а времени ее заката, падения, перехода к цивилизации. Косвенным подтверждением правоты Шпенглера в этом вопросе можно считать описание причин заката месопотамской культуры в 1 тыс. до н. э. Г. Франкфортом и его коллегами. Они, разбирая древний памятник культуры – «Пессимистический диалог», демонстрируют, как скептицизм, сомнение и безразличие подтачивают духовную культуру некогда могущественного народа[17].
Пересмотр ценностей с переходом к цивилизации означает перемену точки зрения на мир «с орлиной» (Шпенглер) на «лягушачью» (Ницше), падение с высоты видения мира Эсхилом, Платоном, Данте, Гете, на «кочку зрения» (Горький) обыкновенного потребителя, представителя «структур повседневности» (Фернан Бродель).
Судьба европейской культуры предвосхищена Гете в его великой трагедии, герой которой, Фауст, всю жизнь бывший кабинетным ученым-схоластом, в «новом рождении» становится в конце концов практическим деятелем крупного масштаба. Фаустовские поиски «абсолюта», «философского камня», присущие великим европейцам, завершаются – после мучительной переоценки ценностей – осознанием того, что жизнь есть переплетение «причин и действий», а потому надо действовать. В этом смысле фаустовский человек на цивилизованной стадии развития мира оказывается для Шпенглера «социалистом». Снова парадокс Шпенглера?! Ведь мы привыкли иметь дело с социализмом Маркса, Ленина, Сталина, Брежнева. С этими именами связывают обычно и идеализацию социализма, и его вырождение, самоуничтожение. Но если социалистическое мирочувствование выводить из европейской культуры и рассматривать в контексте «Заката Запада», то шпенглеровское определение социализма как раз и будет «цивилизационным», а потому предельно широким. Социалистическое мышление, по Шпенглеру, есть развитие выводов из формулы Ф. Бэкона «Знание есть могущество» и из категорического императива Канта, если приложить его к социальной и хозяйственной политике: «Поступай так, как будто принципы твоей деятельности должны стать, при посредстве твоей воли, всеобщими законами природы!»
Не приходилось видеть не только более точного и глубокого определения того, что у нас называлось «реальным социализмом», но и более точного диагноза его болезни: неограниченная воля к власти разрушительна для всего живого, в чем эта воля возникает. Воля к власти в политической форме породила и наш «реальный социализм», она же и разрушила его. Воля к власти в технико-машинной форме разрушает планетарную биосферу. И это – одна и та же воля, составляющая сущность европейского нигилизма, «суть сущего», говоря словами М. Хайдеггера.»
Логическим завершением «Заката Европы» явилась шпенглеровская книга «Человек и техника», и, следовательно, яснее Шпенглера никто не представлял себе суть философии XIX в., главнейшим содержание которой стала концепция воли к власти в ее цивилизационно-интеллектуальном виде – как воля к жизни и как жизненная сила. Эта философия родилась в 1819 г., в книге Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление» (Die Welt als Wille und Vorstellung). Эту тему, считает Шпенглер, затем развивали Прудон, Бебель, Фейербах, Энгельс, Маркс, Вагнер, Дарвин, Дюринг, Ибсен, Ницше, Стринберг, Вейнингер, Шоу. Тайны мира представлялись им в виде тайны познания, тайны ценностей и тайны формы, волю к открытию которых они продемонстрировали в полной мере.
Книга О. Шпенглера заканчивается описанием симптомов конца западной науки, один из которых «утончение интеллекта». Что это значит? Да то, что наука превращается в чистую игру функциональными числами. Вспомним, что первая глава названа автором «О смысле чисел», и в ней показано, что прасимволом всякой культуры является число. Из этого следует, что воля к чистому числу есть воля духа к открытию тайны. Тайна же состоит в том, что «естествознание обволакивает все более прозрачное сплетение», которое есть внутренняя структура духа, дающая Природе свой Образ.
И этот вывод есть вершина философии Шпенглера и вместе с тем его величайшее прозрение в математизированную сущность современной технологической цивилизации – прозрение, плохо понятое или, лучше сказать, совсем не понятое не только современниками философа, но и страстными адептами нынешнего европейского рационализма. Поэтому, дочитав книгу до конца, понимаешь маржинальный смысл ее подзаголовка – «Образ и действительность». В нем слышится предсказание «постчеловеческого мира». Но эту тему предстоит развивать современной глобалистике.
* * *Теперь стоит сказать о том, что в России были свои предтечи О. Шпенглера. Николай Яковлевич Данилевский за 50 лет до «Заката Европы» написал книгу «Россия и Европа» [18].
Слушатель Царскосельского лицея, выпускник физико-математического факультета Петербургского университета, петрашевец, ученый-географ и путешественник, публицист, автор двухтомного труда «Дарвинизм», Данилевский создал свою теорию культурно-исторических типов. Но эта теория не получила признания ни в России, ни в СССР. Среди критиков Данилевского оказались и великий философ Владимир Соловьев и ответственный редактор журнала «Под знаменем марксизма» А. Деборин (его оценку книги «Россия и Европа» можно прочесть в 20-м томе БСЭ, 1930 г.). Н. Я. Данилевский получил признание через сто с лишним лет и теперь он признанный предшественник Шпенглера, Тойнби и Сорокина, а его вклад в мировую философию истории и культурологию считается неоспоримым. Так, Л. Н. Гумилев считает Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева равновеликими Шпенглеру и Тойнби.
Четвертая глава книги «Россия и Европа» озаглавлена глобальным вопросом: «Цивилизация европейская тождественна ли с общечеловеческой?» и автор отвечает на него так: «народу одряхлевшему» уже ничто не поможет. История свидетельствует, что народы рождаются и, если им это удается, развиваются, но все равно стареют, дряхлеют и умирают, даже независимо от внешних обстоятельств. Поэтому – предвосхищая Шпенглера – Данилевский заключает, что периодизация истории на древнюю, среднюю и новую неудовлетворительна. Рим, Греция, Индия, Египет имели свою древнюю, свою среднюю, свою новую историю, а в жизни культурно-исторических типов можно различить три, четыре или даже семь возрастов.
Данилевский и вводит в историю принцип относительности, в согласии с которым нельзя отдать преимущества ни одной культуре, культуру можно лишь подразделять по историческим типам. В хронологическом порядке таких типов, или самобытных цивилизаций, он выделяет всего несколько (вновь опережая Шпенглера): египетскую, китайскую, ассирийско-вавилоно-финикийскую, халдейскую (или древнесемитскую), индийскую, иранскую, еврейскую, греческую, римскую, новосемитскую (или аравийскую), германо-романскую (или европейскую). К ним он причисляет два американских типа культуры: мексиканскую и перуанскую. В этих типах он различает «уединенные» и «культуропреемственные». Но ни один тип культуры, говорит он, не может существовать вечно.
Данилевский сформулировал также пять законов исторического развития культурно-исторических типов: закон «выхода из младенчества», закон необходимости «политической независимости для зарождения типа»; закон возможного влияния, но «непередаваемости начал» от одного типа к другому; закон непоглощаемости этносов политическим целым; закон кратности периодов расцвета и периода истощения типом его жизненных сил.
Главным выводом из этой теории стал следующий: у России два пути – либо всеславянский союз, как непременное условие расцвета самобытной славянской культуры, либо потеря всякого культурно-исторического значения.
Славянский культурно-исторический тип, по Данилевскому, отличают православие, «славянство» и крестьянский надел. У этого культурно-исторического типа он находил четыре основы (религиозную, культурную, политическую и общественно-экономическую), а в других – по одной (в еврейском – религиозную, в греческом – собственно культурную, в римском – политическую). В этих основах Данилевский видел необходимое и достаточное условие расцвета славянства. Потому и заключил он свое исследование гордыми словами: «сим победиши».
Насколько бы наивным ни казались сегодня выводы и надежды Данилевского, ему нельзя отказать в известной исторической проницательности: именно эти идеи после семидесятилетнего испытания славянского этноса классовым подходом и тотальной этатизацией снова овладевают умами и политическими движениями. Может статься, что именно эти идеи смягчат удар и шок от уже неизбежной капитализации России, от мучительной ее демилитаризации, неизбежного отказа от тотального огосударствления, от неизбежной интеграции в мировую цивилизацию, уже захваченную планетарным кризисом, который предвидел О. Шпенглер.
Нельзя не заметить, как разительно противоположны выводы Шпенглера и Данилевского, как пессимистичен один – европеец, как оптимистичен другой – славянин. И слава Богу, что некому и уже незачем вопрошать: «С кем вы, мастера культуры?» Время диктует единственный ответ – «С жизнью и культурой!»
И наконец – несколько слов об отношении к идеям Данилевского и Шпенглера С. Л. Франка и Н. А. Бердяева. И Франк, и Бердяев оценивали их творчество с позиции христианских философов. Франк, в частности, подчеркивал поэтому, что блеск «художественных интуиций Шпенглера» бессилен убедить нас в том, что христианство не было исторически значимым культурообразующим фактором. Разделив его между «магической» и «фаустовской» культурой, причем одну половину» слив с исламом (или со средневековым арабским пантеизмом), а другую растворив в протестантской этике и духе капитализма, Шпенглер, верно, по мнению Франка, изобразивший индийскую, вавилонскую, египетскую и даже китайскую культуру, неправомерно проигнорировал культурно-историческую роль иудейского монотеизма. Гораздо более объективным был в этом смысле Данилевский.
Вместе с тем Франк полностью признавал идею перехода западной культуры в цивилизацию 20. Но, говорил он, эта идея, неслыханная для Запада, нас, русских не поразит своей новизной. Страницы книги Шпенглера, проникнутые «страстной любовью» к истинной духовной культуре Европы, которая уходит в прошлое, и отвращением к современной цивилизации, живо напоминают мысли Киреевского, Достоевского, Константина Леонтьева. Но все пророчившие гибель западной культуры, по мнению Франка, не поняли сути событий: культура не умрет, она переживает кризис и переживет его.
Н. Бердяев ощутил кризис европейской культуры еще до первой мировой войны, что и выразил в книгах «Смысл творчества», «Смысл истории», в статьях «Конец Европы», (Cм.,– Франк С. Л. Сочинения. М.: Правда, 1990. «Конец Ренессанса»). Он признавался, что «читал Шпенглера с особенным волнением», но, как и Франк, подчеркивал, что многие русские уже давно чувствовали этот кризис.
Сильное впечатление на Бердяева произвела шпенглеровская идея прасимвола культуры, который определяет единство математики и физики с живописью и музыкой, искусством и религией. Словом, Бердяев вполне мог бы заявить, что Шпенглер – величайший мастер «игры в бисер» – Magister Ludi(!)), если бы Герман Гессе написал свою «Игру в бисер» раньше.
Гениальными назвал Бердяев идею Шпенглера о фазисной однородности буддизма, стоицизма и социализма, рассуждения о математике, искусстве, физике. Но – подобно Франку – считал, что Шпенглер просмотрел роль христианства в судьбе европейской культуры. А это, с точки зрения христианского философа, страшно повредило «Закату Европы». Все это произошло потому, что Шпенглер – «арелигиозная натура». Но ему было дано высказать самые «благородные мысли, которые могли быть высказаны неверующей душой в наше время». И понятно, что Н. Бердяев не прошел мимо сходства идей Шпенглера и Данилевского. Культурно-исторические типы Данилевского, писал он, очень близки к культурам Шпенглера, с той лишь разницей, что Данилевский «лишен огромного интуитивного дара Шпенглера».
Различение культуры и цивилизации Бердяев отнес к самым большим достоинствам книги «Закат Европы», соглашаясь, что философия и искусство существуют лишь в культуре, а в цивилизации они невозможны и не нужны. Культура, – развивал он мысль Шпенглера – органична, цивилизация – механистична, культура опирается на неравенство людей, на их качество как творческих личностей. Цивилизация проникнута стремлением к равенству апеллирует к количеству. Культура – аристократична, цивилизация – демократична. Поэтому многие русские писатели и мыслители неприязненно относились не к самому Западу, а к западной цивилизации. Все русские религиозные мыслители также видели разницу между культурой и цивилизацией. И все они испытывали ужас от сознания близкой гибели культуры и скорого торжества цивилизации, которую отождествляли с мещанством. Всем русским «культурным» людям и капитализм и социализм представлялись одинаково зараженными духом пошлого зла.
Наконец, еще об одном предшественнике Шпенглера – Константине Леонтьеве. Согласно Леонтьеву, всякая культура также переживает несколько фаз развития – зарождение, объединение развитых индивидуальностей, «цветущая сложность», затем дробление и угасание. Для западноевропейской культуры он считал это угасание неотвратимым. Но хотел верить, что «цветущая сложность» еще возможна на Востоке, в России.
История полна парадоксов. Шпенглера почти все названные здесь философы обвиняли в глубоком пессимизме, едва ли не в цинизме. Но сами со временем впадали в тот же грех сомнения и неверия.
Под конец жизни К. Леонтьев потерял веру в Россию и прогресс. Потерял ее и Владимир Соловьев, ощутивший жуткое чувство наступления «царства антихриста». Поздний Маркс усомнился во всеобщности капиталистического пути и потому возложил последние надежды на Россию, на неповторимость ее славянского культурно-исторического лица. Поздний Тойнби, наблюдая нашествие технологии, подчинение человечества искусственной среде, последствия планетарного демографического взрыва, увидел в христианском основании европейской культуры причину нарушения экологического равновесия (за 150 лет до него это же усмотрел, формулируя свой закон народонаселения, Томас Мальтус). Поздний Хайдеггер, поздний Ясперс, поздний Бердяев, поздний Гуссерль, поздний Томас Манн, поздние антиутописты Платонов, Замятин, О. Хаксли, Оруэлл и целое новое поколение современных живописателей планетарного абсурда завершают ряд мыслителей, так или иначе ощущавших закат западной культуры. Этот ряд начинал выстраивать Шпенглер, назвав первым А. Шопенгауэра, а затем и сам стал одним из важнейших его звеньев. Незауряднейший из этого ряда Хайдеггер все же надеялся, что человеку грозит не техника, угроза таится в самом существе человека. «Но где опасность, – писал он, – там вырастает и спасительное». В чем же «спасительное»? – В глубине и настойчивости самого этого «вопрошания» как поиска пути спасения! Хайдеггер вслед за Достоевским верил, что «красота спасет мир». Ницше, Соловьев, Н. Федоров и Тейяр де Шарден уповали на «сверхчеловечество», которое будет превыше наших «добра», «зла», «антихриста» и «технологии». Но это будет уже другая история. Эту историю начинает глобалистика, которая отнюдь не Игра в бисер, но программа воли к жизни, воли к «цветущей сложности» мира.
ВВЕДЕНИЕ
1
В этой книге будет сделана попытка определить историческое будущее. Задача ее заключается в том, чтобы проследить дальнейшие судьбы той культуры, которая сейчас является единственной на земле и проходит период завершения, именно культуры Западной Европы, во всех ее еще не законченных стадиях.
По-видимому, до сего дня еще никому не приходила в голову мысль о возможности разрешить задачу такого огромного охвата, и если мысль об этом и возникала, то не были придуманы средства для ее трактования или они были недостаточно использованы.
Существует ли логика истории? Существует ли превыше всех случайных и не поддающихся учету отдельных событий какое-то, так сказать, метафизическое строение исторического человечества, существенно независимое от очевидных популярных духовно-политических образований внешней поверхности, скорее само вызывающее к жизни эти действительности низшего порядка? Не являются ли великие моменты всемирной истории для видящего глаза постоянно в определенном облике, позволяющем делать выводы? И если так, то где лежат границы для подобных умозаключений? Возможна ли в самой жизни – ведь человеческая история не что иное, как итоги отдельных огромных жизней, и наша обыденная речь находит для них некое «я» или личность, невольно признавая их действующими и мыслящими индивидуумами высшего порядка и называя их «античность», «китайская культура» или «современная цивилизация», – возможно ли отыскать те ступени, которые необходимо пройти, и притом в порядке, не допускающем исключения? Может быть, и в этом кругу основные понятия всего органического: рождение, смерть, юность, старость, продолжительность жизни – имеют свой строго определенный, до сих пор никем не вскрытый смысл? Короче сказать, не лежат ли в основе всякого исторического процесса черты, присущие индивидуальной жизни?
Падение Запада является, подобно аналогичному ему падению античного мира, отдельным феноменом, ограниченным во времени и пространстве, но вместе с тем это философская тема, заключающая в себе, если ее оценить по достоинству, все великие вопросы бытия.
Чтобы уяснить себе, в каких образах протекает угасание западной культуры, необходимо сперва исследовать, что такое культура, в каких отношениях она находится к видимой истории, к жизни, к душе, к природе и к духу, в каких формах она обнаруживается и насколько эти формы – народы, языки и эпохи, битвы и идеи, государства и боги, искусства и произведения искусства, науки, права, хозяйственные формы и мировоззрения, великие люди и великие события – сами являются символом и, как таковые, подлежат толкованию.
2
Средством для понимания мертвых форм служит математический закон. Средство для уразумения живых форм – аналогия. В этом различие между полярностью и периодичностью вселенной.
Всегда существовало сознание, что количество форм исторических явлений ограниченно, что типы эпох, ситуаций и личностей повторяются. Говоря о роли Наполеона, почти всегда припоминали и Цезаря и Александра, причем сопоставление с первым, как мы увидим позднее, было морфологически недопустимо, а со вторым соответствовало действительности. Самому Наполеону его положение представлялось похожим на положение Карла Великого. Конвент говорил о Карфагене, подразумевая при этом Англию, а якобинцы называли себя римлянами. Сравнивали, далеко не в равной мере основательно, «Флоренцию с Афинами, Будду с Христом, раннее христианство с современным социализмом, римских богачей времен Цезаря с янки. Первый страстный археолог, Петрарка – сама археология есть выражение чувства повторяемости истории – приравнивал себя к Цицерону, а совсем недавний организатор английских южноафриканских колоний, Сесиль Роде, имевший в своей библиотеке нарочно для него сделанные переводы античных биографий цезарей, – к императору Адриану. Для шведского короля Карла XII стало фатальным то обстоятельство, что он с юных лет носил в кармане жизнеописание Александра, написанное Курцием Руфом, и во всем хотел подражать этому завоевателю.
Фридрих Великий в своих политических записках, например в «Considerations»[19], о 1738 г. с полной уверенностью пользуется аналогиями, чтобы определить свое понимание ситуаций мировой политики; так, он сравнивает французов с македонцами под властью Филиппа в противоположность грекам – немцам. «Уже Фермопилы Германии, Эльзас и Лотарингия, в руках Филиппа». Это прекрасная оценка политики кардинала Флери. Дальше мы встречаем сравнение между политикой Габсбургов и Бурбонов и проскрипциями Антония и Октавия.
Все это, однако, оставалось отрывочным и произвольным и имело в большинстве случаев своим источником скорее минутное желание говорить поэтически или остроумно, а не глубокое чувство исторических форм.
Так и у Ранке, этого мастера искусных аналогий, сравнения между Киаксаром и Генрихом I, набегами киммерийцев и мадьяр, лишены морфологического значения; немного менее неудачно сравнение греческих государств-городов с итальянскими республиками Возрождения; напротив, сближение Алкивиада и Наполеона полно глубокой, хотя и случайно высказанной правды. Как и другие, он делал эти сравнения, руководясь плутарховским, т. е. народно-романтическим вкусом, подмечающим только сходство сцен на мировых подмостках, а не строгим рассуждением математика, познающего внутреннее сродство двух групп дифференциальных уравнений, в которых профан увидал бы только различие.
Легко заметить, что в основном выбором картин здесь руководит каприз, а не идея или чувство какой-то необходимости. Техники сравнения еще не существует. Как раз теперь сравнения применяются в огромном количестве, но без всякого плана и связи, и если они оказываются удачными в том глубоком смысле, о котором предстоит говорить, то виною этому бывает счастье, реже инстинкт, но никогда не принцип. Никто еще не подумал о выработке метода. Никто даже издалека не предполагал, что здесь-то и скрыт корень, тот единственный корень, из которого только и может последовать широкое решение проблемы истории.
Сравнения могли бы стать благодатью для исторического мышления, так как они вскрывают органическую структуру совершающегося. Под действием всеобъемляющей идеи техника их должна получить полное развитие и достигнуть степени, не допускающей выбора необходимости и логического мастерства. До сих пор они были проклятием, потому что, будучи вопросом вкуса, они освобождали историка от необходимости вдумываться и видеть в языке исторических форм и в их анализе свою ближайшую и труднейшую задачу, не только до сего дня не разрешенную, но едва ли и понятую.
Они были или очень поверхностными, как, например, когда Цезаря называли основателем римской правительственной прессы, или, что еще хуже, когда отдаленным, в высшей степени сложным и внутренне чуждым для нас явлениям древности давали модные имена, как, например, социализма, импрессионизма, капитализма, клерикализма, или странным образом превратными, как например культ Брута, которому предавались в якобинских клубах, культ этого миллионера и ростовщика, который, в качестве главы древней римской знати и при одобрении патрицианского сената, заколол вождя демократии.
3
Таким образом задача, первоначально имевшая в виду ограниченную проблему современной цивилизации, расширяется до размеров совершенно новой философии, – философии будущего, если вообще еще на метафизически истощенной почве Запада возможна какая-либо философия, – той единственной философии, которая, по крайней мере, есть одна из возможностей последних стадий западноевропейского духа; это будет идея морфологии всемирной истории, мира, как истории, которая, исходя из противоположного принципа по отношению к морфологии природы, бывшей до последнего времени единственной темой философии, охватит еще раз все образы и движения мира в их глубочайшем и последнем значении и в совершенно ином порядке построит из них не общую картину всего познанного, но картину жизни, не ставшего, но становления.
Мир как история, понятый, наблюденный и построенный на основании его противоположности, мира как природы, – вот новый аспект бытия, которого до настоящего времени никогда не применяли, который смутно ощущали, часто угадывали, но не решались проводить со всеми вытекающими из него выводами. Перед нами два различных способа, при помощи которых человек может подчинить себе, пережить свой окружающий мир. Я с полной резкостью отделяю по форме, а не по материалу, органическое представление о мире от механического, совокупность образов от совокупности законов, картину и символ от формулы и системы, однажды действительное от постоянно возможного, цель планомерно строящего воображения от целесообразно разлагающего опыта, или – чтобы назвать уже сейчас своим именем ранее не замеченную и, тем не менее, очень замечательную противоположность – область применения хронологического числа от области применения числа математического.
В таком исследовании, к какому мы приступаем, речь идет не о том, чтобы принимать как таковые легко наблюдаемые явления духовно-политического порядка, приводя их в систему по принципу причины и действия и исследуя их внешнюю рассудочно понимаемую тенденцию, – подобная «прагматическая» обработка истории была бы только частью переряженного естествознания, что и не скрывают приверженцы материалистического понимания истории, между тем как их противники в недостаточной мере сознают идентичность обоих приемов. Дело не в том, что сами по себе представляют исторические факты любого времени, а в том, что означает или на что указывает их явление. Современные историки полагают, что дело сделано, раз ими использованы религиозные, социальные и даже художественные подробности для «иллюстрации» политического характера эпохи. Но они забывают решающее, так как видимая история только выражение, знак, принявшая формы душевная стихия. Я еще не встречал никого, кто бы серьезно занимался изучением этих проявлений морфологического сродства, не ограничивался бы областью политических фактов и подробно изучил бы основные глубочайшие математические идеи греков, арабов, индусов, западно-европейцев, или смысл их раннего орнамента и древнейших форм архитектуры, метафизики, драмы и лирики, или тенденции и течения в области главных искусств, или, наконец, подробности художественной техники и выбора материала, я не говорю уже о постижении окончательного значения всех таких явлений по отношению к проблеме форм истории. Кому известно, что существует глубокая общность форм между дифференциальным исчислением и династическим государственным принципом эпохи Людовика XIV, между государственным устройством античного полиса и Эвклидовой геометрией, между пространственной перспективой западной масляной живописи и преодолением пространства при помощи железных дорог, телефонов и дальнобойных орудий, между контрапунктической инструментальной музыкой и экономической системой кредита? Даже реальнейшие факторы политики, при изучении их в этой перспективе, принимают в высшей степени трансцендентальный характер, и мы видим, пожалуй, в первый раз, что такие явления, как египетская система управления, античная монетная система, аналитическая геометрия, чек, Суэцкий канал, китайское книгопечатание, прусская армия и римская техника сооружения дорог – все в равной степени воспринимается как символы и, как таковые, подвергается истолкованию.

