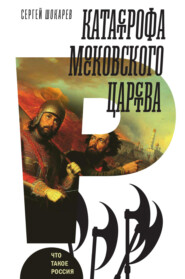
Полная версия:
Катастрофа Московского царства
Одновременно с увеличением налогов и повинностей на крестьянство обрушились природные бедствия: эпидемии и недород. Записи о «море» и десятках тысяч умерших встречаются в местных летописцах на севере и северо-западе начиная с 1550‐х годов. В 1560‐е годы эти несчастья усилились; новгородские и псковские летописи полны записей о «море великом» и голоде. «Лихое поветрие» появилось в 1565/1566 году в Полоцке, Торопце, Великих Луках, Смоленске. В 1566/1567 году зерно в Казанском крае было съедено грызунами: «прииде <…> мышь малая с лесов, что тучами великими и поядоша на поле хлеб всякий». Запись на полях Часослова гласит: «был по всей Руси мор силен, многие грады и села запустели» (1569/1570). В 1571 году русские перебежчики говорили татарам, что «на Москве и во всех городах по два года была меженина (голод. – С. Ш.) великая и мор великой». В Устюге в 1570–1571 годах на посаде умерли 12 тысяч человек, «опроче прихожих», а попов осталось шесть. В подмосковном Иосифо-Волоцком монастыре «преставилося 74 братье, а миряня, слуги и дети и мастеры все вымерли и села все пусты…». Под 7079 годом (1570/1571) «Пискаревский летописец» свидетельствует:
Того же году и на другой год на Москве был мор и по всем градом руским; и в осьмом (в 7078-м. – С. Ш.) мор и глад.
Современник событий, немец-опричник Генрих Штаден писал:
Это было во время великого голода, такого, что один человек убивал другого ради краюшки хлеба <…> Сверх того Бог Вседержитель наслал великое чумное поветрие <…> По всей стране повсеместно на съедение собакам доставались многие тысячи людей, умерших в чуму.
Разорение крестьянства довершили опричный поход Ивана Грозного на Тверскую и Новгородскую земли, разгром земских вотчин под Москвой, грабежи опричных в Поморье, нашествия крымцев в 1571 и 1572 годах, а с 1580 года – вторжения войска короля Стефана Батория в западные и северо-западные земли.
Страшное впечатление производят результаты писцового описания Новгородской земли. В 1582/1583 году в Деревской пятине «в пусте» лежали 98 % земель, в Вотской – 93,9 %, в Шелонской – 91,2 %, в Тверской половине Бежецкой пятины – 84 %, в Обонежской пятине – около 50 %. Писцы бесстрастно отмечали, что земли запустели «от опричных грабежу и от государьских податей и от хлебного недороду, и крестьяне повымерли».
Чудовищная убыль затронула не только земли, но и людей: во всей Новгородской земле проживали 20,9 % населения от числа живших там в середине XVI века. В Московском уезде в 1584–1586 годах пустело 86,6 % пашни, в Тульском – 85,7 %. Многочисленные свидетельства разорения заставляют удивляться тому, что страна не рухнула в пропасть в последние годы царя Ивана, сохранялись аппарат и как-то еще работала налоговая система, население сумело выжить и найти силы для восстановления.
Из северных и центральных уездов крестьяне перебирались на юг и юго-восток, однако рост запашки в окраинных уездах не мог компенсировать аграрной катастрофы на территориях старинного землепашества. Закономерным итогом стал запрет права перехода – единственное средство спасти систему службы «с земли».
Не лучше обстояли дела на посаде. В Великом Новгороде к 1579 году запустели 98,4 % (!) дворов, учтенных в 1545 году. В 12 городах Псковской земли в 1557 году насчитывалось 1684 тяглых двора, а в 1585–1587 годах осталось всего 52. Следовательно, запустение охватило 97 % дворов налогоплательщиков. В Коломне запустели 96 % дворов (1578). Эти примеры можно продолжить. Сожжение Москвы Девлет-Гиреем в 1571 году привело к гибели «безчисленного множества» горожан и запустению столицы. Для восстановления города правительство применило практику «сводов» в Москву наиболее зажиточных семей из провинциальных городов, что еще более оголило и запустило посады. Выход из катастрофического положения был только один – запрет свободного переселения с территории посадов, аналогичный крестьянской «крепости», и возложение «тягла» на тех, кто раньше не платил налогов. Эти меры пришлось осуществлять уже правительству Федора Ивановича.
Экономический кризис, опричнина, неудачная война и эпидемии не могли не вызвать глубокого недовольства. Оценивая итоги правления Ивана Грозного, Флетчер замечал:
Столь низкая политика и варварские поступки, хотя и прекратившиеся теперь, так потрясли все государство и до того возбудили всеобщий ропот и непримиримую ненависть, что, по-видимому, это должно окончиться не иначе, как всеобщим восстанием.
Подтверждает слова Флетчера метафорический рассказ «Пискаревского летописца» о «социологии» Ивана Грозного: «Да не в кое время послал царь и великий князь слушать в торг у всяких людей всяких речей и писати тайно. И принесоша ему список речей мирских, и прочет список, и удивишася мирскому волнению».
Народ отнюдь не безмолвствовал, посадский «мир» волновался и был готов к «восстанию», что показали события, разыгравшиеся вскоре после смерти тирана.
Московский «мятеж» 1584 года и конец дворовой партии
Есть основания полагать, что Иван Грозный создал при сыне своего рода регентский совет. Вероятно, в правительство вошли наиболее влиятельные бояре из земской и дворовой «партий»: князь И. Ф. Мстиславский, Н. Р. Юрьев, князь И. П. Шуйский. Предполагают также участие Б. Ф. Годунова и Б. Я. Бельского – фаворита Ивана Грозного, оружничего и племянника Малюты Скуратова. Впрочем, участие в нем двух последних сомнительно.
На особом положении оказались Нагие, принадлежавшие к дворовым и возвысившиеся в опричнину. Они составляли «партию» царевича Дмитрия, которая при царе Федоре не имела шансов получить доступ к власти. Тем не менее бояре решили первым делом нейтрализовать родню младшего наследника, а затем и его самого. «Новый летописец» сообщает, что в ночь после смерти Ивана Грозного Нагих арестовали по обвинению в измене, разослали по темницам и в ссылку, разорили их дома и раздали поместья. Инициатором расправы над Нагими летописец называет царского шурина Бориса Федоровича Годунова. Очевидно, опала коснулась не всех, а некоторых членов рода. Вслед за этим царевич Дмитрий и его мать царица Мария Федоровна были отправлены «на удел», в Углич. С ними выслали отца царицы Федора Федоровича Нагого и его сыновей Михаила и Григория. Судя по записи в дворцовой расходной книге об отпуске в Углич столового и постельного белья с «царицею Марьею, да с царевичем Дмитрием», это произошло 24 мая 1584 года. Контролировать Нагих должен был правительственный агент дьяк Михаил Михайлович Битяговский. Глава клана Афанасий Федорович Нагой, искусный дипломат и приближенный Ивана Грозного, был отправлен в ссылку в окрестности Ярославля.
Избавившись от Нагих, бояре занялись друг другом. Составленная Иваном Грозным конструкция из двух «партий» (земской и дворовой) развалилась. Историк А. П. Павлов установил, что дворовые любимцы Грозного – думные дворяне – распоряжались делами в последние годы жизни царя, оттеснив более знатных вельмож. Аристократы Шуйские, скованные одной цепью с Бельским, Зюзиным, Алферьевым и прочими опричными деятелями, тяготились таким соседством. При первой же возможности они объединились с земскими, чтобы свалить ненавистных выскочек.
Поводом к конфликту стало местничество казначея Петра Ивановича Головина и думного дворянина Богдана Яковлевича Бельского (2 апреля 1584 года при приеме польского посла Л. Сапеги). Бельский, по-видимому, являлся главой дворовой «партии». Любимец Грозного, он пользовался его неограниченным доверием. С 1581 года он не только был оружничим, но и управлял царской аптекой и подавал царю составленное докторами лекарство. В его ведении также состояли колдуны и предсказатели, к которым обращался мнительный царь. Своим высоким положением Богдан был обязан царской милости и привязанности Грозного к покойному Малюте. Бельский был человеком амбициозным и деятельным. «Пискаревский летописец» указывает, что именно он выступил инициатором местнического спора:
Того же го[ду] 92‐го <…> почал в боярех мятеж быти и разделение: боярин князь Иван Федорович Мстисловской с сыном со князем Федором да Шуйския, да Голицыны, Романовы да Шереметевы и Головины, и иныя советники. А Годуновы, Трубецкия, Щелкаловы и иныя их советники, и Богдан Бельской. И похотел Богдан быти больши казначея Петра Головина. И за Петра стал князь Иван Мстисловской с товарищи и все дворяне, а за Богдана Годуновы. И за то сталася прека межу ими. И Богдана хотели убити до смерти дворяне, токо бы не утек к царю назад.
Любопытно, что раскололась и земская группа: влиятельные дьяки, братья Андрей и Василий Яковлевичи Щелкаловы, возвысившиеся в опричнине, приняли сторону Бельского и Годуновых.
Бельский попытался обороняться, ввел в Кремль «дворовых» стрельцов и приказал затворить ворота. По свидетельству польского посла Сапеги, Богдан уговаривал царя Федора вернуться к опричнине. Бояре подняли против Бельского посадских людей и дворян. В «мятеже» участвовали московские, выборные и городовые дворяне. Носились слухи о том, что Бельский и Борис Годунов отравили Ивана Грозного.
И вражиим наветом некой от молодых детей боярских учал скакати из Большего города (Кремля. – С. Ш.), да вопити в народе, что бояр Годуновы побивают. И народ всколебался весь без числа со всяким оружием. И Большого города ворота заперли. И народ и досталь всколебался, и стали ворочати пушку большую, а з города стреляти по них («Пискаревский летописец»).
«Большая пушка», упоминаемая в летописце, – предшественница Царь-пушки, установленной рядом с Лобным местом на Торгу (Красной площади) в 1586 году.
Согласно «Новому летописцу», в восстании участвовали выборные и городовые дворяне:
Пришли же и пошли на приступ Кремля, и пристали к черни рязанцы Ляпуновы и Кикины и иных городов дети боярские, и оборотили царь-пушку к Фроловским воротам, собираясь их выбить вон.
Еще одно свидетельство о «мятеже» передает летописец, составленный по заказу одного из думных дворян – Михаила Андреевича Безнина. После поражения дворовой партии Безнин постригся в монахи в Иосифо-Волоцком монастыре, где и был составлен «Безнинский летописец» (либо имевшийся летописец дополнен известиями, касающимися Безнина). О московских событиях он говорит следующее:
По грехом чернь московская приступали к городу Бол[ь]шому, и ворота Фроловские выбивали и секли, и пушку болшую, которая стояла на Улобном месте, на город поворотили, и дети боярские многие на конех из луков на город стреляли.
Мятеж против Бельского грозил перерасти в погром всего Кремля. Перед лицом опасности бояре примирились и вступили с восставшими в переговоры. «Безнинский летописец» сообщает, что «в малые Фроловские (Спасские) ворота» вышли «ко всей черни» М. А. Безнин и думный дьяк А. Я. Щелкалов. Другие источники сообщают о том, что парламентерами выступили князь И. Ф. Мстиславский, Н. Р. Романов и братья Щелкаловы. Сообщение об участии Безнина может быть вымышлено автором летописца либо переговоры состоялись в два этапа. Компромисс был достигнут быстро. Дума пожертвовала самым одиозным из своих членов – Б. Я. Бельским, которого отправили в почетную ссылку – воеводой в Нижний Новгород.
После падения Бельского лишилась власти и положения почти вся группа думных дворян. Одни оказались в ссылке, другие постриглись в монахи. Досталось и противоположной стороне. Согласно «Новому летописцу», Годунов приказал разослать по темницам Ляпуновых, Кикиных и других провинциальных детей боярских, участвовавших в мятеже. Впрочем, роль Бориса Годунова в расправе над дворянами, вероятнее всего, преувеличена автором летописца.
Московское восстание 1584 года можно рассматривать как своеобразную репетицию Смуты. Быстро вспыхнувший конфликт продемонстрировал раскол и противоречия среди боярства, а также готовность дворян и посадских людей взяться за оружие под влиянием призывов и слухов. Были в этом столкновении убитые и раненые – первые жертвы гражданского противостояния.
Изгнав из своей среды худородных любимцев Грозного, бояре вернулись к привычному аристократическому принципу управления. Но согласия между ними не было, и вскоре начался новый раунд борьбы.
Борис Годунов: путь к власти
После изгнания Бельского власть перешла в руки четырех влиятельных бояр и кланов, стоявших за ними. Это были князь И. Ф. Мстиславский, Н. Р. Юрьев, князь И. П. Шуйский и Б. Ф. Годунов.
Трое из них являлись родственниками царя: князь Иван Федорович Мстиславский – троюродным братом (его матерью была внучка Ивана III царевна Анастасия Петровна), Никита Романович Юрьев – дядей по матери, Борис Федорович Годунов – шурином.
Заслуженные и престарелые вельможи князь И. Ф. Мстиславский и Н. Р. Юрьев, а также популярный и влиятельный князь И. П. Шуйский опережали Бориса Годунова в формальной иерархии чинов. Но в первые месяцы нового царствования Годунов, опираясь на сплоченный родственный клан, друзей и союзников в боярской и приказной среде, постепенно прибрал к рукам исключительную власть. Перед церемонией царского венчания (31 мая 1584 года) Годунов получил чин конюшего – главнейший в придворной иерархии. Во время приема польского посла Л. Сапеги в июне того же года Борис Федорович стоял на особом возвышении рядом с государем, в то время как остальные бояре сидели поодаль на лавках.
Биография этого выдающегося деятеля российской истории такова.
Борис Федорович Годунов родился 2 августа (эта дата установлена недавно А. Ф. Литвиной и Ф. Б. Успенским) 1552 года. Его отец Федор Иванович Кривой принадлежал к старомосковскому боярскому роду. Родословная легенда сообщает, что предком Сабуровых, Годуновых и Вельяминовых был знатный выходец из Орды мурза Чет. Он якобы выехал на службу к Ивану Калите, удостоился чудесного видения Пресвятой Богородицы, апостола Филиппа и священномученика Ипатия, принял крещение с именем Захария и основал в Костроме Ипатьевский монастырь. Предание о мурзе Чете не выдерживает критики, однако в XVI веке оно считалось достоверным, обеспечивая Годунова знатным предком. Вопреки мнению А. С. Пушкина («татарин, зять Малюты…»), татарское происхождение отнюдь не компрометировало Бориса Федоровича.
В XV–XVI веках высокое положение занимали Сабуровы, служившие в боярах и окольничих и дважды породнившиеся с правящей династией. Годуновы выдвинулись в опричнину – благодаря Дмитрию Ивановичу Годунову, который приглянулся Ивану Грозному и получил придворную должность постельничего (1567), весьма значимую в придворной иерархии. Постельничий вместе с тем являлся начальником личной охраны царя. В ведомстве Д. И. Годунова начал службу его племянник – Борис Федорович. Он служил стряпчим, подававшим государю платье.

Влияние Дмитрия Ивановича Годунова было очень значительным. Сам Малюта Скуратов (Григорий Лукьянович Бельский) согласился выдать дочь Марию за его родственника Бориса (а возможно, был инициатором этого брака). Других дочерей Малюта также выгодно выдал замуж: одну, имя которой осталось неизвестным, – за князя И. К. Канбарова, Екатерину – за князя И. М. Глинского (двоюродного брата царя) и другую Екатерину – за князя Д. И. Шуйского. На зятя Малюты распространились и милости грозного самодержца, питавшего какую-то невероятную привязанность к Скуратову. В 1573 году Борис был зачислен в состав «особого двора», являлся «дружкой» царя на свадьбе царя с Анной Колтовской, в 1577 и 1579 году служил кравчим (придворный чин, ведавший организацией пиршеств), в 1580 году стал боярином (минуя чин окольничего) и вновь был «дружкой» на государевой свадьбе (с Марией Нагой).
В последние годы жизни Ивана Грозного Борис Федорович – один из самых близких к нему людей, наряду с Б. Я. Бельским (двоюродным братом жены Годунова). Влиятельное положение Годуновых подкреплялось браком сестры Бориса Ирины Федоровны и царевича Федора Ивановича. Есть сведения, что Иван Грозный, недовольный отсутствием детей у Федора, намеревался женить сына заново, но неожиданно натолкнулся на твердое сопротивление царевича. Памятуя о печальной судьбе Ивана Ивановича, царь отступил.
Годуновы выдвинулись как многочисленный клан в эпоху «двора» (1573–1584). Степан Васильевич и Иван Васильевич получили окольничество, Василий Федорович (брат Бориса) был рындой (оруженосцем) у царевича Ивана, а Яков Афанасьевич – рындой у царя. Пять Годуновых служили в стольниках, еще один упоминается как дворянин, а другой – голова в царском полку. В первые месяцы царствования Федора Ивановича представители этого рода цепочкой потянулись в Думу. К лету 1585 года в ней было пять Годуновых, три из них занимали дворцовые должности.
Борис Федорович опирался не только на однородцев. Его союзниками являлись князья Трубецкие и князья Хворостинины, связанные с ним «дворовым» происхождением. Боярство, окольничество и думное дворянство получили в 1584–1585 годах близкие к нему князь И. М. Глинский (свояк), князь П. С. Лобанов-Ростовский и А. П. Клешнин (дядька царевича Федора).
В первые годы царствования Федора Ивановича возник «завещательный союз дружбы» между Борисом и Никитой Романовичем, направленный против Мстиславского и Шуйских. Летом 1585 года престарелый Никита Романович заболел и отошел от дел, 23 апреля 1586 года он скончался. Еще при жизни Н. Р. Юрьева боярином стал его старший сын Федор Никитич, а кравчим – другой сын, Александр Никитич. Согласно легенде, Никита Романович возложил попечение о своих сыновьях на Годунова. Ф. Н. Романов был ровесником Бориса Федоровича, но значительно уступал ему по значимости и влиянию. О дружбе между Романовыми и Годуновым свидетельствует то, что старшего из сыновей Федора Никитича звали Борис (он умер младенцем в 1592 году). К этой эпохе относится и брак Ирины Никитичны Романовой (дочери Н. Р. Юрьева) с Иваном Ивановичем Годуновым, впоследствии окольничим.
К Годуновым и Юрьеву примкнули дьяки Щелкаловы, возглавлявшие важнейшие Посольский и Разрядный приказы.
Их противники составляли аристократическую «партию». Князь И. Ф. Мстиславский служил почти 40 лет. Был воеводой при взятии Казани и в ливонских походах. В годы опричнины царь казнил его тестя, князя А. Б. Горбатого, и не раз угрожал расправиться с самим Мстиславским. Вероятно, того спасали родство с династией, первостатейная знатность и полная лояльность. С 1571 года Мстиславский возглавлял земскую Боярскую думу. На его дочери был женат царь Семен Бекбулатович, номинальный правитель Московского государства в 1575–1576 годах, затем – великий князь тверской. Единственный сын князя И. Ф. Мстиславского Федор Иванович входил в Думу с 1576 года в чине боярина. Князья Мстиславские являлись богатейшими аристократами, владели почти на правах удела Юхотской волостью в Ярославской земле и множеством других земель.
Глава клана Шуйских князь Иван Петрович представлял собой значимую и влиятельную фигуру. Князья Шуйские, потомки удельных суздальских князей, являлись второй после московских князей по старшинству линией в потомстве Ярослава Всеволодовича. Иностранцы называли Шуйских принцами крови. Они занимали первые места у трона во времена Ивана III и Василия III, а в малолетство Ивана IV составляли влиятельную боярскую «партию», которую некоторое время возглавлял дед И. П. Шуйского князь Иван Васильевич Шуйский. К политической борьбе князь Иван Петрович был предопределен происхождением. Храбрый и деятельный человек, он приобрел всероссийскую славу, возглавив героическую оборону Пскова от превосходящих сил короля Стефана Батория.
Как и Годуновы, Шуйские в первые годы правления царя Федора Ивановича пополнили Думу своими сторонниками. Боярами стали князья Василий, Андрей и Дмитрий Ивановичи Шуйские, а также близкий к этому семейству Ф. В. Шереметев. Казначеями были Головины, «доброхоты» Шуйских. Аристократическая группа бояр также пополнилась князьями И. М. Воротынским и А. П. Куракиным. Князья Шуйские, помимо думных чинов, удостоились щедрых пожалований: князь Иван Петрович получил «в кормление» Псков с правом сбора пошлин и кабацких доходов, князь В. Ф. Скопин-Шуйский – Каргополь, а князь Д. И. Шуйский – Гороховец.
Сложение этой конфигурации происходило параллельно с началом схватки за власть. Первый удар Годунов нанес по Головиным осенью 1584 года. Было возбуждено дело о казнокрадстве, по приговору Думы казначей П. И. Головин лишился должности и был приговорен к казни, которую заменили ссылкой. По дороге в ссылку Петра Головина убили, его брат Михаил бежал в Литву, а родич, окольничий Владимир Васильевич, оказался в опале. Других представителей рода выслали на воеводство в окраинные города.
Следующей жертвой стал престарелый князь И. Ф. Мстиславский. «Новый летописец» сообщает о его насильственном пострижении в Кирилло-Белозерском монастыре. Летом 1585 года он побывал на богомолье на Соловках, а оттуда поехал в Кириллов, где постригся с именем Ионы. В поздних источниках распространена версия об опале Мстиславского, якобы готовившего убийство Годунова. Однако пожилой боярин мог удалиться в монастырь и по собственной воле, а козни Бориса поздние авторы видели везде. Главой Думы вместо отца стал князь Федор Иванович, не отличавшийся честолюбием и политическими амбициями.
Князья Шуйские решились упредить Годунова и составили заговор. Они планировали обратиться к царю Федору с челобитьем,
чтобы ему государю вся земли державы царьские своея пожаловати приятия бы ему второй брак, а царицу первого брака Ирину Федоровну пожаловати отпустити в иноческий чин, и брак учинить царского ради чадородия («Хронограф» 1617 года).
Развод царя должен был лишить Годунова власти и изменить соотношение сил при дворе. Шуйским удалось привлечь на свою сторону главу Церкви митрополита Дионисия и князя Ф. И. Мстиславского, сестре которого прочили роль новой царицы. Поддержали князей Шуйских и московские посадские люди. В мае 1585 года в столице произошли какие-то волнения, и Годуновых якобы хотели «побить каменьями».
Выдающийся полководец князь И. П. Шуйский оказался плохим интриганом. Брак Федора и Ирины, пройдя испытание недовольством Ивана Грозного, устоял и перед аристократическим демаршем. Зато Шуйские и их сторонники поплатились за него сполна, хотя и не сразу. Опала настигла княжеский клан осенью 1586 года. Иван Петрович был сослан в свою вотчину в Суздальском уезде, Андрей Иванович – в Буйгород, Василий и Александр Ивановичи – в Галич, Дмитрий и Иван – в Шую. Также пострадали союзники Шуйских В. Ф. Шереметев, И. Ф. Крюк Колычев, князь И. А. Татев и иные. Семерых московских купцов казнили «на Пожаре», многих посадских людей разослали по тюрьмам. 13 октября 1586 года лишился сана и был сослан в Варлаамо-Хутынский монастырь митрополит Дионисий. Главой Церкви стал близкий к Годунову Иов, архиепископ Ростовский. Попал в опалу и лишился части своих владений царь Семен Бекбулатович, родич Мстиславских. Княжну Мстиславскую выдали за князя Василия Кордануковича Черкасского, о чем было велено сообщить за рубежом.
Возможно, Годунов ограничился бы высылкой Шуйских из столицы, но князь Иван Петрович даже в ссылке не оставил попыток противодействовать правителю. Царская грамота в суздальский Покровский монастырь свидетельствует, что
приезжал князь Иван Шуйской к царевичеве Иванове царице к старице Паросковье в келью и сидел у нею многое время, и царица старица Паросковья ездила в село в Лопатниче, а с нею старица ездила и не однова, а и ты де, игуменья, с нею ездила в село в Лопатниче.
Визит к разведенной жене покойного царевича Ивана Ивановича, царице старице Прасковье, естественно, показался Годунову подозрительным. Что могли обсуждать опальный вельможа с бывшей и также опальной невесткой Ивана Грозного? Обстоятельства пострижения? Перспективы расстрижения? В монастырь были посланы близкие к правителю люди князь Д. И. Хворостинин и казначей Д. И. Черемисинов (едва ли не последний из когорты думных дворян) допытываться, в чем дело. Шуйского сослали в Кирилло-Белозерский монастырь, постригли в монахи с именем Иов, а затем удушили «в дыму».
Крупнейший специалист по истории Смутного времени Р. Г. Скрынников предположил, что убийцей князя-инока был пристав князь Иван Самсонович Туренин, который внес крупное пожертвование на помин души князя Ивана Петровича 28 ноября 1588 года, спустя 12 дней после его кончины. Поскольку за 12 дней Туренин не мог связаться с Москвой и получить добро на внесение вклада, остается предположить, что пристав прибыл в Кириллов с задачей упокоить сначала самого старца Иова, а затем и его душу. Тогда же в ссылке был убит и князь Андрей Иванович Шуйский. Оппозиция была разгромлена, и теперь правитель не имел соперников.
«О земле великой печальник»
В феврале 1585 года московский посланник Лука Новосильцев ехал через Речь Посполитую и оказался в гостях у архиепископа гнезненского Станислава Кариковского. За обедом архиепископ стал нахваливать Бориса Годунова, сравнивая его с Алексеем Адашевым, со словами: «…А ныне на Москве Бог дал вам такого же человека просужего». Новосильцева такая аттестация Годунова не устроила. Он заявил, что Адашев «был разумен, а тот не Алексеева верста: то великой человек, боярин и конюшей; а се государю нашему шурин, а государыне нашей брат родной, и о земле великой печальник». Борьба за власть только началась, а московский дипломат (согласно его же отчету) уже пел дифирамбы правителю. В дальнейшем в дипломатических документах имя и положение Годунова возносились на огромную высоту, отражая его роль фактического правителя страны. Королева Елизавета именовала Бориса Федоровича истинно благородным принцем, дорогим и любимым кузеном, что русские переводчики переводили как «пресветлый княже и кровной нам приятель любезнейший». Другой титул, которым англичане награждали Бориса, – лорд-протектор[7] – более точно отражал его исключительное положение среди русских вельмож. В Московском царстве роль Годунова-правителя подчеркивали иные титулы: конюшего (высшее придворное звание-должность), наместника Казанского и Астраханского (пожалованы во время венчания Федора Ивановича на царство) и слуги (с 1591 года; особое почетное звание, которым награждались наиболее заслуженные из бояр). Еще в 1580‐е годы в русских документах по отношению к Годунову употребляется слово «правитель».



