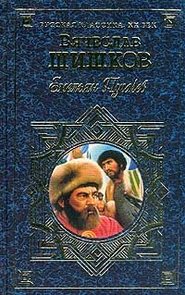 Полная версия
Полная версияЕмельян Пугачев, т.1
Хлопуша толкнул его в бок:
– Уснул, чего ли? Сказывай! Я уважаю этакое.
– Да нет, не сплю я. Думки разные одолевают про правду да про кривду... Вот я и толкую... Добро жить в пустыне, добро о душе пекчись. Как вспомнишь, вспомнишь жизнь людскую, пропащую, так кровь в жилах и застынет, – голос дяди Митяя стал еще душевней, еще трогательней, своими воспоминаниями он был по-настоящему взволнован. – Да-да... Такие страданья людям, такие печали да болезни! Пошто мы, окаянные, на мир Богом посланы. Пошто одни в тепле да в радости, а другие весь век маяться обречены, в молодых годах стариками ходить?
– А-у, – вздохнул Хлопуша. – А-у, брат... Мается весь народ, все люди страждут, а в веселости век живут только господишки, да купчишки, да еще разве архиереи с протопопами. Я-то знаю, я-то, браток, все знаю. Я и архиерейскую бывальщину знаю, всю до подоплеки, я сам у тверского архиерея в услуженьи жил.
– Оо-о! Бывалый, значит, человек.
– Ну а как же отшельник-то, Мартын-то твой? – помолчав, спросил Хлопуша. – Как жили-то, чем питались-то вы?
– А питались мы больше всухоядь: то грибками, то ягодками. Ну, правда, приносил нам из деревни дед один хлебца, молочка когда. Приносил тайно. Помолится с нами, поплачет о грехах – и домой в радости. От молитвы да от покаянных слез всякая душа людская в радость приходит. Да и сам я в радости у старца жил. Душа играла, как солнышко о пасхе... А вот как сграбастали меня, да выдрали до полусмерти, да на руки, на ноги кандалы наложили, опять я заскучал! В Сибирь на вечное поселение просился – не пустили. Ой, многие, многие просятся в каторгу, чтоб от немилой заводской жизни уйти, – не пущают.
– А вот ужо мы на заводах старые-то распорядки переломим, – убежденно проговорил Хлопуша.
– Дай-то Бог! – вздохнул дядя Митяй.
– Добро бы к старцу-то твоему зайти да покалякать с ним, – сказал Хлопуша и почему-то застыдился своих слов. – Хоша, правду молвить, не шибко-то я люблю святых: бездельники, пустобрехи... Ну только и промеж них попадаются трудники, людскому миру наставники. Знавал и таких я.
– Умер старец праведный Мартын, преставился! – уныло молвил дядя Митяй и перекрестился. – Как учинил я побег в последний раз недель с шесть тому, не боле, опять к старцу подался. Вошел я в келейку, в коей пять годков не бывал, гляжу – на сухой хвое кости человечьи лежат, руки сложены, череп в праву сторону откатился. А тела и следу нет, истлело скрозь. На ножных костях лапотки, на плечах да на руках армячишко тленный. И книжица «Ефрем Сирин», открытая на груди... Ой и тяжко ж мне стало... Пал я наземь да и завыл в голос... А вскорости после того и сыскан я был. Вот привели меня в заводскую тюрьму, приговорили к двум тыщам шпирутов этих, – стало быть, к самой смерти! За многократные побеги мои то есть.
Дядя Митяй почвыкал носом, повздыхал и вновь заговорил, но голос его окреп и оживился.
– А тут, гляжу, явились ко мне в тюрьму середь ночи трое парней. Думал я – ангелы небесные. Нет, наши ж парни – Ванька, Степка да Тереха, что у кричных молотов робят. Вот явились да и говорят мне: «Мы караульных солдат водкой опоили. И бери ты, – говорят, – лошадь сготовленную, возле зимника в балчуге стоит, и беги ты, – говорят, – не медля к Оренбургу-городу, там царь объявился, и толкуй батюшке, пущай он к нам силу шлет. А мы ему, свету белому, служить согласны по вся дни...» Ну, я и поскакал. А достальное, миленький мой, сам знаешь... И я так полагаю своим умишком, что этакое дело благодатное приключилось не инако, как по молитвам Мартына, старца праведного... Да ты слушаешь ай спишь?
Хлопуша храпел и взмыкивал.
2
На другой день, совершенно неожиданно, пристали к Хлопуше в степи четыре десятка конных башкирцев, готовых служить новоявленному государю. Башкирский старшина сказал:
– В нашу землю пресветлый царь указ прислал. Вот мы и поднялись.
Спустя сутки взбодрившийся отряд вступил в дремучие уральские леса. Митяй вел людей по узкой лесной дороге, которой возницы в огромных коробах доставляют на завод древесный уголь. Стало наносить дымком. Митяй, принюхиваясь, сказал:
– Скоро до куреня будем.
Действительно, в глубине леса, справа от дороги, показались сквозь чащу густые клубы дыма. Отряд свернул туда.
Просторная поляна сплошь завалена огромными бурунами бревен и саженных поленьев. Эти лесные богатства были заготовлены еще прошлой зимой и подвезены сюда для переработки в уголь. А без угля нет ни выплавки чугуна, ни выделки железа и стали. На поляне высился объемистый, в виде усеченной пирамиды, холм. От плоской маковки до обоснования склоны его были засыпаны землей, перекрыты дерном. Из вершины холма, как из печи, валил густой смолистый дым. Возле дымящегося холма копошились чернолицые, чернорукие, как трубочисты, люди, среди них бабы и подростки. Это – углежоги. Они насквозь прокоптели – казалось, им в жизнь не отмыться; у них воспаленные, гноящиеся глаза и жестокий кашель, они сплевывают «чернядью». В руках их длинные обуглившиеся колья, железные шесты, лопаты.
Углежоги, старые и молодые, поклонились подъехавшим незнакомым людям. Больше всего их удивил вид сидевшего на рослом пегом жеребце огромного детины в черной сетке, из-под которой торчала рыжая, с проседью, бородища.
– Братцы! – прокричал с коня дядя Митяй, кивнул головой на Хлопушу. – Этот человек послан в Авзян пресветлым государем нашим добрую жизнь трудникам устраивать.
Углежоги, окружив всадников, сдернули шапки, усердно закрестились, заговорили гулко:
– Рады служить надеже-государю! Видно, и на нас оглянулся Господь – царя послал... О! Братцы, глянь... Да то, никак, наш Митрий Иванов... Здоров, Митрий!
– Здорово, мужики! – ответил Митяй. – Вас сколько здесь? Отберите-ка полста людей да айда с нами в Авзян. Топоры есть?
– Как не быть. Оруженья хватит. Да мы все, до единого, двинем!
– Всем нельзя, мирянушки, – зычным, гнусавым голосом прервал Хлопуша поднявшийся было галдеж. – Всем работу кидать не годится – царь-государь приказал скореича пушки да ядра лить, а без вашей черной работы чего отольешь?!
Тем временем дядя Митяй стал объяснять казакам, как уголь жгут.
– Вот видите, люди саженное поленье укладывают в кучи и кладут их то встояк, то влежку, то встояк, то влежку. Через это получается «костер». Его закрывают со всех сторон хворостом, обсыпают землей, а сверх всего дерном обкладывают. На маковке дыру оставляют да сбоку дыру, чтобы, значит, тяга завсегда жила. Как сбоку подожгут, огонь-то и заберется в середку, да шибко-то не горит там, а мало-мало тлеет, и поэтому самому поленья в костре не горят, а чахнут, через что уголь образуется... Ну, тут уж мастер не зевай, а доглядывай, чтобы куча оседала ровно, чтобы огонь где-нито ход не прогрыз себе...
От «костра» валил дым, копоть, смрад, щипало глаза, захватывало дыхание. Казаки стали чихать и кашлять, из глаз у них катились слезы; казацкие лошади фыркали, мотали головами, пятились прочь.
– Вот так работка! – с горестным оживлением прогнусавил Хлопуша. – Мы тут раз дыхнули – и расчихались, а энтим людям день-ночь тут бытовать доводится.
И он оглядел всех их, кому на протяжении долгой зимы неотступно приходилось работать у «кострища», подкидывать землю там, где начинал пробиваться огонь, ходить по этому огненосному кургану, оправляя его.
– А другой-то курень далеко? – спросил дядя Митяй собравшихся в поход углежогов.
– А эвот-эвот, не будет и версты, – загалдели углежоги.
Вдруг как раз в той стороне, где соседний курень, раздались неистовый рев и крики.
– Ой, беда стряслась! – прислушиваясь к нараставшему гулу голосов, засуетились конные и пешие. И все бросились туда напрямки, через лес.
Поляна. Такой же огромный, перекрытый землей и дерном «кострище». Из черного склона буйное пламя пышет, с другого бока и с вершины густейший валит дым. А возле «кострища» орут, бестолково копошатся перепуганные люди, суют в пламенную пасть обуглившиеся жерди, кричат: «Хватай! Хватай!» Смельчаки карабкаются по откосу, пытаясь подобраться к огненному провалищу. «Снегу, снегу давай! Воды!» Но снегу еще мало, воды один ушат, а до речки версты три.
– Что стряслось-то? – откинув с лица сетку, закричал с коня подскакавший Хлопуша.
Народ наперебой закричал:
– Двое провалились, отец да сын... Петриковы! С-под Тамбова приписаны, дальние...
– Братцы! – скомандовал своим Хлопуша. – Рой к чертовой матери всю печку, спасай души!
– Что ты, что ты, начальник? – прихлынув к Хлопуше, завопили углежоги. – Разроешь – все уголье спортишь, да нам с конторой-то и не расчесться... Загинем в кабале, сожрут нас демидовские приказчики.
– Завод ныне не Демидова, а царский! Царь все простит! – бросал с седла Хлопуша.
– Чего мутишь? – крикливо возражали ему. – Давно ли завод царским стал? Окстись! Демидова то завод, вот чей. Не дадим рушить. Ребята, гони орду! Дуй кольями!
– Стой, дураки! – завопил Хлопуша. – Христианские души в огне гибнут!
– Они гибнут – и нам погибать? Не дадим рушить!
Пока шла словесная перепалка, расторопные казаки с башкирцами, руководимые Митяем, выхватили из полымя крючьями обуглившийся труп старика, а из другого дымящегося провалища извлекли задохшегося молодого парня.
– Марья, очнись! Очнись, Марья! – отхаживали неподвижно лежавшую на земле женщину – жену старика и мать парня. – Зашлась, сердешная... Бабы, пособляйте!.. Трите пуще снегом загривок-то ей! Ах ты, Господи...
И вдруг, очнувшись, женщина метнулась к «костру», с нечеловеческой силой взнесла себя на самый верх, вскинула руки, как пловец, готовый броситься в воду, и, страшно, завопив, исчезла, поглощенная огненной бурей.
Толпа охнула, окаменела. Затем поднялись бешеные крики, лютость охватила всех:
– Круши печь! Разметывай! Разметывай!..
К «костру» бежали казаки, башкирцы, углежоги – кто с чем. И не успел Хлопуша прийти в себя, как от печи остались лишь ворохи охваченных дымом поленьев да огненных углей.
В сторонке лежала обгоревшая женщина, ее выхватили из раздернутого «костра», но уже бездыханной.
А вокруг пылал новый, иной костер: бушевала людская ярость.
– Душегубы! Кровососы! – ревели голоса углежогов. – Хватит, братцы, с нас! Бери топоры, гони коней!.. Идем к царю-батюшке.
3
Толпа Хлопуши выросла до полутораста человек. Углежоги ехали на подводах, устроившись в угольных коробах. Был вечер. Проблеснули звезды. Дядя Митяй сказал:
– Слышишь, Хлопуша?.. Ты, может статься, с отрядом-то на ночевку где-нито расположишься, ну а я на завод махну, упредить надобно.
Он стегнул коня и пропал за поворотом извилистой дороги.
Вскоре в лесной глуши замаячили костры. А на самой опушке, прячась за старую сосну, высматривал проходивших людей рослый, одетый в полувоенную форму человек.
Хлопуша первый приметил солдата и крикнул ему:
– Чего шары-то выкатил? Эй ты, вылазь!
– А вы что за люди? – окрикнул солдат и, взяв ружье на изготовку, вылез из-за дерева. Но, увидав большую толпу вооруженных всадников, скрылся в чащобе.
– А-а-а! – удивленно протянул высокий углежог-старик, присмотревшись с коня к тускло светившимся кострам вдали. – Да ведь это беглые, у огнищ-т. Глянь, сколь их, сердешных, наловили-то...
– Айда на выручку! – недолго думая, скомандовал Хлопуша; он взмахнул плетью и двинулся к кострам. – Окружай, братцы!
За ним бросились казаки, башкирцы. От костров грохнули два выстрела. Задетый пулей, упал с коня башкирец.
У Хлопуши не было ни ружья, ни пики, он выхватил из-за пояса безмен с чугунным граненым шаром на конце и, скакнув через костер к стрелявшему, разбил ему голову. Солдат рухнул тут же.
– Сдаемся, сдаемся!.. – видя направленные на них пики, взголосили солдаты – заводские стражники и сыщики. Их было человек двадцать. Шершавые стреноженные лошаденки их топтались рядом.
Хлопуша дрожал, в его груди хрипело, он сорвал густую хвою кедра и вытер ею окровавленный безмен.
Полсотни беглецов, молодых и старых, связанных по десятку арканами, еще не вполне понимая происшедшее, кланялись набеглому отряду:
– Ой, кормильцы... Хлебца, хлебца! Вторые сутки ни синь-пороха во рту. – Испитые, бессильные, посиневшие, одетые в рвань, они походили на таежных бродяг.
– Государь Петр Федорыч дал приказ быть вам вольными, – перехваченным от волнения голосом сказал Хлопуша и, потрясая безменом, продолжал: – А супротивникам царским – смерть!
Стало тихо.
Старый капрал, с длинной седой косой, в рыжем нагольном полушубке и в валенках, бросая на Хлопушу злобные взгляды, проговорил сипло:
– Нам неведомо, что вы за люди и кто такой царь Петр Федорыч. Мы состоим на иждивении дворянина Демидова, а присягали государыне Екатерине.
– А ну, приготовь-ка петлю! – сказал Хлопуша, оборачиваясь к своим.
– Вздерни, вздерни его, батюшка!.. Собака он! – зашумели голоса...
– Собака ли я, нет ли, – перебил их капрал и невозмутимо потянулся за угольком к костру, чтобы закурить трубку, – собака ли, нет ли, а я свою службу сполняю по приказу! Нашей сыскной команде велено утеклецов ловить, – ну, значит, не рыпайся, лови... А ты, вояка с безменом, ежели есть среди прочих начальник, разжуй нам, что к чему. А то налетели с ветру, солдата ухлопали ни за што ни про што. Да вы, может, разбойники, может, завод зорить едете! Откуль нам знать?
Поборов в себе неприязненное чувство к суровому служаке, Хлопуша стал рассказывать людям, по какому делу послал его государь на Авзянский завод и что самоглавная думка у государя – сделать свой народ вольным да во счастии.
Толпа приняла эту весть азартно. «Дай-то Бог, дай-то Бог!» – взволнованно крестясь, кричали углежоги и беглецы.
Капрал, хмуря седые брови и все еще по-злому косясь на Хлопушу, сказал:
– Ежели ты правду молвил, мы, пожалуй, новому государю служить не отрекаемся, – и велел стражникам «ослобонить утеклецов».
Хлопуша поверил словам капрала и свой приказ о казни отменил. Разожгли еще ряд костров. Башкирцы, крикливо переговариваясь, варили в котлах махан. Ужин поспел скоро. Все плотно подкрепились. Беглецы набросились на еду с жадностью.
Стало довольно темно. До завода оставалось около тридцати верст торной дороги. Хлопуша торопился, он отдал приказ выступать в поход. Принялись суетливо собираться. Угрюмого капрала не оказалось в толпе. Никто не приметил, как он под шумок исчез.
– Эх, жаль, дюже жаль, что не вздернул я его, – сердито замотался в седле Хлопуша. Он велел всех людей сыскной команды нанизать на один аркан и отдал их под присмотр башкирцев.
Двигались ходко. Немощные беглецы ехали по двое, по трое на полицейских конях или в коробах, вместе с углежогами и их семьями. Путники надрали бересты, сделали смолистые факелы, зажгли их. Тьма, вспугнутая возникшим светом, закачалась, заструилась, как широкое полотнище темной рыхлой кисеи. Десятки факелов плевались во тьму ярким огнем и клубящимся красноватым дымом. Весь лес сразу преобразился, ожил, наполнился сказочной нежитью. Деревья, казалось, перебегали с места на место, подпрыгивали, замахивались на путников мохнатыми лапами. Обгорелые пни и поваленные бурей вековые стволы с вихлястыми сучьями напоминали таежных чудовищ. А факелов зажигалось все больше да больше. Ехать было не скучно.
Свет играл, колыхался, свет вступил в единоборство с тьмой. Зрелище было живописное. Верхоконная ватага башкирцев в своих цветистых халатах, в остроконечных шапках, с луками, колчанами, кривыми ножами, с длинными пиками, украшенными конскими хвостами; впереди – рослый бородатый всадник, лицо у него в свисавшей на глаза сетке, дальше вереница связанных общим арканом полицейских, а сзади – большая толпа черномазых углежогов. Вся эта необычайная картина, вырванная из мрака озорными огнями факелов, напоминала орду древних воинственных печенегов, возвращавшихся из тяжелого похода в свои кочевья.
Народ устал, двигался молча; башкирцы и казаки дремали, покачиваясь в седлах. Кое-где слышались ребячьи голоса.
Хлопуша въехал в толпу беглецов, завел с ними беседу. Жалуясь на свое житье-бытье, они говорили ему:
– От великого мучения на заводских работах уже затылок переломился, исхудали мы, обнищали все вконец.
– Ободрались мы все, обносились, из дырявых портков срам прет.
Хлопуша узнал, что заводские люди больше всего терпят от управителя да приказчиков: обмеры, обсчеты, дороговизна продуктов в заводских лавках.
– Ну а хозяин? – спросил Хлопуша.
– Хозяин наезжает редко. Да и он собака!
– Раскачку надо, начальник, зачинать! – выкрикнул курносый, с испитым лицом парень.
– Да уж тряхнем! – сказал Хлопуша. – Ну, все ж таки из работных-то есть, которые ладно живут?
– Да есть малое число. Мастера в добре живут, вот кто... Они, почитай, все раскольники. Им и начальство мирволит. У них по две да по три коровки, да лошаденки, овцы, свиньи, хозяйство... Они, брат, живут в добре, это верно.
– Может, потому и в добре живут, что стараются да дело свое знают, – проговорил Хлопуша.
– Да уж это как есть, – ответил, крутнув головой, старик с хохлатыми бровями. – Они на работу горазды, и смысел есть в башке, это верно. Да ведь и мы-то стараемся со всех сил. А откровенно-то тебе сказать, начальник, ради кого стараться-то? Для Демидова-то? Да будь он трижды через нитку проклят! Тьфу!
– Дельно сказал, – одобрил старика Хлопуша. – Ради Демидова, худ ли, хорош ли он, жилы свои надрывать не для ча. А вот уж ради царя, ради миру слобождения – силушку свою в работе не жалейте...
– Да уж... Господи, чего тут толковать! – раздались голоса. – Раз дело мирское зачинается, на себя, дакось, наплевать... Мы в сознанье!
Хлопьями стал падать тихий снег, и вся дорога вскоре побелела.
4
Пока дядя Митяй путешествовал из заводской тюрьмы в стан Пугачева, на Авзяно-Петровском заводе произошло жестокое событие.
Все уральские заводы строились по одному образцу: многоводный пруд, запертый плотиною, водоспуски, корпуса мастерских, церковь, контора, казармы, склады и заводской поселок. На старых, петровских времен, заводах мастеровые трудились из поколения в поколение. Их деды и прадеды, бывшие крепостные мужики, вывезены были из разных мест России и навечно закреплены за заводом. Заводские работали под руководством мастеров при домнах, при водяных молотах, в литейных, прокатных и прочих мастерских. Они являлись первостепенным ядром завода. Их было не так много, они составляли всего лишь пятую часть рабочей силы. Остальные четыре пятых трудились на подсобных предприятиях: рубили лес, жгли из него уголь, копали в разрезах и шахтах руду, занимались в обозах. Эта главная рабочая сила вербовалась из приписанных к заводу крепостных крестьян. Приписанные не теряли связь со своим хозяйством на родине, где оставались их семейства, и время от времени получали возможность в страдную пору отправиться домой для полевых работ, с тем чтобы по истечении положенного срока снова явиться на завод. Были среди них счастливчики, которым шагать до дому недалеко – порядочно деревень, острожков, сел находилось вблизи завода. А каково-то было тем, родные места которых отстояли на триста, на четыреста и более от завода верст, каково-то им было ломать «два конца», зачастую способом пешехождения?
Горькая, тоскливая, бессолнечная жизнь. А хозяину какое дело – будь то казна, или сиятельный вельможа, или оборотистый купец: мужики живут, не подыхают, – значит, не о чем и толковать. А на случай бунта сыщется и управа: парочка залпов, куча убитых, раненых, и – снова благоденственное, мирное житье.
Так был убит отец Павла Сидорова, купленный еще прежним владельцем завода, графом Шуваловым, и перепроданный затем со всем семейством новому хозяину, Демидову.
Осиротевший Павел Сидоров остался пятилетним мальчонкой на руках у матери, а когда подрос, его определили в слесарную мастерскую, и через несколько лет он стал хорошим слесарем. Они жили с матерью в небольшой опрятной избе, имели огород, от которого и питались.
Павлу исполнилось двадцать два года. Благонравный, искусный и горячий в работе, он был на добром счету у начальства. Мать гордилась таким сыном, берегла его пуще глаза, подыскала ему невесту – дочь мастера, у которого Павел состоял в подручных. Мастер был рад породниться с Павлом, он прочил его на свое место. Мастер чувствовал, что собственные силы его на исходе, что все свое здоровье он ухлопал на умножение капитала графа Шувалова и дворянина Демидова, а себе вот, кроме мучительной грыжи да чахотки, ничего не нажил.
Итак, в ноябре ожидалась свадьба. Павел уже зарабатывал до трех, а иногда и до пяти рублей в месяц, что давало ему с матерью возможность безбедно существовать: пуд муки стоил пятнадцать копеек. Появилась корова, завелись лишние деньжонки.
Павел поехал в Екатеринбург, купил себе две пары штанов – суконные за восемь гривен, другие, из чертовой кожи, за двадцать семь копеек; купил овчинную шубу, кушак, шапку, сапоги, невесте – полотна, шаль и на платье шелку, а матери – добрые валенки. На все покупки и поездку издержал около семнадцати рублей и вернулся домой довольный и радостный.
На воскресенье было назначено обручение. Варили пиво, брагу. На заводе только и разговоров было, что о предстоящей свадьбе. Но в субботу утром произошли мрачнейшие события, поставившие черный крест на жизни Павла.
Управитель завода, из обруселых немцев, бергмейстер Иван Абрамыч Швабе, прозванный мастеровыми за его жестокость Ванькой Каином, в субботу утром послал в слесарную мастерскую своего казачка с приказом, чтобы немедленно пришел в управительский дом Павел Сидоров для починки дверного замка в кабинете.
– Вот что, Сидоров, – встретил его Каин, рыжий, высокий, худой, бритый, с прямоугольным лицом и сердитыми, всегда прищуренными глазами; он был в высоких сапогах и дорожной теплой кацавейке, он только что вернулся из поездки по сутяжному делу в Екатеринбург. – Постарайся-ка, брат!
Павел поклонился и начал, а Ванька Каин ушел завтракать в соседнюю комнату. Павел знал о жестоком характере управителя. Немец за всякую безделицу драл правого и виноватого; драл своих служащих и приказчиков, даже как-то выдрал своего делопроизводителя из отставных офицеров, за что получил выговор от бергколлегии и... пятьдесят рублей награды от Демидова.
Павел сделал работу старательно и быстро: через каких-нибудь двадцать минут он доложил управителю, что работа готова. Тот буркнул: «Ступай!» Павел поклонился и вышел.
Позавтракав и выпив ежевичной настойки, управитель проверил работу Павла: дверной замок действовал отлично – затем вошел в кабинет скользнул глазами по зеленому сукну письменного стола.
– Кошелек!.. А где ж кошелек? – с испугом воскликнул он. – Я же вот сюда его положил, на стол. Я же твердо это помню. – Он бросился к столу, стал выдвигать ящик за ящиком, рыться в них, бормоча: – Да, да, это слесаришка! Это он к свадьбе. Больше некому, сюда никто не входил.
Управитель был страшный скряга, он копил деньги, воровал у хозяина, обсчитывал рабочих, за гроши или спирт скупал у бродяг и старателей золото. Вот и на этот раз, возвращаясь из Екатеринбурга, он выменял в лесу у двух бродяг на спирт, на хлеб, на две пары яловых сапог больше двух фунтов драгоценного металла.
– Ох, и задам же я ему свадебку! – Управитель схватил шапку, собачий арапник и стрелой, вприпрыжку, пустился в слесарную мастерскую.
– Сидоров! – закричал он.
Все слесаря бросили работу, уставились на потрясавшего арапником бергмейстера. А Павел, опустив руки, со страхом отозвался:
– Чего изволите?
– Кошелек! – заорал, затопал бергмейстер, грозя побледневшему Павлу собачьим арапником. – Подай мой кошелек, подай немедля, а нет – я тебе шкуру с плеч до пяток спущу!
Павел от неслыханной обиды весь затрясся, на глазах у него выступили слезы; прыгающим голосом, ловя ртом воздух, он взахлеб говорил:
– Что вы, что вы?.. Господин управитель!.. Помилуйте, да мысленное ли это дело... Чтобы я... да взял ваш кошелек. Я и в горницы-то не смел войти. Что вы?!
– За парнем мы никакого худа не замечали. Парень честный, – раздались в его защиту голоса.
– Молчать! – с маху стегнув по верстаку арапником, взвизгнул Ванька Каин. – Кто пикнет, тому плетей не миновать. Значит, отпираешься? Ах ты, ворюга!..
Павел с плачем повалился на колени и не своим голосом завыл:
– Не порочьте, не губите... Грех вам!
Истязание происходило рядом с мастерской, в сарайчике для угля. Нагого Павла привязали к столбу. Свирепый палач, из каторжан, был пьян и работал со всем усердием. Павел сначала терпел, затем стал стонать. Управитель, приостановив палача, вновь обратился к несчастному с требованием вернуть кошелек. Павел в ответ только хрипел.
И снова свист плетки. Окровавленный человек перестал стонать, голова его упала на плечо, он потерял сознание. А как пришел в чувство, управитель вновь принялся допрашивать его. Павел тряс головой и мычал, как бы онемев.



