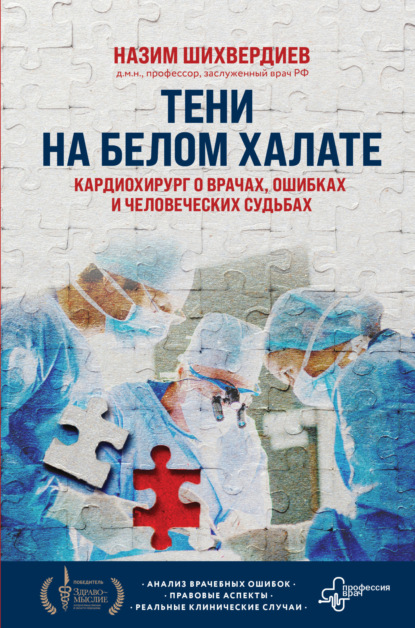
Полная версия:
Тени на белом халате. Кардиохирург о врачах, ошибках и человеческих судьбах
Дефиниции и международно-правовые аспекты медицинских ошибок
В последние годы резко возрос интерес к врачебным ошибкам. Тема очень серьезная и неоднозначная. Как оказалось, и абсолютно непроработанная юридически. С точки зрения закона на сегодняшний день вообще не существует такого юридического понятия, как врачебная ошибка. Сами ошибки существуют. Более того, они будоражат общественное мнение. При этом достаточно сложно сформулировать, что за этим понятием кроется.
У каждого времени и у каждого общества свои представления, свои потребности и законы. За последние сто и даже пятьдесят лет у нас изменилось все, включая саму страну. В медицине тоже произошли радикальнейшие изменения. Если в конце XIX века всемирно известный швейцарский врач Бильрот сказал, что «…хирург, прикоснувшийся скальпелем к сердцу, должен быть предан коллегами позору», то сейчас кардиохирургические операции стали очень распространенными, востребованными и оцененными. Скорее всего, швейцарский мэтр имел в виду, что «прикоснуться скальпелем к сердцу» в те времена было практически невозможно, так как полостных операций фактически не проводилось. Для этого надо было манипулировать, очень грубо нарушая топографическую анатомию. Но фраза, вырванная из контекста, производит эффект.
Меняется многое и внутри каждой медицинской специальности. В той же кардиохирургии первоначально казалось, что инфекционный эндокардит оперировать на высоте септического процесса нельзя. Подобные вещи считались несовместимыми, то есть ошибочными. Со временем пришли к тому, что в ряде случаев это единственный вариант спасения больного. Первоначально одними из показаний к операции были повторные эмболии. Сейчас же в официальных рекомендациях написано, что показанием к хирургическому вмешательству является уже сама угроза эмболий. Чувствуется разница? В одном случае повторные эпизоды эмболий, а в другом – только их угроза. Все объясняется просто – даже один эпизод эмболии, приведший к острому нарушению мозгового кровообращения, резко меняет качество жизни пациента, выжившего после инсульта. Соответственно, ошибочными могут трактоваться даже диаметрально противоположные действия.
Это, конечно, частный пример. Главная же проблема в том, что однозначных критериев врачебных ошибок нет. Более того, нет даже самого общепринятого термина.
Вернусь к ошибкам в общем плане. Оказывается, и в юридических статьях можно найти кое-что интересное и полезное для врачей. Термин «врачебная ошибка» не относится к юридическим понятиям. Уголовный кодекс Российской Федерации и комментарии к нему не содержат термина «ошибка» (https://law5.ru/wpcontent/uploads/2016/02/kommentariy_k_uk_rf_lebedev_v_m.pdf).
В медицинской практике достаточно часто встречается еще одно понятие – обоснованный риск. Даже в Уголовном кодексе РФ говорится, что не является преступлением причинение вреда при обоснованном риске. Последний признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда. Если применить сказанное к разного рода медицинским вмешательствам, то это должно означать главное: опасность и тяжесть медицинского вмешательства не должны превышать опасности и тяжести самого заболевания или травмы, по поводу которых оно производится (А. Н. Самойличенко, Д. В. Тягунов, 2007 г.).
В одной из юридических диссертаций (А. В. Кудаков, 2011 г.) рассматриваются три признака врачебной ошибки: первый – когда объективно выраженные манипуляции медицинского работника отклоняются от установленных специальными документами требований, предъявляемых к качеству услуг медико-биологического характера (опять проблема стандартов!). Второй признак врачебной ошибки сводится к негативному результату вследствие избрания медицинским работником неправильных методов и средств диагностики и лечения в виде реальной опасности для жизни или здоровья пациента. Третий признак охватывает незнание либо самонадеянное игнорирование требований, предъявляемых к качеству оказываемых медицинских услуг, включая новые признанные наукой и активно используемые профессиональной практикой правила диагностики и лечения. Вот три юридических признака врачебной ошибки.
В древнейшем юридическом документе – своде законов вавилонского царя Хаммурапи – было прописано весьма жестокое наказание врачу за совершенную ошибку. Ему могли выколоть глаз, отрезать руку или ногу и тому подобное. В Римском праве тоже был соответствующий закон Аквилия о врачебных ошибках, но не столь жестокий. Еще в I веке до н. э. римский писатель Филимон сказал, что только врачи и судьи могут убивать и не быть убийцами.
Сейчас во многих западных странах существуют договорные отношения, которые определяют взаимоотношения врача и пациента по типу «сделал свою работу хорошо – получи гонорар, сделал плохо – может быть предъявлен гражданский иск».
В нашей стране долгие десятилетия ни одна более-менее серьезная публикация по врачебным ошибкам не обходилась без определения этого понятия, данного И. В. Давыдовским еще в 1941 году. Приведу его: «Врачебная ошибка – вытекающее из определенных объективных условий добросовестное заблуждение врача, основанное на несовершенстве современного состояния медицинской науки и методов исследования, либо вызванное особенностями течения заболевания определенного больного, либо объясняемое недостатками знаний, опыта врача, но без элементов халатности, небрежности и профессионального невежества». На первый взгляд, достаточно емкое определение. Определение считается классическим, но в реалии не выдерживает никакой критики. Многочисленные логические неувязки будут описаны ниже, в главе, посвященной ментальным ошибкам.
Согласно элементарной логике, понятие «врачебная ошибка» должно иметь две составляющие: врачебная и ошибка. Если медсестра по ошибке ввела не тот препарат, что привело к тяжелым последствиям, это врачебная ошибка? Врач ведь сделал правильное назначение. Или это стоит назвать медицинской ошибкой? А если санитар, не имеющий никакого медицинского образования, но убирающий в операционной, допустил какую-то оплошность с серьезными последствиями? Это врачебная ошибка?
Сейчас существует несколько вариантов подобного рода терминов: врачебная (медицинская?) ошибка, ятрогения, ятрогенное событие, медицинское правонарушение, дефект оказания медицинской помощи. Все они подразумевают примерно одно и то же, но четких критериев нет. В том числе и в юридических документах. Вернее, в первую очередь в юридических документах. Именно здесь ведь важна точность формулировок. В рамках развития правовой системы появилась необходимость в создании правовых основ и понятия врачебной ошибки.
На мой взгляд, разумный подход требует расшифровки или критериев трактовки обоих компонентов этого словосочетания.
При сборе материала для этой книги вопрос, что же считать ошибкой, вставал постоянно. Ответ на него упрощенно сформулирован мною так: «Ошибкой можно считать то, что ты сделал неправильно, в следующий раз никогда бы не повторил и не рекомендовал бы это своим коллегам». Но это скорее житейская, а не юридическая формулировка.
Каковы же критерии врачебных ошибок? Они могут быть очевидными (абсолютными?) или спорными. Вот несколько вариантов неверных действий (ошибок).
Ненадлежащее оказание или неоказание медицинской помощи.
Назначение лекарств не по показаниям.
Назначение лекарств при наличии противопоказаний.
Передозировка лекарств.
Нарушения установленных и принятых профессиональным сообществом рекомендаций.
Оставление инородных тел в организме больного.
Выполнение процедуры без информированного согласия пациента.
Отсутствие записи о выполнении процедуры (регистрации).
По сути, все это ошибки разной степени значимости. Но не все так однозначно. Даже передозировка лекарств может быть сознательной, когда врач заведомо идет на риск, существенно превышая предельно допустимую дозу. Это ошибка? Формально – да, по сути – нет. Но в суде же работают не узкие специалисты, понимающие тонкость и критичность момента.
А неправильная организация лечебного процесса, приведшая к нежелательным последствиям, это ошибка? Если да, то чья? Врачебная или административная?
Еще один спорный вопрос – куда отнести ошибку в диагнозе? Это ведь ошибка и притом абсолютно врачебная! Но, с другой стороны, есть совершенно реальная проблема под названием «трудный диагноз», по поводу чего написаны тысячи книг. Как быть в этих случаях?
В определении И. В. Давыдовского подчеркивается, что врачебная ошибка – это добросовестное заблуждение врача. Естественно, что если имеется умысел, то речь идет уже не об ошибке, а о преступлении.
Вот некоторые интересные сведения из зарубежной практики. По материалам рабочей поездки по вопросам медицинского права в Марбург 3–7 июня 2019 года, в ФРГ ежегодно подается около 10 000 исков по возмещению ущерба из-за врачебных ошибок. Около 95 % исков рассматривают в судах второй инстанции, так как сумма чаще всего превышает 100 000 евро.
В РФ в 2018 году было начато 2229 уголовных дел, из которых 1837 окончены. В суд направлено 265 дел, по которым вынесен 21 оправдательный приговор. Прекращено 1481 дело.
В Германии, например, главным критерием, который учитывает суд, являются последствия врачебной ошибки. Наказуемым считается несоблюдение «надлежащей тщательности». Термин многократно звучал в докладах немецких юристов. Возможно, это особенности перевода на русский язык. По сути «надлежащая тщательность» – это педантичность. Нарушение педантичности при обследовании и лечении пациента для судьи является поводом к вынесению довольно строгого наказания. В нашей стране представить это трудно.
В той же Германии интересен процесс определения размера материального и нематериального ущерба. Жестких установок нет. Однако для облегчения работы судей существует ежегодно обновляемый фолиант, где в виде таблиц собраны прецеденты 3200 судебных разбирательств по возмещению ущерба, связанного со здоровьем, за последние несколько десятков лет. Любой судья может этот фолиант открыть и с поправкой на инфляцию посмотреть, как оценивали подобные ситуации его коллеги. Для удобства все случаи систематизированы по анатомическим областям (голова, конечности, утрата почки и тому подобное). В нашей стране многие вопросы не проработаны, в том числе и размер вреда, нанесенного здоровью. Он рассматривается как совокупность утраченного заработка и расходов на лечение. А вот моральный вред – величина нематериальная, и единых критериев его оценки пока нет вообще.
Во многих зарубежных странах у врачей существует страховка на случай возникновения судебных разбирательств. Но там врачи получают достойное жалование. Представить, что из небольшой зарплаты российского врача надо будет делать еще и отчисления на страхование от ошибок, сложно. Но и в этом направлении работа должна вестись.
Не может быть единого подхода к проблемам врачебных ошибок во всех странах мира. Население разных стран имеет разный менталитет, живет в соответствии с жизненным укладом, сложившимся за века. В разные времена и в разных странах представления о добре и зле всегда различались. Неоднозначными они (представления) остаются до сих пор. Однако в последние годы идет сближение во взглядах людей по многим позициям. Поэтому задача состоит в том, чтобы взять все лучшее из опыта других стран и адаптировать к собственным условиям.
В настоящее время существует реальная проблема в выработке дефиниций по вопросам врачебных ошибок, которая требует широкого обсуждения для формулирования позиций медицинского сообщества в отношении них. Такая работа послужит базой для выработки концепции «оборонительной медицины».
В широком смысле события, связанные с неправильными действиями (бездействием) медицинского персонала, следует квалифицировать как «медицинскую ошибку».
Под медицинской ошибкой следует понимать непреднамеренные неправильные действия (бездействие) медицинского работника, повлекшие за собой причинение вреда здоровью пациента.
В Уголовном кодексе РФ существует несколько статей, по которым квалифицируются дела о врачебных ошибках:
• причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ);
• причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ);
• неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ).
Согласно части 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, ошибка, приведшая к смерти пациента, предполагает ответственность в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Дополнительно к данному наказанию также могут назначить запрет на занятие профессиональной деятельностью сроком также на 3 года после завершения срока лишения свободы.
Согласно части 2 статьи 118 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью пациента врач может лишиться свободы на срок до 1 года.
Существует еще несколько статей Уголовного кодекса, которые устанавливают степень наказания за врачебную ошибку в той или иной ситуации:
1. В части 4 статьи 122 УК РФ за заражение ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
2. Согласно части 3 статьи 123 УК РФ за незаконное проведение искусственного прерывания беременности, повлекшее смерть или причинившее тяжкий вред здоровью женщины, также предусматривается наказание до 5 лет лишения свободы.
3. Статья 235 УК РФ предусматривает наказание за осуществление незаконной медицинской или фармацевтической деятельности. Наступление летального исхода при этом грозит наказанием до 5 лет лишения свободы.
Также, в случае возбуждения уголовного дела, у пострадавшего есть право подать гражданский иск в ходе расследования для получения возмещения за причиненный вред здоровью, а также компенсации морального вреда в денежном эквиваленте. Это право зафиксировано в статье 44 УПК РФ. Кроме того, независимо от уголовного дела, пациент в любое время вправе подать гражданский иск о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, так как в соответствии со статьей 208 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность на такие случаи не распространяется.
Вообще, понятие «врачебная ошибка» пока встречается только в проекте закона «Об обязательном страховании пациентов при оказании медицинской помощи», опубликованном на сайте Минздрава РФ еще в декабре 2014 года. В этом проекте под врачебной ошибкой понимаются действие и бездействие медработника или медицинской организации в целом, повлекшие за собой причинение вреда здоровью или жизни пациента. Такие действия должны совершаться в рамках оказания медицинской помощи. А вот наличие или отсутствие вины для установления факта врачебной ошибки значения не имеет. Каким бы удивительным это ни показалось, но с 2014-го и до 2025 года никаких подвижек в этом вопросе не произошло. В 2022 году были попытки со стороны таких влиятельных в отечественной медицине людей, как Л. М. Рошаль со своими сотрудниками, ввести и законодательно закрепить понятия типа «обоснованный риск» и «крайняя необходимость», которые также не увенчались успехом.
С 2019 года в Следственном комитете РФ существуют отделы по расследованию врачебных преступлений. В тех регионах, где нет специальных отделов, есть отдельные следователи, которые специализируются на данной категории преступлений.
Определенный интерес представляет статистика СК РФ по результатам рассмотрения и расследования уголовных дел о ненадлежащем оказании медицинской помощи. Сообщений о преступлениях в СК РФ (а именно так они трактуются в статистических отчетах этого органа) за 2023 год поступило 4431, по результатам их рассмотрения было возбуждено 2332 уголовных дела, прекращено 1135, направлено в суд с обвинительным заключением 150 уголовных дел в отношении 177 медицинских работников, из них число оправданных судом составило 8 человек.
В 2018 году эти же показатели выглядели иначе: за год поступило 6623 сообщения о преступлении, возбуждено 2229 уголовных дел, прекращено 1481, направлено в суд с обвинительным заключением 265, число обвиняемых медицинских работников по направленным в суд делам составило 305 человек, а оправданных из них – 21.
Другими словами, на протяжении последних 8 лет (2016–2023 гг.) жалоб (заявлений) в следственный комитет поступало от 6623 в 2018 году до 4431 в 2023 году, но раньше в большинстве случаев в возбуждении уголовного дела было отказано. Лишь по одному из трех поступивших сообщений возбуждалось уголовное дело. Однако в 2023 году, когда заявлений стало значительно меньше, уголовные дела по ним возбуждались более чем в половине случаев.
Таким образом, до суда доходит примерно 10 % всех поданных на рассмотрение жалоб. Вроде бы немного, но если видеть за этими цифрами живых людей, наших коллег, то впечатления будут иными.
Основными статьями уголовного закона, по которым обвинялись медицинские работники, были:
• ч. 2 ст. 109 – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (в 2018 году – 1600 случаев, в 2023-м – 1657);
• ч. 2 ст. 118 – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (в 2018 году – 45, в 2023-м – 24);
• ч. 1 ст. 238 – оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности (в 2018 году – 232, в 2023-м – 216);
• ч. 2 ст. 238 – то же, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека (в 2018 году – 145, в 2023-м – 247).
Однако направлено уголовных дел в суд с обвинительным заключением было значительно меньше:
• ч. 2 ст. 109 УК РФ: в 2018 году – 172, в 2023-м – 74;
• ч. 2 ст. 118 УК РФ: в 2018 году – 40, в 2023-м – 20;
• ч. 1 ст. 238 УК РФ: в 2018 году – 14, в 2023-м – 6;
• ч. 2 ст. 238 УК РФ: в 2018 году – 10, в 2023-м – 33.
Это подразделение СК, как следует из названия отдела, занимается расследованием врачебных преступлений. На то они и Следственный комитет.
Во врачебной же среде чаще используется термин «ятрогения». Впервые понятие «ятрогения» предложил немецкий психиатр Освальд Бумке в 1925 году. Данным термином он предложил обозначать психогенные заболевания, возникающие вследствие неосторожного врачебного высказывания (с греческого языка: iatros – врач, genes – порождающий, то есть «болезнь, порожденная врачом»). Согласно МКБ-10 под ятрогенией понимают любые неблагоприятные или нежелательные последствия медицинских процедур (профилактических, диагностических и лечебных вмешательств). Сюда же надо отнести осложнения лечебных процедур, которые стали следствием действий медицинского работника, независимо от того, ошибочными или правильными они были.
Поток жалоб на врачей и медицинских работников не иссякает. Как показывает судебно-следственная практика, у потерпевших есть три основных мотива: одни жаждут крови, другие жаждут денег, и только самая незначительная часть жаждет добиться истины. В большинстве случаев подаваемые жалобы не вполне обоснованы, но растущее их количество вынуждает медицинское сообщество к выработке собственной позиции по этому вопросу, которая должна быть хорошо юридически аргументирована. Появился даже специальный термин «оборонительная медицина».
Разработка нормативных актов, касающихся врачебных ошибок, на мой взгляд, должна происходить с участием трех сторон – медицинского сообщества, юристов и гражданской общественности. Проблема крайне сложная и неоднозначная, но она давно назрела.
Различные причины врачебных ошибок
Отсутствие знаний, недостатки в обучении
Существует простая истина – чтобы допускать меньше ошибок, надо больше знать, то есть надо в первую очередь хорошо учиться. Принцип «не знаешь – не диагностируешь» известен издавна. Действительно, если ты даже не ведаешь о существовании какого-то заболевания, шансы поставить правильный диагноз минимальные. Высшая школа предусматривает прежде всего самостоятельную работу с учебниками, материалами лекций и так далее, без ежедневного жесткого контроля со стороны преподавателей. После общеобразовательной средней школы с ее ежедневными проверками на уроках такой подход многим представляется замечательным. До сессии как минимум полгода. Все еще успеется. Реально все выглядит по-другому. И знания, полученные впопыхах в период сессии, надолго в памяти не остаются.
При необходимости усвоенная ранее, но забытая информация очень быстро поднимается из тайников памяти и восстанавливается. Но сохраняется, как правило, то, что ты усваивал методично, не спеша, а еще лучше в процессе обсуждения с преподавателями, сокурсниками и даже с посторонними людьми. Если же полученная таким образом информация еще и освежается в период экзаменационной сессии, то она в памяти задерживается надолго и в нужный момент обязательно всплывет.
На мой взгляд человека, много лет работающего с курсантами и студентами медицинских вузов, 30–40 лет назад значимость этого фактора была существенно ниже. Большая роль принадлежит преподавателям вуза. Одно время в нашей стране получило распространение создание высших учебных заведений в маленьких провинциальных городках. Многим родителям хотелось иметь возможность получения их детьми высшего образования без необходимости отъезда в дальние края. Но сама идея была абсурдной. Если филологии или математике еще можно научиться, имея в штате только хороших, умных преподавателей, особенно сейчас при наличии интернета, то научиться врачеванию таким образом невозможно. Нужна соответствующая база в виде лабораторий, анатомического театра, клиник и так далее. Кто этим студентам будет преподавать анатомию, физиологию, патологию? Для этого нужны специально подготовленные люди. И преподавать они должны не чистую теорию, а и практику тоже. То есть студентам необходимо обеспечить возможность препарировать трупы, проводить эксперименты, в том числе и на животных, работать в лечебных учреждениях, оснащенных современной аппаратурой, принимать участие в операциях и так далее.
Оказывается, что в памяти самого прилежно учившегося выпускника вуза к моменту его окончания сохраняется не более 11 % информации, которую он теоретически должен был бы помнить и знать.
Мне довелось наблюдать такой, с позволения сказать, «медицинский институт» в небольшом дагестанском городе Дербенте. Он располагался в нескольких приспособленных под учебные классы комнатах и не имел практически никакой базы, но несколько лет готовил будущие медицинские кадры, естественно, на платной основе. И таких «вузов» в маленьком Дербенте оказалось сорок четыре! Медицинский, к счастью, был только один. Большинство считалось филиалами московских вузов. Вскоре, правда, это безобразие было ликвидировано. Однако какая-то часть этих бедняг-студентов умудрилась получить врачебные дипломы. Я думаю, что количество врачебных ошибок у этой категории врачей должно сильно отличаться даже от числа ошибок у выпускников государственных вузов среднего уровня, и не в лучшую сторону.
Мне в этом отношении повезло. Военно-медицинская академия существует как учебное заведение с 1798 года. Большинство других медицинских учебных заведений и близко не имеют такой истории. Отсюда сложившиеся традиции. Здесь сами стены участвуют в обучении. Кроме того, в академии за это время сформировалась великолепная материально-техническая база для обучения любым медицинским специальностям. Мы все изучали реально. На физиологии препарировали лягушек – каждому по лягушке. Были занятия, где препарировали и изучали физиологические механизмы у кошек – одна на группу из 12–14 человек. Анатомия изучалась только на реальных препаратах и трупах. Причем кадавер выдавался также один на группу (а не один на весь курс). За полуторагодовалый курс топографической анатомии и оперативной хирургии не менее четырех раз проводился настоящий операционный день, где мы сами под руководством преподавателя выполняли, например, резекцию кишки у собаки. Кто-то был оператором, кто-то ассистентом, кто-то выполнял роль операционной сестры, но участвовали все. При этом все было по-настоящему: стерильная операционная, настоящая живая собака (тоже одна на группу из 12–14 человек), реальный наркоз и реальная резекция кишки. Скажите, пожалуйста, в каком еще вузе такое было возможно? Думаю, ни в каком, или же в единичных московских.
Клинические дисциплины тоже преподавались совершенно конкретно на примерах пациентов, которые проходили лечение в клиниках академии. В нашей стране медицинские институты, как правило, не имели и не имеют своих клиник, а обучение происходит на базе больниц, с которыми устанавливают договорные отношения. И нередко возникал диссонанс между преподавателями и практикующими врачами. Да и к преподавателям многие «практики» относились со скепсисом. В Военно-медицинской академии же все было по-другому. Весь лечебный процесс лежал на преподавателях. На клинических кафедрах нет «чистых» преподавателей. Например, обычно самые опытные хирурги – те же преподаватели. Начальник кафедры одновременно является и начальником клиники. Отсюда и отсутствие конфликтных ситуаций с больничным начальством. Сам с собой никто не конфликтует.

