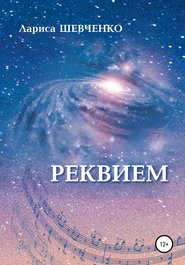 Полная версия
Полная версияРеквием
«О своих чувствах говорит», – подумала Лена.
– Помню, во втором детдоме мне понравилось. Во-первых – город. Во-вторых, другая жизнь, новые лица, сильные впечатления. Там я поняла, что любознательна и что это хорошо. Лет до десяти я была созерцательна. Наверное, потому что многого боялась. Люди меня интересовали больше всего. Я изучала их, чтобы знать, чего от них можно ожидать, потому что именно от них всегда исходила опасность. Природа радовала даже в грозу и метель. Люди часто огорчали. Я постоянно была занята своими размышлениями, все думала, думала…
– В твоем детстве не было сказки о добром Дедушке Морозе и прекрасных феях.
– Зато потом допоздна засиживалась за сказками Андерсена, – улыбнулась Лена.
– Искала в них радость, а они были тревожные, грустные, притчевые. Надолго ты в них застряла. Там была описана вся твоя жизнь. А вот сказку о большом и маленьком Клаусе ты так и не сумела переработать в своем сознании. Маленького жалела, оплакивала, а от больших и реальных «клаусов» всю жизнь безысходно страдала. И всё из-за преследующей тебя вопиющей несправедливости и по причине твоей бесконечной доброты.
…Так и стоишь перед моими глазами: девятилетняя, тоненькая, печальная. Взгляд мягкий, непритязательный, не затуманенный сознанием осознания, не опороченный пошлым знанием – сама невинность. Взгляд ангела, Богородицы с иконы. И было странное ожидание увидеть за твоей спиной крылышки, очерк церкви или хотя бы свет от креста. А иногда, без тени сомнений – в нем было зримое постижение мира. И ты казалась мне много старше. Случалось, что пугало застывшее диковатое одиночество в глазах и недетская безысходная тоска. А другой раз по тебе вообще ничего нельзя было понять. И на первой твоей фотографии, на той, где ты с дедом, любопытство в глазах не перебивает печаль…
Потом были годы внутреннего умственного роста. А после вуза надо было выбирать: быть или не быть, приспосабливаться или жить достойно.
– Не распаляйся, а то закипишь и взорвешься. Могу и отвалтузить, несмотря на твои заслуги перед обществом. – Лена шутливо и ласково притянула к себе подругу. – А первую в жизни куклу мне на Восьмое марта наши ребята на первом курсе подарили. У меня – слезы из глаз. Они заволновались, успокаивать стали. Какие хорошие мальчишки! Какая душевная дружеская студенческая спайка!
И она просияла неожиданно яркой, давно забытой улыбкой.
– Потом мы всей группой в парк пошли. Там воробьи целыми стаями как странные цветы на кустах висели. Стоял яркий теплый безветренный день. Мы бродили такие счастливые! Я в шутку восторженно восклицала: «Смирите свою гордыню перед величием Природы, встаньте на колени!» И мальчишки с хохотом припадали.
По лицу Инны бродила счастливая улыбка.
– Вот ты говорила, что друг тот, кто не бросит в беде. В беде не посочувствует только самая последняя дрянь, а для меня друг – кто разделит радость моего успеха, не позавидует, не подгадит, не станет ревновать к удаче. Друг тот, кто помогает по доброте душевной, не выгадывая для себя пользы. Был у меня один, помогал, но делал при этом широкие жесты: вот, мол, я какой хороший! На свой имидж работал.
– Ты уехала в Москву, а преподаватели говорили нам: «Вот если бы все учились, как Лена». Долго ставили в пример.
– Мне рассказывали, что наши школьные учителя каждому новому набору учащихся говорили, что наш класс был особенным, может быть, даже самым лучшим за историю школы. Треть класса – медалисты.
– …Но было между нами и другое. Я поведала тебе, что впервые увидела прекрасную мужскую наготу, насквозь прошибающую… И к черту годы примерного поведения, ханжеской стыдливости! А ты разозлилась. Не поняла. Не доросла, не созрела до понимания. Но была права, отговаривая.
Инна, глядя на черное ночное окно, задумалась. Что она пыталась увидеть на этом импровизированном экране?
Лена отвлеклась от воспоминаний юности и снова мыслями вернулась к своему любимому, безгрешному для нее человеку.
– Всю жизнь и в радости, и в горе бабушку вспоминаю. Слова ее всегда безошибочно в цель попадали и огнем жгли, если я была виновата. Мы остро чувствовали друг друга. Ты знаешь, ей всегда хотелось поскорее простить меня.
– Да, бабушка у тебя была что надо. Бережно тебя взращивала. Щадила.
– И предчувствуя свой последний час, она меня позвала. Я была за пятьсот километров, но «услышала» ее сердцем и приехала. А она, ощущая приближение смерти, надела то самое платье, что я для нее сшила еще в шестом классе. Берегла его, только по праздникам носила. Хотела меня в нем встретить. В нем и ушла из жизни. В ушах так и стоят ее жуткие вопли. Тяжело покидала земной «рай», а все равно цеплялась.
Неуверенная мысль мелькнула у Лены: «Зачем я всё о своей бабушке Инне рассказываю? Не выходит она у меня из головы». Но все равно продолжила:
– Помню, читала я «Детство» и «Отрочество» Льва Толстого и не соглашалась с его строками о том, что не жалко умирающей бабушки, мол, о себе ребенок больше думает. Я такое не могла бы написать. Даже подумать о таком была не способна. Это особенность моего характера? Чувство любви и жалости к бабушке всегда побеждало во мне все остальные, самые заветные желания. Может, Лев Толстой был тогда слишком маленьким, чтобы чувствовать любовь?
– Эгоизма в тебе с детства не было ни на толику. Бабушку ты любила больше себя. И злости ты была начисто лишена, вероломство тебя шокировало. Помню, ревела: «Я его, гада, выручила, а он меня тут же подставил и выдал!». Орала: «Почему торжествует наглая, грубая, подлая сила и ложь?»
– И ты вместе со мной плакала. Душа твоя всегда была чуткая и нежная. А насчет эгоизма ты права. Еще в первом детдоме наперекор всему плохому у меня возникало желание быть доброй к людям, особенно к обездоленным. Оно, наверное, пробудилось из чувства чистой радости от собственной бескорыстной щедрости, когда делилась последним, когда припрятывала корочку хлеба, чтобы порадовать друга, вместе погрызть ее, ощущая при этом незабываемую душевную близость, наполняясь счастьем. Позже я долго об этом размышляла, а тогда просто радовала и радовалась.
И в бабушке я любила то, что, столкнувшись с любой проблемой, она стремилась решать ее с любовью, без ожесточения. А повзрослев, я как-то услышала интересную фразу: «Только любовь может превратить поражение в триумф». Наверное, я понимала эти слова как-то по-особенному остро.
«Лена редко кого допускает в глубинные тайны своего сердца. Скорее с природой поделится, молча взирая на небо или воду. Только со мной могла разговориться. Ах ты, друг мой сердечный, серебристая головушка! Как ты мне бесконечно близка, дорога и понятна!»
Инна слушала подругу с жадным интересом, и печальная нежность переполняла ее усталую душу.
А Лена незаметно для себя стала придремывать. Слова и мысли ее уже не совпадали и будто переплетались. И речь подруги расплывалась, перемешивалась, теряла смысл.
– …Было моей второй бабушке восемьдесят пять. Я слышала, что женщине не принято напоминать об ее возрасте. И когда учительница спросила, я стушевалась. Она сразу поняла, в чем дело, и рассмеялась: «В ее годы уже можно гордиться своим возрастом». Не скоро я осознала слова педагога.
– …Когда много братьев и сестер, потребность в друзьях, наверное, не так велика.
– Может быть, если семья дружная. И все равно для своих исповедей выбирают кого-то одного, – заметила Лена.
– …Помню нашего соседа маленьким. Напялит дедову ушанку, нос из шарфа чуть торчит. Ни дать ни взять старичок-боровичок. Веселый такой, заводной был. Какой он теперь? Наверное, постарел, раздобрел, полысел, обзавелся очками.
– Насчет того, что раздобрел – очень даже сомневаюсь. Сельские мужики в основном поджарые.
– Были.
– …Тамару, что на выселках жила, не забыла? Ушла из жизни.
– Такая была спокойная, здоровая.
13
– Сердце что-то защемило. Мне необходимо повидаться с родней. Хоть седьмая вода на киселе, а тянет. Старички, наверное, теперь совсем дряхлые, согнутые, и хаты их скособоченные, трухлявые. Ведь сразу после войны строили из того, что было под рукой. Очутиться бы в данный момент в деревне, как по мановению волшебной палочки, зачерпнуть пригоршней ледяной воды из нашей криницы, что у моста. Помнишь, мы ее всегда укрывали ивовыми ветвями от посторонних недобрых глаз. Увидеть бы свой старый, до боли родной дом, где хорошо мечталось. Сесть бы в самодельный деревянный шезлонг, расслабиться и словно растечься в нем, выбирая удобное положение.
А еще найти бы на книжной полке печального Андерсена, взять в руки таких любимых «Тома Сойера» и Виталия Бианки. Помнится, читая что-то из этого, я вдруг подумала, что книжный мир много богаче, чем тот, который меня непосредственно окружает. А может, я не умела замечать. И в тот момент я почему-то многое в тебе поняла. И именно тогда между нами возникла невообразимая общность, которую мы делили только друг с другом. А книжки о счастливом советском детстве казались тебе удивительно пресными и наивными. Даже «Тимур и его команда» не увлекла, потому что у детей там была не жизнь, а веселая игра. И ты думала: «Вот вырасту, так уж я-то напишу настоящую, честную книжку!»
…Походить бы по-за дворами, по дорогим сердцу местам, заглянуть в добрые лица старых односельчан, осмотреть парадные довоенные портреты на стенах их хат, написанные заезжим художником, их военные и послевоенные фотографии – молчаливые свидетели их жизни. Улыбаются окаменевшим от напряжения физиономиям, с остекленевшими от ожидания глазами. Как же! «Птичка вылетит». Как всё это, оказывается, мне дорого! Потом облюбовать тихое местечко и смотреть, смотреть на ненавязчивые краски родной природы, впитывать запахи, чувствовать беспрепятственно перетекающие от нее ко мне положительные флюиды и вспоминать только хорошее, чтобы на меня снизошел вселенский покой.
– Можно подумать, ты застала нашу деревню в пору ее первозданности и невинности, – пошутила Лена.
– Ах, милое сумасбродное детство и ненасытное буйство юности! Почему даже для городских детей самая захудалая деревня остается в памяти прекрасным раем? Природа? Вольная жизнь? Когда я последний раз наведывалась в деревню, по штукатурке стен нашей хаты змеились трещины, остатки краски и труха осыпались с иссохших выветренных рам окошек. Фундамент прогнулся и как бы выдавился вперед под тяжестью стареющего сруба. Там уже никто не жил. Двери были заколочены. Мне показалось, что музыка деревни исчезла. Не стерта еще с лица земли наша деревенька?
– Жива, стоит, нас с тобой дожидается. Так и вижу: идешь ты по деревне с особой невозмутимостью, с подлинным, естественным достоинством деревенской, одинокой самостоятельной женщины, – с насмешливым благодушием рассмеялась Лена.
Переполненная ностальгией, Инна не обратила внимания на шутку.
– Я вот подумываю иногда: не устроить ли нам… Давай так поступим: «махнем не глядя» туда, где осталось наше детство?! А то я всё со дня на день откладываю.
– Не вижу причин, препятствующих поездке. Я пламенный сторонник путешествий в светлое прошлое. Только имей в виду, через столько лет ты посмотришь на родную деревню уже другими глазами. Не жди прежних чувств.
– Хочу проститься и тем покончить с долгами прошлому. Я впервые за много лет сознательно вернусь в место, определившее весь ход моей взрослой жизни! Детские мечты – это такой феерический манок! Там от горечи разочарований сводило скулы, а от радости разрывало сердце. Бывает у тебя такое, когда кажется, что…
– Причем здесь подсознание и потусторонние силы? Не кисни, давай сразу после сабантуя вместе отправимся в деревню. Едем к родным березкам! Все возражения категорично отметаю. Я перед Андрейкой побыла там и будто душу излечила. Родная деревня – она как некое духовное средоточие. Меня потом надолго хватило. Может, она и плоть твою восстановит. Помнишь маму Толика Таболина? Разрезали, зашили. Толик тогда с доктором за упокой ее души выпил, а она и по сей день на огороде возится. Уж лет семнадцать с тех пор минуло, – гуманно сослалась на посторонний пример Лена.
– Неужели! Я ее помню. Она уже тогда, в нашем детстве, в преклонных годах была. Мне так казалось. Маленькая, сухонькая, – искренне радостно удивилась Инна и порывисто обняла Лену. И та, смущенная ее неожиданным всплеском благодарности, сказала невпопад:
– А вокзал в деревне все тот же.
– Колокол над входной дверью еще висит? Он был символом дореволюционной жизни нашего села. А широкие лавки с вензелями, с аббревиатурой «МПС» на спинках, наверное, давно износились?
– Знакомая писала, что колокол в начале перестройки «увели» на металлолом, а лавки до сих пор стоят. Сталинское качество было на века! Только вокзал был красно-белый, значительный, а теперь грязно-серый и кажется маленьким, неуютным, даже кургузым.
– После столичных-то, – неожиданно мрачно съязвила Инна.
– А все равно родной. Сердце-то всплакнет, когда из окна вагона его взглядом достанем.
– Школу помню. В ее стенах было много часов счастливого общения.
– Сколько всего глупого, грустного, радостного и прекрасного происходило в ней! Больше нет нашей школы. Жаль. Новая мне чужая. Большая, кирпичная, но какая-то не родная, не живая, строгая, суровая, хоть и покрашена в розовый цвет. У нашей даже внешний вид был какой-то теплый, домашний.
– Деревенский, – улыбнулась Инна.
– Посетила нашу аллею, которую мы посадили в выпускном классе. Глядя на эти огромные сосны, я по-новому ощутила движение времени.
– Хаты наши на отшибе стояли. Теперь, наверное, застроили все вокруг них или, наоборот, сплошь прогалки по улице?.. Высокую с резным узором матицу – рукой не дотянуться – помню. Уж очень эта красота не вязалась с бедностью. Дед мой этот дом строил. Красоты ему хотелось. Не одному еще поколению послужит, если дом обиходить. Слова деда вспомнила: «Богатство – грех перед Богом, бедность – грех перед людьми. Труженик был великий. Царствие ему небесное. Лена, не забыла, что такое матица? Потолочная опора. А конек, боров? Милые сердцу теплые слова из детства.
– Припоминаю. А соседская хата брошена. Остальное довершила природа. Без человека всё быстро приходит в запустение и негодность.
– Какая там хата. Так – одно название.
– Вдруг приедем, а там ни кола ни двора.
– Не страшись, на улице не останемся, кто-нибудь из родни приютит, – успокоила Лена.
– Пройтись бы по нашей улице. Водонапорная башня, следом сельсовет, затем почта и вот, наконец, хаты в рядок до самого магазина. С каждым домом что-то особенное связано. А помнишь ту пустую землянку-развалюху? Мы в ней прятались, залезая через пролом в соломенной крыше. Во дворе сушились распятые на веревке чьи-то мужские рубашки. Но мы их не пугались. А луг? Бывало, лежу на его бархате, рисую в голове прекрасные мечты, себя вижу в них и во мне крепнет уверенность. А высоко-высоко в небесной сини медленно проплывают крахмально-белые облака. И мне так хорошо! А почему, кто бы ответил… Да, это было нечто!
«Детство дается человеку, чтобы было на что опереться в трудные моменты жизни», – привычно промелькнуло в голове Лены.
«Детство человек вспоминает, когда впереди ему уже ничего не светит? Быстро-то как всё промелькнуло», – подумалось Инне.
– Ночь в деревне прекрасна. Улицы как вымерли. Звезды на черном небе – хоть рукой доставай. Плохие мысли в голове надолго не задерживаются… И вдруг разносится круговая перекличка собак. И всё так естественно-просто и радостно-тревожно.
– В деревне вроде вольней жизнь, но народ так зажат и завален работой, что от этой воли мало что остается. Это потому, что кроме домашнего хозяйства еще на производстве работают. Двойная нагрузка.
– Проделки мальчишек помню. Инна, ты любила их задирать. И не раз бывала наказана, но не сильно. Щадили, потому что девчонка. Соседи говорили: девка – оторви да брось. Ошибались. Каждое поколение мальчишек пыталось доказать превосходство физической силы над умом. А мы, девчонки, противились. Борьба шла с переменным успехом. Не только мы отступали и задавали стрекоча. Но все это было несерьезно. Играли так и потихоньку умнели.
– Некоторые городские уличные мальчишки гордились всякой ерундой: формой ушей, сильно выгнутыми пальцами, ранами, полученными по глупости, презрением к тем, кто ходил в музыкальную школу или в Дом пионеров. Раздетые зимой бегали в школу. Бахвалились своей нелепой смелостью.
– Так если больше нечем.
– Заступиться за девочку у них считалось постыдным, не мужским поступком.
– Я сельских друзей больше уважала. Честнее, трудолюбивее, надежнее были. А недостающий лоск ими в городе быстро приобретался. Через год приезжали красавцами на вечер встречи с учителями.
– Подросли, поумнели наши мальчишки. Прекрасными людьми стали.
– В деревне дети раньше взрослели, деля со взрослыми заботы. Времени на глупости у них мало было.
– Городские, те, что были хулиганистыми, тоже помаленьку умнели, – согласилась Инна.
– А помнишь то первое лето, когда тебя еще пускали с нами гулять? – со счастливой улыбкой перебила Лену Инна. – Мы играли в войну, в разведчиков. Сами придумывали правила игры и соблюдали уговоры неукоснительно. Знали в деревне каждый поворот, каждую развилку дорог. У всех были свои потайные места, куда могли спрятаться на случай «опасности».
– Никто не хотел быть немцем. Жребий бросали.
– Фильмы про войну любили. Костры разводили по осени на огородах. Сварганим, бывалоче, в солдатском котелке кулеш, сядем кружком, уминаем и воображаем себя партизанами.
– Ничего вкуснее той каши не едали.
– У тебя за спиной грубо самостоятельно сколоченное деревянное ружье, а за плетеным веревочным ремнем огромный наган. Ты была выдающимся организатором и в споре могла любого мальчишку за пояс заткнуть. Они с тобой боялись связываться, чтобы не уронить себя в собственных глазах и в глазах друзей.
Довольная Инна мечтательно подняла глаза к потолку и улыбнулась:
– Помню, валяюсь в траве под осиной на берегу нашей речки – так привольно лежать на залитом солнцем лугу! – и размышляю: почему у нее листочки так жалостливо, тревожно-родственно моей душе трепещут? Так мне отчего-то грустно делалось, до мурашек, до слез.
– Первым делом успокойся, – встревожилась Лена, почувствовав дрожь в голосе подруги.
– И ведь поняла! Черешки у листьев осины длиннее, чем у других деревьев и собраны в пучок. И с какой бы стороны не подул пусть даже слабый ветерок, листочки начинали колебаться, передавая свое движение другим, связанным с ними. Не уставала я любоваться на воду, не могла наглядеться. Может, и поэтому тоже наши предки предпочитали селиться ближе к реке?
– Фантазерка.
– Ты не могла себе позволить сладкое ничегонеделание даже в детстве.
– И поэтому я сухарь? Проехали.
– А позднюю, голую, ветреную осень в деревне я не любила. Все мертво, серо, сыро. Грязища. На всем печать грусти и бессилия. Все вокруг казалось жалким.
– И до боли родным.
– Вздор! Только ранней осенью, когда буйство красок.
Инна раздраженно насупилась.
– Прабабушку свою вспомнила. Ее морщинистое лицо, впалый рот. Не хочу до такой страхолюдности доживать.
Лена попыталась улыбнуться.
– А я за один присест могла слопать яичницу из десяти яиц, но попросить боялась. А меду попросила вроде бы в шутку, так все равно не дали. Но бабушка разрешала попить сахарной воды, приготовленной для пчел, только так, чтобы отчим не заметил ее убыли. Я так любила сладкое!
– Он лучше бы замечал, как ты ишачила. Какие мелочи вспоминаются! Мужчины в деревне на улице без мата, – примирительно продолжила разговор Инна. – Но и «будьте так добры» и «если вас не затруднит» тоже не звучало. А на заводе предостаточно. Такие «перлы» выдавали! Вот тебе и тупая беспросветная деревня. И за пять лет учебы в вузе от ребят мата не слышали.
«Причем здесь мат? Бредит, мысли путаются?» – снова заволновалась Лена.
– Инна, Инна, ты что, зависла?
– С какого перепугу?
– Задумалась?
– Вестимо. Ничего у меня не выйдет! – горестно вздохнула Инна. – Не выдержу я поездки.
– Со мной выдержишь. Ты вправе принять любую мою помощь.
Инна покорно кивнула.
– Ладно, – только и произнесла слабым голосом.
14
– Вот ты говоришь, что я была успешной, – после долгой паузы сказала Инна. – Да, я делала все, что зависело от меня, никогда не сдавалась, неплохую сделала карьеру. Это я могу поставить себе в заслугу. Помню, правду начальнику цеха в глаза говорила. А что, терять мне было нечего. Знала, с моим упорством всегда работу найду. Унижаться? Да никогда в жизни! Я судила о человеке не по положению в обществе, а по «гамбургскому счету» – по знаниям, умениям, по человечности. Вот и доставалось по шеям. И часто руководство, выслушивая меня, крутило у виска пальцем, мол, чокнутая. Лена, а что значит, если ладонь ко лбу прикладывают? На склероз намекают или на избыток мозгов?
– Пугаются, мол, черт знает, что у нее голове.
– И ты успешна, хоть иначе. Тоже прошла огонь, воду и медные трубы людской подлости.
– И людскую порядочность, и доброжелательность встречала от тех, кому не составляла острой конкуренции. Видеть и предвидеть ее научилась. Не зря говорят, что в выражении лица человека есть отсвет его души, его внутреннего мира.
– У тебя оно доброе и всегда вызывало даже у самых мелких клерков стремление обмануть или воспользоваться твоим непоколебимым чувством долга, безукоризненной честностью, верностью дружбе. И это заставляло тебя наглухо закрываться или отгораживаться от подобных личностей.
– И в прекрасные шестидесятые порядочность приветствовалась не всеми.
– К тебе ничего плохого не прилипало. Ты была кошкой, которая гуляла сама по себе. О твоей честности и принципиальности ходили легенды. При общении с тобой как-то сразу становилось ясно, что при тебе ни пошлость, ни глупость, ни ложь невозможны. Это выводило из себя некоторых товарищей. Поначалу и во мне была нелицемерная, ничем не защищенная деревенская открытость, граничащая с наивностью.
– Лен, завистников хватало?
– Как-то еще в молодые годы медаль за доблестный труд мне хотели дать. Документы в Москву приготовили. Что тут началось! Потом в областной администрации решили меня осчастливить: внесли в список достойных премии и соответствующих почестей. Там учитывались достижения всей семьи номинанта. И тут буча поднялась. Нашлась масса претендентов из числа тех, чьи дети по причине высокого положения их отцов заняли приличные места на производстве или в чиновничьей среде. Я не претендовала, не боролась и потому была спокойна.
– После первого же раунда записала себе поражение? Надо было продолжать участвовать. Некоторые не мытьем, так катаньем добивались своего, уговорами и даже угрозами.
– Я не тщеславна.
– По молодости я считала, что для достижения успеха всё должно сойтись в человеке: талант, труд, темперамент, а чтобы заметили, еще обаяние и удача. И вдруг вижу по телеку: в Москве президент награждает сына одного моего знакомого, а у него за душой ничего, кроме того, что он блатной.
– И ты это истолковала как предзнаменование, как знак новой эпохи, – рассмеялась Лена. – Успокойся, такое случалось во все времена. А некоторых при жизни растопчут, но после смерти на щит поднимут. У нас любят мертвых героев.
– Потому что они уже не опасны.
– Слава богу, мы не из их числа.
– Но цену себе знаем, – рассмеялась Инна.
– Успех сам по себе без любви ничего не стоит, а её-то и не было, – сказала Инна.
– И у тебя, и у меня она была и есть. Много счастья в одни руки не дается. Я свое еще в студенчестве получила. Оно у нас не могло продолжаться вечно. Но прежняя его магия полностью не исчезла. – Лена улыбнулась своему внезапному внутреннему трепету. Она рада была почувствовать эти редкие, душу исцеляющие эмоции.
«Забвение Леной плохого, связанного с Андреем, было одним из обстоятельств, разрешающих ей любить его как прежде. И теперь эта любовь позволяет ей извлекать удовольствие из одиночества. Странно. Забавно».
– «Песня первой любви в душе до сих пор жива»? – усмехнулась Инна.
– Я пополняю недостаток любви общением с природой. Она меня исцеляет. Да и некогда мне заниматься самокопанием. Это тоже плюс.
– Я никого после Вадима не хотела настолько сильно, чтобы это чувство занимало все мои мысли, чтобы я была не способна контролировать свои поступки или мне было бы нестерпимо больно. Да – да, а нет, так нет. Правда, всегда была в состоянии эротической и сексуальной готовности, и, кажется, никогда сильно не переоценивала свои возможности, – шутливо закончила серьезную мысль Инна. – А ты ради призрачного счастья сама себя отвергала. Старалась сохранить свою мечту в неприкосновенности.
– И все же будь к себе справедлива. Все перемены, которые случались в твоей жизни, были к лучшему. Каждая что-то давала полезное.

