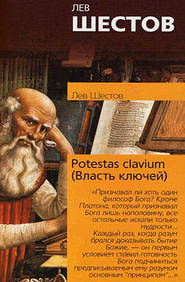 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Potestas clavium (Власть ключей)
Но, спросят, при чем же тут ангел и огненный меч? Есть и то и другое, только не вне, а внутри человека, как и то яблоко, которое проглотил наш праотец. Они в нашем стремлении intelligere, в искусстве созидать общие понятия. Стоит только человеку, как это сделал, по завету своих предшественников, Спиноза, заговорить на языке общих понятий, и рай мгновенно превращается в ад. Там, где были прекрасные сады, где пели птицы, играли вчера сотворенные и вечно юные львы, где радовались, любили, где была жизнь, свободная и торжествующая, там появились divitiæ, honores, libidines – понятия, которые, будете ли передавать на русском или на латинском языке, обозначают одно: смерть, смерть и смерть. И философия Спинозы с ее гордой вершиной, amor Dei intellectualis, – тоже смерть: внутри человека стоит ангел с огненным мечом и не пускает в рай.
Древнее проклятие с нас не снято. Мы сами оказываемся и преступниками, и своими добровольными палачами. «Res nullo alio modo vel ordine a Deo produci potuerunt quam productæ sunt» (Eth. I, pr. XXXIII), или, по Гегелю, vernünftiger Unglück![216] Как мог человек дойти до того, что последнее удовлетворение он стал находить в сознании, что «несчастье разумно» и что Бог не мог создать вещи иными, чем он их создал? А ведь на этом нам предлагают остановиться, в этом видят высшую мудрость, самое ценное, что бывает в жизни. Даже сладкопевец Гораций убеждает нас, что завиднейший на земле удел – это удел мудреца:
Sapiens uno minor est Jove, divesLiber, honoratus, pulcher, rex denique regum.[217]Кто так говорит? Древний змей, воплотившийся в поэта и вновь соблазняющий людей красотой плодов от дерева познания добра и зла? Если бы один Гораций! Его можно было бы и не слушать: πολλὰ ψεύδονται οἱ ἀοιδοί (много лгут певцы). Но Гораций только повторяет то, что постоянно твердят философы – философы, которым отлично известно, что в этих уверениях нет ни слова правды. Мудрец вовсе не прекрасен, и не свободен, и не царь царей. Он связан, он безобразен, он – последний из рабов и уступает не только Юпитеру, но самому ничтожному из смертных.
Конечно, «экзотерическая» философия обязана молчать об этом. Я думаю, что даже и посвященные между собою об этом не разговаривают. Только у святых вы встречаете такого рода признания – но святые об этом умели так говорить, что им никто никогда не верил. И вообще это одна из тех великих тайн жизни, которые остаются тайнами даже и в том случае, если их выкрикивают на всех площадях. Философам, как и святым, нужна sancta superbia. И Спиноза в последнем счете только и жил что «святой гордостью», о которой в своих сочинениях ничего не рассказал, ибо ее невозможно трактовать, как трактуешь перпендикуляры и треугольники. Ее нужно воспевать, как пищу богов, как нектар и амброзию. Этика Спинозы в целом и есть торжественная, хотя далеко не торжествующая, песнь во славу sancta superbia.
Говорят, что интуиция есть единственный способ постижения последней истины. Интуиция происходит от слова intueri – смотреть. Люди очень доверяют своему зрению и имеют для этого, конечно, достаточно оснований. Но нужно уметь не только видеть, нужно уметь и слышать. Философам следовало бы подобрать производное от audire[218] существительное и дать ему все права интуиции. Даже больше прав. Ибо главное, самое нужное – увидеть нельзя: можно только услышать. Тайны бытия бесшумно нашептываются лишь тому, кто умеет, когда нужно, весь обращаться в слух. В такие минуты открывается, что не все в жизни «разумно» и менее всего разумно «несчастье», что Бог – не общее понятие и не то что не действует «по законам» своей природы, а сам есть источник и всяких законов и всяких природ, что вещи созданы Богом как они созданы, а могли бы быть созданы и иначе, что философ, принужденный познавать мир при посредстве общих понятий, есть не rex regum, a servus servorum, самый последний из всех людей, какими были и прославленные святые, Тереза или ее ученик Джиованни дель Кроче и др. Но увидеть всего этого – нельзя: можно только услышать…
В новейшее время Гуссерль определил философию как ῥιζώματα πάντων – учение о корнях всего. Это определение, в котором нельзя не заметить реминисценции Эмпедоклова:
τέσσαρα γὰρ πάντων ῥιζώματα πρω̃τον ἀκουε,[219]необычайно соблазнительно и в своем роде правильно изображает задачи, которые философия в лице виднейших своих представителей всегда себе ставила. Однако исчерпывающим его назвать нельзя. Конечно, человек стремится постичь корни и источники всего существующего. Но и Плотин прав, когда на вопрос, что такое философия, он отвечает: τò τιμιώτατον – самое важное, самое значительное. Человек ищет корней всего не потому, что его толкает к этому неудовлетворенное любопытство. Он ждет – правильно или неправильно, что там, где корни и начала, – там и самое важное, самое значительное, самое для него нужное.
Если бы случилось, скажем, что обыкновенный материализм заключал в себе «последнюю истину», то философия, конечно, уже не заслуживала бы названия науки наук. Раз все из праха возникло и в прах обратится – стоит ли интересоваться корнями и началами? Так что, отыскивая ῥιζώματα πάντων, философ стремится к τò τιμιώτατον, т. е. ищет источников живой и мертвой воды.
Даже давший обет отречения монах Спиноза учит (Eth. I. Pr. 11): «posse non existere impotentia est et contra posse existere potentia est… Ergo, Ens absolute infinitum, hoc est Deus, necessario existit».[220] Ведь вот и монах, а гонится за potentia! А ведь potentia – это те же divitiæ, honores и, если угодно, libidines, только до некоторой степени освобожденные от тех условностей и случайностей, которые «усвоены» себе всякого рода земным бытием.
Знатный и богатый человек есть человек властный прежде всего, а потому – свободный и гордый. Сам же Спиноза богатство и знатность отводил только потому, что человек не в силах удержать за собою добытые или доставшиеся ему по наследству divitiæ и honores. Когда же он их назвал словом potentia, ему показалось, что дело в корне изменилось, ибо potentia, по крайней мере та роtentia, о которой он мечтал, была определена им в терминах или предикатах, не допускающих и мысли об уничтожении. Но здесь, конечно, вся аргументация ошибочна. Начать с того, что posse non existere можно считать и силой, и слабостью. Может быть, высшему существу должен быть в равной степени предоставлен выбор между существованием и несуществованием. А затем, если и согласиться со Спинозой, что posse non existere – impotentia est, кто может обязать нас отдавать предпочтение силе пред слабостью? Или, вернее, разве стремление к силе не есть libido, одна из тех страстей, от которых Спиноза дал обет отречься? Разве в геометрии есть место potentia? И, главное, стремлению к potentia? Математически рассуждая, potentia есть некая кривая, т. е. геометрическое место точек, имеющих одно определенное свойство, impotentia – другая кривая, т. е. опять же геометрическое место точек, имеющих определенное свойство. Первая, скажем, есть круг, вторая – эллипс. Совершенно очевидно, что нет никакого основания отдавать предпочтение кругу пред эллипсом. Бог может иметь своим предикатом и posse existere, и posse non existere, если его судьба решается more geometrico. Я хочу сказать, что «доказательство» здесь заключает в себе petitio principii и не может не заключать его. Ясно, что прежде чем приступать к доказательствам, Спиноза, в каком-то процессе, в его сочинениях не выявленном (и не выявленном, вероятно, умышленно), решил вопрос не только о бытии Бога, но и обо всех его предикатах, и лишь когда ему пришлось высказаться пред людьми, он вспомнил о геометрии. Вспомнил, ибо боялся, что без доказательств его мысли будут встречены недоверием и насмешкой. А ведь его философия была для него τò τιμιώτατον – самым важным! И нужно было ее оберечь во что бы то ни стало, всеми способами, какие только были в его распоряжении. Если бы Спиноза был царем или папой, он обратился бы к кострам и пыткам. Но он был бедным, слабым, никому не известным человеком. В его распоряжении был только его разум. И он написал ethica more geometrico demonstrata.
Оказалось, что таким способом можно тоже очень многое охранить. Даже на долгое время и лучше, чем кострами и пытками. Но все-таки – не навсегда. Если у философии Спинозы не найдется другого способа защиты, то и его Бог, как и тот Бог, которого охраняли инквизиторы, не будет в силах противиться времени… И еще, по-видимому, очевиднее, что вопрос должен быть поставлен иначе – так, как его ставили люди, еще свободные от нашей самоуверенности и предвзятости: не человек «защищает» Бога, а Бог защищает человека или, иначе говоря, Бога нужно не защищать, а искать, и, стало быть, в философии, если она хочет осуществить завет Плотина и стать τò τιμιώτατον (самым важным делом), разум должен отказаться от притязаний на суверенитет. Ему не дано «все черпать из себя», не он был в начале. Истоки и корни лежат за пределами разума.
VIII
Но с этой мыслью нам труднее всего примириться. И наилучшим доказательством тому может служить философия Шопенгауэра. Ницше где-то говорит, что мораль всегда была Цирцеей для философов. Правда. Но тоже правда, пожалуй, даже в большей мере, что и разум умел околдовывать философов. Как известно, Шопенгауэр был не только теоретически, но и по всему своему духовному складу наименее всего склонен к рационализму. У него разум – паразит, почти как у Лютера блудница. И никто в философии не умел так тонко подметить и остроумно изобразить слабые стороны разума, как Шопенгауэр. Он принимает – один из всех учеников и последователей Канта – целиком трансцендентальную эстетику и логику учителя. Разум не дает и не может нам дать настоящего знания. Его функция – создать иллюзорный мир, мир Майи при помощи форм чувственности, пространства и времени и категорий, главным образом, по Шопенгауэру, категории причинности. Поэтому все, что мы знаем, мы знаем не о действительности, постигнуть которую разуму, по самой его сущности, не дано, а о «явлениях», не открывающих, а, скорей, прикрывающих истинную реальность. Казалось бы, при таком положении вещей, после того как Канту удалось догадаться, что разум наш есть источник не истины, а заблуждений и обмана, вся задача философии должна была бы свестись к освобождению людей от навязанных им паразитом и обманщиком разумом мнимых истин. Сущность мира – воля, и ее голос, ее решения должны были бы быть для нас единственным источником настоящего познания. Но сила и власть Цирцеи-разума таковы, что ей покоряются даже самые смелые и проницательные люди, и до сих пор не нашлось еще хитроумного Одиссея, которому удалось бы добыть волшебный цветок и разрушить чары волшебницы. Все философы прославляли и воспевали разум – не избег этой участи и Шопенгауэр. С ним произошло то же, что и с библейским Валаамом: он хотел проклинать разум, но на самом деле благословлял его. Его философия – один непрерывный спор между разумом и волей, – спор, в котором окончательным победителем почти всегда является разум. Как только «воля», т. е. действительная, метафизическая сущность бытия, пытается возвысить свой голос, разум начинает бряцать аргументами, и голос воли заглушается. Воля в человеке хочет жизни и радости. Разум «доказывает», что радости преходящи, а жизнь – ничтожна. Воля рвется к любви, разум произносит длинную, остроумнейшую и блестящую речь на тему о метафизике половой любви, в которой выясняется, что любовь – только обман и иллюзия. Воля в человеке хочет вечной жизни, разум доказывает как дважды два четыре, ссылаясь на Аристотеля (разум без Аристотеля никогда обойтись не может), что все, что возникает, обязательно должно исчезнуть, а стало быть, и человек, в свое время родившийся, непременно должен умереть, что наша боязнь и наше отвращение к смерти есть только пустой предрассудок, ровно ни на чем не основанный и рассеивающийся, как свет лампады пред восходом зари, пред бессмертным солнцем ума. Но ведь разум ничего не знает и знать не может, по учению самого же Шопенгауэра, разум – раб и прислужник, вся задача которого только в том, чтоб исполнять веления воли. По какому праву разрешает он себе столь высокомерный тон в споре со своей повелительницей? Его дело – безропотно повиноваться, а он, как взбунтовавшийся раб, вздумал повелевать и господствовать. Шопенгауэр и сам подмечает, что у него разум изменил своему назначению, «эмансипировался», стал работать для себя и на свою потребу. Замечает – но нисколько не смущается, даже радуется. Радуется, что колдун, которого ему удалось было заковать в цепи, вновь вырвался на свободу и вновь стал творить свои беззакония! Почему радуется? По-видимому, потому, что иначе философия оказалась бы невозможной – по крайней мере, философия как «строгая наука». Но ведь философия хочет быть не только строгою наукой, она хочет «самого важного», хочет найти ῥιζώματα πάντων, добраться до корней жизни! И вот дилемма: будешь слушаться разума, получишь строгую науку, но уйдешь за тридевять земель от ῥιζώματα πάντων. Хочешь ῥιζώματα πάντων, т. е. признаешь, что самое важное (τò τιμιώτατον) находится там, где скрыты эти глубокие корни, нужно отказаться от разума и от надежды, что когда бы то ни было у тебя будет полная уверенность, что то, что ты считаешь корнями, есть и на самом деле корни. Ибо разум тем и пленял всегда человека, что давал ему уверенность, certitudinem, о которой так вдохновенно говорит даже сдержанный и скупой на слова Спиноза. Разум – родной брат морали и всегда умел действовать неразумными средствами, тем, что в логике называется argumenta ad hominem. Правда, разум в этом никогда не признается и даже обижается, когда его подозревают в такой нелояльности. Он претендует на абсолютное бесстрастие, на высшую объективность. Но все-таки я полагаю, что если бы вместо своей «эпифилософии» Шопенгауэр написал специальную главу на тему «Метафизика объективного разума» по программе своей статьи «Метафизика половой любви», то его философия много бы от этого выиграла. Ибо если правда, что воля является метафизической основой жизни, то вряд ли верно, что разум «вырвался» на свободу и эмансипировался от своей служебной роли. Вернее всего, что в числе прочих иллюзий, которые по заданию и указке воли создавал разум, и его мечта о свободе тоже чистейшая иллюзия, и иллюзия притом созданная для нужд и потребностей воли. Воле нужно было, чтоб разум вообразил себя автономным и законным. Поэтому она внушила одним людям мысль, что ἐν ἀρχη̃ ἠν ὁ λόγος, а Шопенгауэру, что хотя логос и не был в начале, но все-таки ему дано было освободиться от метафизического начала жизни. Шопенгауэр, так удачно высмеивавший человеческие иллюзии, сам попал на удочку собственного глубокомыслия и в конце концов поверил в основной обман жизни, разделив, впрочем, в этом судьбу всех людей. Во всем этом противоречий и запутанности – хоть отбавляй, но я не думаю, чтоб задача философии сводилась к тому, чтоб во что бы то ни стало если не распутать, то хоть разрубить все гордиевы узлы жизни. Если жизнь полна путаницы, то философия не может, да и не хочет стремиться во что бы то ни стало к «ясности и отчетливости». Если в жизни есть противоречия, философия должна жить ими. Я полагаю, что обилие запутанностей и противоречий должно поставить в заслугу Шопенгауэру. Конечно, он прельстился «разумом», но нужно ему отдать справедливость: у него «воля» иной раз говорит так громко и властно, что соображения разума как бы совсем перестают существовать. Недаром он столько говорил о метафизическом значении музыки. В его философии много музыки, которая не знала «слова» ни в «начале», ни в конце. Конечно – сущность каждой философии – даже Аристотеля – вся в «музыке». Иначе говоря, философ не только видит, но и слышит, и источником философии является не только «духовное» зрение, но и «духовный» слух, а может быть – кто знает? – и духовное осязание (как у Плотина), и даже обоняние, вкус… Нельзя даже быть уверенным, что нет каких-нибудь «чувственных способностей», еще не открытых психологией, которые окажутся или всегда были родниками высших философских откровений. Во всяком случае ясно, что Шопенгауэру никак не следовало бы забывать в угоду разуму о воле. Пусть бы выяснилось, что воля, т. е. последнее метафизическое «начало», не может дать научного знания. Из этого можно только заключить, что научное познание не есть высший, наиболее совершенный вид знания, стало быть, не может привести нас к ῥιζώματα πάντων, к корням вещей. И что есть какое-то знание, «логическая конструкция», которая совсем не похожа на логическую конструкцию знания научного. Философ не только не вправе брезгать им, но его прямая обязанность или, лучше сказать, его царственная привилегия только этого знания и искать. Шопенгауэр же, околдованный своей Цирцеей, пишет (W. a. W. и V. II. 720. Rec.): «Die Philosophie hat ihren Wert und ihre Würde darin, dass sie alle nicht zu begründenden Annahmen verschmäht und in ihre Data nur das aufnimmt, was sich in der anschaunlich gegebenen Aussenwelt, in der unsern Intellekt konstruirenden Formen zur Auffassung derselben und in dem Allen gemeinsumen Bewustsein des eigenen selbst sicher nachweisen lässt».[221]
В этих словах – все общие места и все предрассудки традиционной философии. Так может говорить только разум, вообразивший, что он уже окончательно и навсегда освободился от своего служебного назначения и сам стал господином над собой. Совсем как в сказке о рыбаке и золотой рыбке. Разуму захотелось, чтоб сама жизнь была у него на посылках! Он пренебрегает всеми недоказуемыми положениями, он признает только общее всем сознание, ценит только уверенное знание. «Даров» он не принимает: берет только ему принадлежащее – все «черпает из себя». Конечно, все это – условная ложь, и лучшим обличением этой лжи являются собственные сочинения Шопенгауэра, в которых на каждом шагу мы встречаем утверждения, ровно ни на чем не основанные и не имеющие права претендовать на какую бы то ни было доказательность. И если бы из его книг вытравить те места, которые не отвечают предъявленным им к философии требованиям, то у нас осталось бы только несколько десятков страниц общих рассуждений, не имеющих к философии никакого отношения, – т. е. осталось бы разбитое корыто: все, что остается у философов, добросовестно подчиняющихся традициям «научности».
Но Шопенгауэр не таков: он не стесняясь и превозносит, и хулит разум. Когда ему нужно, он вспоминает о «примате» воли и смеется над теми, кто верит в чистый разум. Переверните страницу после приведенного мною выше места, и вы увидите Шопенгауэра в обществе людей, при которых о разуме и вспоминать неловко, тем более о строгой науке. Он беседует с Ангелусом Силезиусом, восторгается Мейстером Экгардтом и theologia deutsch, восхваляет знаменитого квиетиста Молиноса и, точно бы не он только что говорил о строгой научности философии, спокойно заявляет: «Jede Philosophiе, welche consequenterweise jene ganze Dehkunksart verwerten muss… notwendig falsch sein muss» (Ib. 724).[222] И как бы затем, чтоб каждый мог наглядно убедиться, что ему гораздо ближе парадоксы, чем «обоснованные» истины, он еще через несколько страниц приводит нижеследующие слова бл. Августина: «novi quosdam, qui murmurent: quid si inquiunt, omnes velint ab omni concubitu abstinere, unde subsistet genus humanum? Utinam omnes hoc vellent! Dumtaxat in caritate, de corde puro, ex conscientia bona, ex fide non ficta: multo citius Dei civitas compleretur, ut accelleraretur terminus mundi».[223] Подите разберите – что это такое: «обоснованные» ли разумом положения, которым одним только место в философии, или своевольные утверждения, исходящие из таинственного источника: sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas.
Я не хочу делать новых выписок, хотя бы и необычайно интересных, из той же главы или других сочинений Шопенгауэра, чтоб еще нагляднее подтвердить равнодушие его к им самим же выставленному общему положению. И без того достаточно ясно, что источником его философских устремлений менее всего является «чистый разум» или «общее для всех» сознание. Он видит, слышит, осязает и т. д. и доверяет своим непосредственным впечатлениям в гораздо большей степени, чем «доказательствам».
Шопенгауэр мог стать тем, чем он стал, только потому, что он не боялся, когда нужно было пренебрегать всякого рода ratio и давать полную свободу своей voluntas. Своей – а не voluntas «вообще». Т. е. той «собственной» творческой, живой voluntas, которая вопреки «вечным» законам вырвалась из лона общего, всегда себе равного, чтоб начать, может быть, временную и изменчивую, но самостоятельную жизнь. И если все-таки разум de jure является у Шопенгауэра последним судьей над живыми и мертвыми, то это, по-видимому, указывает только на то, насколько крепки и неистребимы человеческие предрассудки или, если хотите, как неизменны решения Всевышнего.
Ведь «разум» и есть тот огненный меч, которым отгоняет поставленный Богом ангел людей от врат Эдема. И – поразительное дело! – Шопенгауэр Ветхого Завета не любит. Но в сказании о грехопадении усматривает глубокий смысл и великую тайну. И все же не умеет или не хочет догадаться, что первородный, теперь по наследству передающийся, грех нашего праотца тем и ужасен, что человек, вкусивший от древа познания, теперь уже не может мыслить иначе, как при посредстве общих понятий, и всегда ищет «доказательств». Чтоб услышать Молиноса, Шопенгауэр должен проверить его Ангелусом Силезиусом или Мейстером Экгардтом. И только убедившись, что «все» говорят одно и то же, Шопенгауэр соглашается поверить им и приглашает и других им верить. Т. е. признает заранее верховным судьей над истиной и ложью «общее всем сознание». Но, если бы и на самом деле показания всех допрашиваемых им людей и сходились и было бы доказано, что они, как полагает Шопенгауэр, ни прямо, ни косвенно не могли влиять друг на друга, это вовсе не служило бы порукой истинности их учений. Они все могли бы быть жертвами одного обмана и одной иллюзии. Ведь люди и западного и восточного полушария, которые были разделены меж собой океанами, равно были убеждены, что небо – твердь, земля – неподвижна и т. д. И все были обмануты.
Так что и Молинос, и Ангелус Силезиус, и мадам Гюйон, и др. могли тоже одинаково обмануться, и метод «разума», на который так рассчитывает Шопенгауэр, дает только видимость несомненности. И философия, надеющаяся при посредстве общих понятий найти истину, живет иллюзиями. То, что было с Молиносом, что он видел и слышал, было только для него и за пределами всего «общего». С Ангелусом Силезиусом уже было другое, а со св. Терезой – третье. Проверять же Силезиуса Экхардтом и наоборот значит отказываться от опыта того и другого. А еще хуже по опыту двух, трех или даже какого хотите большего числа людей приходить к заключению о том, что вообще бывает и может быть.
Таким способом логический «глаз» создает иллюзию твердых, прозрачных понятий, подобно тому как и физический глаз создал иллюзии твердого хрустального купола над нами. Общее и необходимое есть небытие par excellence. Только постигши это, философия искупит грех Адама и придет к ῥιζώματα πάντων, к корням жизни, к тому τιμιώτατον, тому важнейшему, о котором столько тысячелетий грезят люди.
Примечания
1
«И пусть нас не попрекают неясностью, ибо о ней-то мы и радеем». Паскаль (фр.).
2
Из глубины я воззвал к Тебе, Господи (лат.).
3
Природе разума свойственно рассматривать вещи не как случайные, но как необходимые (лат.).
4
Неподвижный первичный двигатель (лат.).
5
Припоминание (греч.).
6
Истинное выражается не только в форме представления и чувства, как в религии, и в форме созерцания, как в искусстве, но и в мыслящем духе; благодаря этому мы получаем третью форму соединения – философию. Поэтому философия является высшею, свободнейшею и мудрейшею формою (нем.).
7
Признак знания – это то, что оно может быть передано другим (ему можно научить).
8
Естественный свет (лат.).
9
Сверхъестественный свет (лат.).
10
Бытие Бога можно удостоверить естественным разумом (лат.).
11
С позволения сказать (лат.).
12
Сверхъестественный разум (лат.).
13
В начале слово (греч.).
14
Descartes R. Meditationes de prima philosophia in qua Dei existentia et animæ immortalitas demostratur (Р. Декарт. Размышления о первой философии, в которых доказывается бытие Бога и бессмертие души. 1641) – одно из основных сочинений Декарта.



