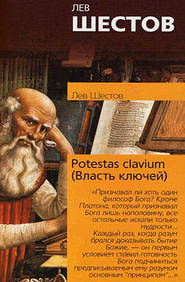 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Potestas clavium (Власть ключей)
Все равно как спящий не тогда проснется, когда убедится, что его сонное сознание «единства» всего существующего или тождества бытия и мышления (ведь во сне – у сна есть своя логика – люди тоже стремятся к «единству» и к отождествлению мышления и бытия: это необходимо твердо помнить), а лишь тогда, когда он убедится, что он спит и что его сновидения – вовсе не вся действительность, а только малая, отграниченная от всего прочего, часть действительности или только предчувствие действительности. Наяву, по-видимому, мы менее связаны, чем во сне. Но и наяву мы далеко не свободны. И до тех пор, пока человек этого непосредственно не почувствовал, пока он убежден, что явь есть полная противуположность сну, что наяву он свободен и что его свобода выражается в творческой работе той лучшей стороны его сущности, которая называется разумом, – он еще не философ. Нужно не усыплять себя «объяснениями», хотя бы и метафизическими, загадок бытия, – нужно будить и будить себя. Для того же, чтобы пробудиться, нужно мучительно почувствовать на себе оковы сна и нужно догадаться, что именно разум – который мы привыкли считать освобождающим и пробуждающим – и держит нас в состоянии сонного оцепенения. Может быть, аскетизм с его столь загадочными самоистязаниями есть выражение заложенного в человеке бессознательного стремления к пробуждению. Рациональная же философия родилась из потребности человека не переходить в этой жизни за пределы ограниченной пробужденности. Допустим, однако, и другое предположение. Может быть, непримиримая вражда между рационалистами и, выражаясь по-платоновски, μισόλογος’ами имеет более глубокий источник. Возможно, что люди предопределены к той или иной философии своим метафизическим предназначением. Не следует слишком полагаться на обычный метод размышления, оперирующий посредством общих понятий. ‘Ο ά̓νθρωπος и τὶς ά̓νθρωπος – т. е. «человек вообще» и «этот определенный человек», очень рискованно рассматривать исключительно лишь в отношении подчинения. Non includit contradictionem, как любили говорить схоластики, что какому-нибудь τὶς ά̓νθρωπος присущ такой предикат, который исключает всякую возможность загнать его в species ὁ ά̓νθρωπος. Конечно, если у какого-нибудь конкретного человека окажется только одна рука или нога, в то время как человеку вообще полагается иметь две руки или две ноги, или если он будет слепым, глухим или немым, это все нам не помешает отнести его к виду «человек». Ну, а если бы кто родился с крыльями или о двух головах – мы тоже бы назвали его «человеком»? Или если бы кто обладал даром превращаться, по желанию, в какое угодно животное, либо умел видеть прошлое и будущее так же ясно, как мы видим настоящее? Скажут, что этого не было и быть не может. Я отвечу, что вы не только не вправе утверждать, что такого быть не может, но что вы даже не знаете, что такого никогда не было. Не видали – и только. Но мало ли чего вы не видали? Мы не видим – и очень часто – того, что происходит пред глазами: не хотим видеть, потому что не полагается или до времени душа не принимает. А иной раз следовало бы видеть не только то, что есть, но чего и нет и никогда не было. Если мы хотим развить нашу способность постижения мира, мы должны дать полный простор своей фантазии. «Мыслить» людей о двух и трех головах – и даже совсем без головы, ясновидящих и т. п. И еще дальше: мы знаем, что эмпирические судьбы людей очень не похожи одна на другую. Одни рождаются Александрами и Платонами, другие – идиотами и бездарностями. Отчего мы так уверены, что только в эмпирическом мире возможно неравенство? Вероятнее всего, что и метафизические судьбы людей далеко не одинаковы. Одному дано жить только однажды – в этой жизни: он в первый и в последний раз появился – после своего рождения – во вселенной. У него нет прошлого, нет и будущего. Ему нужно спешить, чтоб успеть насытиться днями в течение короткого своего существования на земле между рождением и смертью. Его девиз – carpe diem, он всегда торопится. Он поэтому позитивист и имманентист. Кроме того, что есть здесь, под рукой, для него ничего нигде нет и быть не может. Он даже и Бога хочет здесь видеть (у средневековых людей это называлось frutio Dei[92]), ибо верно чувствует, что если Бога здесь не увидит, то не увидит Его уже нигде и никогда. Ведь не только безбожники бывают позитивистами, верующие люди не менее склонны к положительной философии: об этом свидетельствует история католицизма, да и многие другие истории. Позитивист, конечно, безусловно прав – для себя. Он не прав только, обобщая свои положения, утверждая, что они относятся к ὁ ά̓νθρωπος, а не к τίς ά̓νθρωπος. Может найтись другой человек или другие люди, которые уже существовали не раз, которым придется еще и после смерти существовать. Та душа, которую нес в своих объятиях лермонтовский ангел и которая еще до своего появления в нашем мире слышала небесную мелодию, тоже ά̓νθρωπος, как и душа, которая естественно зачалась и развилась в утробе своей матери и впервые услышала не торжественную ангельскую песнь, а свой собственный жалобный крик! Объединять в один вид такие различные «предметы» никак нельзя. Что у обеих душ одинаковые тела, что они оба живут на земле, равно платят налоги, обучаются грамоте, добывают в поте лица хлеб – и т. д., – этого совершенно недостаточно для того, чтоб их трактовать одинаково. Ведь вот кит совсем по виду рыба: и в море живет, и хвост рыбий, и все прочее, совсем как у рыбы, – а все-таки только грубые и невежественные люди его рыбой называют. Я вот и думаю, что, когда мы говорим ὁ ά̓νθρωπος – человек, – мы не одного только кита так сразу, здорово живешь, вталкиваем в «понятие» рыбы – туда попадают и львы, и тигры, и царственные орлы…
Что делать? Как быть, чтобы избавиться от таких постыдных и роковых, по своим последствиям, ошибок? Я полагаю, что начать нужно с того, чтоб не брать математику за образец для философской науки. Знаю, что это трудно – но ведь все равно трудно, даже если вы и возьмете математику за образец. Сам Спиноза, хотя он и строил свою философию more geometrico, кончает свою «Этику» словами: sed omnia præclara tarn difficilia quam rara sunt. Это – одно. Другое – что у того же Спинозы философия только по внешнему виду похожа на математику. На деле же она – философия, т. е. в ней все почти не доказано, что требует доказательств, и доказывается только, что все равно приемлемо и без доказательств.
Но это только начало. Дальше – еще труднее, но чего тут считать? Если бы это я выдумывал трудности, мне нужно было бы торговаться и оправдываться. Но я тут ни при чем, так же как и вы, читатель. Если хотите обвинять, вините того, кто создал всю эту жизнь – такую фантастическую, своеобразную, неестественную, не укладывающуюся ни в математические определения, ни в общие понятия. Впрочем, следует заметить, что «трудность» – очень условное выражение. Младенцу и водку пить трудно, и курить трудно – а иной взрослый есть не станет, была бы только трубка и вино. Так вот второе – и да будет мне дозволено сослаться на очень знаменитого философа – Плотина. ‘Η δὲ ἀνδρὶα ἀφοβὶα θανάτου. ‘Ο δέ ἐστι ὁ θάνατος χωρὶς ει̃̓ναι τὴν ψυχὴν του̃ σώματος. Οὑ φοβει̃ται δὲ του̃το ό̔ς ᾁγαπα̃ μόνος γενέσθαι.[93] Так говорит Плотин, и я думаю, что если его не перетолковывать на обычный, прилаженный к «пониманию» лад, то смысл его слов не допускает сомнений. «Мужество есть безбоязненность пред смертью. Смерть же – отделение души от тела.[94] Не боится же этого тот, кто любит оставаться один». Мне скажут – или мне не скажут, а я сам скажу? – что Плотин был декадентом в философии. Ну что ж? Декадент – стало быть, уже не рыба, а кит? Такой τὶς ά̓νθρωπος, которого никак не втиснуть в ὁ ά̓νθρωπος? Вы не согласитесь, скажете, что все-таки ά̓νθρωπος, который заблуждается? И непременно должны сказать, чтобы спасти дело традиционной философии. Я же и помог вам, внушив мысль, что Плотин был декадентом. Но зато его придется вырвать из «преемственной» истории философии и обсуждать отдельно от других! Если, однако, вы и захотите отвести его, то, может быть, не откажетесь послушать, как кит с рыбами разговаривает? Так вот, почему только тот не боится смерти, кто любит оставаться один? Именно любит: не только смеет, но и хочет. Ведь это, собственно, и значит, что τὶς ά̓νθρωπος выскользнул из ὁ ά̓νθρωπος, как бабочка, выпорхнувшая из куколки, и ни за что не соглашается лезть обратно в темницу общего понятия. Был человек как все, отлично умещался в универсалиях, ему предназначенных, – и вдруг какая-то таинственная сила выталкивает его из привычного обиталища, даже не предупреждая заранее, куда она его направит. Поразительная вещь: декаденты всех веков, не исключая и нашего современника, Ницше, пытаются бороться с судьбой и предопределенным им жребием. Ницше, как и Плотин, делал отчаянные попытки, чтоб вернуть себе утерянное место в ὁ ά̓νθρωπος. Но fata volentem ducum, nolentem trahunt. Выбора для человека нет. Раз он выпал из своего «вида» – обратно ему уже не вернуться. И вот послушайте показания каждого из таких τὶς ά̓νθρωπος. Ницше рассказывает о вечном возвращении: он уже бесконечное число раз был на земле и еще бесконечно много раз вернется на землю. Плотин же всегда существовал в неком едином и в восторженных словах вещает о том, что скоро – со смертью – он снова вернется туда, где был до рождения. Ясно, что оба говорят правду (хотя и делают утверждения, на наш взгляд, взаимно друг друга исключающие), – что Ницше суждена одна «метафизическая» судьба, Плотину – другая. Так же ясно, что ожидающие их превращения настолько различны, что никоим образом нельзя без крайней натяжки или, вернее, без умышленного нарушения основных правил классификации отнести их обоих к одному виду существ. И, конечно, менее всего можно их назвать ά̓νθρωπος’ами, если к ά̓νθρωπος’у мы отнесем, скажем, Геккеля, который определенно знает, что он произошел от обезьяны, – так определенно знает, что без всякого колебания считает утверждения Ницше и Плотина бессмысленным бредом. На этих примерах, я думаю, с достаточной наглядностью вскрывается основной порок рационалистического мышления, т. е. того мышления, которое de facto считается единственно возможным мышлением представителями всех философских систем – как бы в остальных отношениях они ни различались меж собой. Вот как говорит Спиноза в одном из своих писем (LXXIV): «ego non præsumo, me optimam invenisse philosophiam, sed veram me intelligere scio. Quomodo autem id sciam, si rogas, respondebo: eodem modo ac tu scis tres angulos trianguli æquales esse duobus rectis; et hoc sufficere negabit nemo, cui sanum est cerebrum».[95] И всякий философ должен повторить вслед за Спинозой эти слова: «я не предполагаю, что выдумал лучшую философию, я знаю, что постиг истинную. И если ты меня спросишь, откуда я это знаю, я отвечу: оттуда же, откуда ты знаешь, что сумма углов треугольника равняется двум прямым. И что этого достаточно – не станет отрицать никто, у кого здоровый мозг». Спиноза только смелей, последовательней и откровенней других философов. Он же говорит: «еа enim omnia, quæ clare et distincte intellegimus Dei idea (ut modo indicavimus) et natura nobis dictat, non quidem verbis, sed modo longe excellentiore et qui cum natura mentis optime convenit, ut unusquisque, qui certitudinem intellectus gustavit, apud se sine dubio expertus est».[96][97] И, наконец, его же утверждение: «qui veram habet ideam simul scit se veram habere ideam nec de rei veritate potest dubitare» (Eth. II, XLIII).[98] Повторяю и настойчиво подчеркиваю: приведенные утверждения Спинозы являются основными предпосылками мышления всех тех, кто предполагает, что каждый τὶς ά̓νθρωπος умещается в ὁ ά̓νθρωπος. А так как я до сих пор еще не встречал философа, который бы не исходил из этого предположения как из самоочевидной истины, то в этом смысле все философы оказываются спинозистами. Все, в том числе и теологи – напр., бл. Августин. Единственным исключением – и то только на мгновение – является Тертуллиан, в своем знаменитом изречении, которое шокирует даже католических богословов, но которое заслуживает того, чтоб о нем как можно чаще вспоминать: «crucifixus est Dei filius; non pudet, quia pudendum est; et mortuus est Dei filius; prorsus credibile est, quia ineptum est; et sepultus resurrexit; certum est quia impossibile».[99] Кроме Тертуллиана, я не знаю в литературе никого, кто бы испытал хоть на мгновение такого рода просветление, дающее возможность освободиться от «велений разума». Все хотят на общем основании gustare certitudinem intellectus, всякий, у кого есть vera idea, simul scit se veram habere ideam, и знает это потому же, почему знает, что сумма углов в треугольнике равняется двум прямым. Тут есть над чем призадуматься. Если я имею истинную идею о чем-либо, то я одновременно знаю, что имею истинную идею и не могу уже сомневаться в ней. Это, конечно, не простая тавтология: формулировки Спинозы очень осторожны и выдержанны. Спиноза в своей теореме хотел выявить то же, что и в отрывке из «Теолого-политического Трактата»: есть такое душевное состояние certitudo, которое наступает в связи с появлением у человека истинной идеи и которое, как полагающее предел всякого рода сомнениям, является свидетельством и результатом обретения единой для всех истины. Ясно, что всякий философ, ищущий единой истины, должен разделять мнение Спинозы – иначе он не был бы философом. Но вот от общих положений перейдем к частностям, иначе говоря, спросим себя, как применялась на деле теорема Спинозы. Лучший способ – обратиться к истинам, добытым самим Спинозой. Еще в своих «Cogitata metaphysica», в параграфе, озаглавленном «Dari voluntatem», Спиноза останавливается на знаменитом вопросе о буридановом осле. Что было бы с голодным ослом, если бы пред ним в равном расстоянии лежали две совершенно одинаковые вязанки сена? И что, соответственно, было бы с человеком, если бы он оказался в положении буриданова осла? Спиноза без колебания отвечает: «si enim hominem loco asinæ ponamus in tali æquilibrio positum, homo non pro re cogitante, sed pro turpissimo asino erit habendus, si fame et siti pereat» (Cogit. metaph. XII, 10).[100] Через несколько лет Спиноза в «Этике» снова наталкивается на тот же вопрос и дает на него ответ прямо противуположный: «dico, me omnino concedere, quod homo in tali æquilibrio positus (nempe qui nihil aliud percipit, quam sitim et famem, talem cibum et talem potum, qui æque ab eo distant) fame et siti peribit».[101] Т. е., отбросив образы, в первом случае Спиноза утверждал ту истину, что воля свободна, во втором – что воля не свободна. Утверждал в обоих случаях с совершенной уверенностью и несомненно испытывал чувство, о котором он говорил, что «unusquisque, qui certitudinem gustavit, apud se sine dubio expertus est».[102] В чем же здесь дело? Если предикаты истины как таковой в равной степени усматриваются одним и тем же человеком, хотя и не одновременно (я говорю «не одновременно», но вопрос может быть и шире поставлен) в связи с суждениями, взаимно друг друга исключающими, то могут ли они считаться исключительными предикатами истины, т. е. признаками, отделяющими ее от лжи? Либо есть у человека свобода воли, либо нет – и тем не менее Спиноза gustavit certitudinem как тогда, когда он принимал положительное, так и тогда, когда он принимал отрицательное решение по этому вопросу. И я полагаю, что unusquisque apud se sine dubio expertus est, что и с ним бывало – и не раз бывало то же, что и со Спинозой. Из этих случаев с необычайной очевидностью выясняется, что мы gustamus certitudinem[103] вовсе не необходимо в связи с познанием истины, что переживание уверенности довлеет себе автономно, возникает и исчезает совершенно независимо от того, добыли ли мы истину или ложь, и даже без всякого отношения к тому, существует ли вообще какая-либо возможность добыть истину. Спиноза, как и всякий рационалист, т. е. человек, желающий во что бы то ни стало и какой угодно ценой постичь все существующее своими собственными силами, прибегнул к совершенно ненужному и незаконному обобщению. Конечно, каждый по своему опыту знает, что с утверждением, что сумма углов в треугольнике равняется двум прямым, связано certitudo. Но умозаключать отсюда, что всякое certitudo обусловливается отысканной истиной, нет никакого основания. Наш старый кит снова негодует и не хочет вести компанию с рыбами. Certitudo сеrtitudini[104] розь. Бывают точно такие уверенности, которые порождаются постижением истины, но бывают и такие, которые рождаются совсем от других родителей. Можно вполне допустить и generatio æquivoca, самозарождение. И совсем нет никаких оснований отрицать возможности уверенности как благодатного дара небес, как gratia и именно gratia gratis data не в награду за заслуги, а по великому милосердию Божию – а то (и это, по-моему, вернее всего) и в наказание за наши грехи. Вот ведь простые люди, не менее, чем мы в своих истинах, уверены в том, что земля неподвижна, что солнце вокруг земли ходит и месяц по облакам плавает. Откуда у них certitudo, когда доподлинно известно, что они заблуждаются? И даже мы, ученые люди, любуемся голубым сводом небес, хотя давно знаем, что никакого свода нет. Рационалист не считается с этим. Он хочет быть гордым и ничего не принимает – или делает вид, что не принимает, – даром: если у него есть уверенность, то только уверенность, им самим добытая. Оттого-то Декарт так настойчиво повторял, что Бог не может обманывать людей. Ему казалось, что Бог не может обманывать людей. Ему казалось, что если Бог обманывает людей, то уже все пропало. Но, во-первых, он фактически не прав. Бог обманывает людей; и в Библии об этом не раз повествуется, да и мы своими глазами убеждаемся в этом на каждом шагу, хотя бы на вышеприведенных примерах о солнце, земле, небе. Если бы Бог иначе устроил наше зрение, нам бы вовсе не нужно было тысячелетия ждать Коперника, чтоб отказаться от иллюзии геоцентрического понимания. Но Бог хотел, по-видимому, чтоб мы любовались солнцем и небом, и нисколько не боялся покрыть истину красотой. Это человеку нельзя обманывать, а Богу можно – потому что Ему все можно. Рационалисты не хотят допускать Бога-децептора, потому что они и Богу не очень-то доверяют. Им хочется свой собственный разум сделать божественным и всепроникающим. Т. е. даже и этого на деле нет. На деле они гораздо скромнее. С них вполне достаточно, если они думают, что их разум божественен. Потому-то их никогда не смущает то обстоятельство, что божественные разумы так многочисленны. Они это просто игнорируют. Каждый самоуверенно твердит: я прав, я в истине, точно он глух от рождения и совсем никогда не слышит, что его сосед не своим голосом выкрикивает такое же «я прав, я в истине», хотя его истина совсем иная. Ясно, что тут до истины никому нет дела, что вопрос тут о совсем других благах, что и на этот раз, как всегда, человек остается таким же грубым эгоистом, каким он был в доисторические времена каменного и бронзового периода…
Потому-то, в противуположность Шеллингу и Гегелю, нужно сказать, что человек начинает философствовать не тогда, когда он постигает, что абсолютно идеальное есть тоже и абсолютно реальное или что все – едино, а тогда, когда он такого рода постижения выталкивает за порог сознания. Гораздо были ближе к истине Платон и Аристотель с их διὰ τò θαυμάζευν и еще ближе Шопенгауэр с его утверждением, что мир – есть мое представление. Только почувствовав (διὰ τò θαυμάζειν), что знакомый нам мир есть только «представление», и что certitudo возможно лишь во сне, и что чем прочнее certitudo, тем глубже и непробудней сон, – мы можем иметь надежду на пробуждение. Пока мы «знаем», пока мы «понимаем» – мы спим, и тем крепче спим, чем «яснее и отчетливее», чем аподиктичнее наши суждения. Это должны постичь люди – если им суждено на земле пробудиться. Но, кажется, не суждено – во всяком случае, суждено очень немногим – да и то только наполовину. Большинству же приходится умереть во сне, как во сне они и жили. Итак, начало философии есть θαυ̃μα – но такая θαυ̃μα, которая никогда не приводит к ἀθαυμασὶα, философскому идеалу Демокрита.
9
Музыка и призраки. Достоевский начал с ужаса, рассказав в «Записках из подполья» о своих последних муках и унижениях, а кончил «Братьями Карамазовыми» и пророчествами в «Дневнике писателя». Толстой же, наоборот, начал с «Детства и отрочества» и «Войны и мира», а кончил «Смертью Ивана Ильича», «Хозяином и работником», «Отцом Сергием» и т. д. Habent sua fata не только libelli, но и homines.[105]
Какова же задача философии – исследовать ли смысл целого и искать во что бы то ни стало законченной теодицеи, по образцу Лейбница и других прославленных мудрецов, или выслеживать до конца судьбы отдельных людей, иными словами – задавать такие вопросы, которые исключают всякую возможность каких-либо осмысленных ответов?
Многие замечательные люди думали – да разве кто-нибудь может хотеть думать иначе? – что последняя цель земной жизни человека в том, чтоб достигнуть такого состояния, когда можно провозгласить Осанну всему мирозданию. Так что Достоевский, если принимать à la lettre его последние «идеи», уже здесь получил награду свою. А Толстой не получил!..
И этим кончается тяжба между двумя великими писателями? Или, может быть, и тяжбы никакой нет?
Это только в нашем ограниченном представлении все тягаются со всеми: bellum omnium contra omnes,[106] и не только за материальные, но и за духовные права. Вот вопрос, который почему-то тщательно обходится философией, – а меж тем с него бы, казалось, нужно и начинать; им бы и кончать. Отчего Толстой не дошел до Осанны, а Достоевский дошел? Самый естественный ответ: что-то Толстому помешало. Иными словами, у Достоевского был какой-то скрытый источник, для Толстого оказавшийся недоступным. Ведь Достоевский получил награду свою. Наверное получил? Или только люди думают, что он получил, а он не получил ничего? И потом, опять, почему одни люди получают, а другие не получают?
Лучшие и самые крупные произведения Достоевского – «Подросток», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы» – были написаны им за последние 10, 12 лет его жизни, когда ему перевалило за 50 лет. Толстой же после 50 лет уже крупных вещей не писал совсем. «Война и мир», «Анна Каренина» появились в печати, когда Толстому шел и кончался пятый десяток.
Т. е. и в последние тридцать лет своей жизни Толстой писал вещи необыкновенные, но все небольшие, если не считать «Воскресения», которое мне кажется случайным анахронизмом, как бы отголоском первого периода его творчества. После «Анны Карениной», в которой Толстой все еще стремится иметь вид человека, уже получившего свою награду, идет ряд небольших произведений, смысл которых именно в том, что награды он никакой не получил и не заслужил. Почему же Достоевский так спешил с Осанной, а у Толстого Осанны не слышно?
Зачем же мог я произнесть Аминь?Я так нуждался в милосердьи Бога —Аминь же замер на моих устах.У Шекспира так говорит преступник – цареубийца Макбет. Когда читаешь последние произведения Толстого, невольно слышишь слова Макбета. Иван Ильич, Позднышев, Брехунов – все в ужасе от того, что аминь замирает на их устах. И отец Сергий, который мог гордиться тем, что Европа, неверующая Европа, знала его и чтила его, испытывает то же чувство души, умершей без покаяния и прощения грехов. Достоевский же, выпуская роман за романом, все громче и торжественнее провозглашает Осанну и все злее и беспощаднее топчет ногами людей, не умеющих вторить ему. Я назвал здесь Толстого и Достоевского. Если угодно вторую пару – я назову Шиллера и Шекспира. Шиллер был великим мастером торжественных речей. У нас высказано было мнение, что именно у Шиллера Достоевский обучился этому искусству. И доля правды в этом есть: хотя Достоевский необычайно высоко ценил Пушкина, но в Пушкине как раз не было того, что нужно для учительства, и за пророческим пафосом, без которого нельзя было писать многого из того, что писал Достоевский, приходилось обращаться к Шиллеру…
И вот я в третий раз предлагаю свой вопрос: отчего одним людям дано провозглашать Осанну, у других же торжественные последние слова замирают на устах?
Я исхожу из предположения, что и Достоевский и Шиллер не только произносили устами Осанну – но и испытывали те чувства, которые это слово вызывает. Предполагаю, не имея на то никаких оснований. Чужая душа – потемки. Очень может случиться, что человек, выкрикивая восторженные слова, только повторяет то, что слышал от других, подобно тому как бывает и обратное: иной раз человек напускает на себя мрачность, хотя в каждом его движении и даже на лице чувствуется плохо или хорошо скрытая радость и даже торжество.
Возьмите хотя бы Шопенгауэра: кажется, в философской литературе мы не найдем никого, кто бы так настойчиво и упорно доказывал бесцельность и бессмысленность нашей жизни, но, с другой стороны, я затрудняюсь назвать философа, который бы умел так заманчиво соблазнять людей таинственной прелестью доступных и недоступных нам миров. Мне кажется, что в этом смысле он мало кем превзойден. Точно так же и его ученик, впоследствии идейный противник – Ницше, официально провозглашал себя оптимистом. Но в его писаниях затаено столько ужаса, горечи и муки, что если бы люди были способны сквозь печатные строки добираться до того, что переживал автор, то, вероятно, пришлось бы под страхом тягчайших наказаний запретить распространение его сочинений. Но сейчас меня занимает не этот чисто психологический вопрос. Я не собираюсь делиться с читателем своими соображениями о смысле и значении тех или иных философских и литературных произведений. Пусть Шопенгауэр прославлял мир, а Ницше проклинал, или пусть будет наоборот – но факт несомненный, что одним людям дано понять и благословить жизнь уже здесь, на земле, а другим – не дано. Ведь можно было бы не только о писателях говорить или вообще о людях на виду. Мне приходится называть прославившиеся имена только потому, что они всем известны. Но ведь среди людей, о которых никто никогда не слыхал, которые не только в Риме, но и в деревне никогда не были ни первыми, ни вторыми, – есть такие, которые легко и свободно произносят Осанну, и есть такие, у которых уста разжимаются лишь затем, чтоб жаловаться на невозможность произнести это слово. И мне представляется, что эти две категории людей часто по своему внешнему виду и даже по земным, видимым судьбам мало чем одна от другой отличающиеся и потому для непосвященных представляющиеся искусственно отделенными, никоим образом не должны быть смешиваемы меж собой. Искусственность этого деления – только кажущаяся. На самом деле гораздо меньше смысла имеют принятые и привычные для всех деления. Скажем, всякий понимает, что можно делить людей по категориям сообразно их принадлежности к национальности, к церкви, сословию и т. д. Причем полагают, что такие эмпирические и осязаемые, а потому легко проводимые деления касаются самой сущности людей, так что им охотно придают даже сверхэмпирическое значение. Например, когда речь идет о национальности – о французах, англичанах, испанцах и т. д. Кажется, что французам дано общаться и быть вместе не только здесь на земле, но и в мире интеллигибельном. (Терпеть не могу это глупое слово, но, по разным причинам, не хочу называть другого.) Так что метафизики находят возможным говорить даже о «душе» Франции, Италии и т. п. И те, которые так говорят, совершенно уверены, что они углубляют человеческое познание, что из области позитивной они перелетают в область метафизическую. А меж тем что может быть поверхностней этого взгляда!



