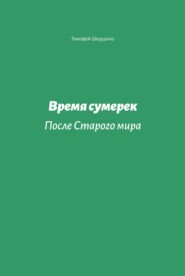 Полная версия
Полная версияВремя сумерек. После Старого мира
Излюбленный русский обман зрения – видеть апокалипсис там, где есть только трудности развития и роста, «кризис», т. е.испытание. Сейчас апокалипсис принято видеть на Западе. Это избавляет от оценок, размышлений и поисков смысла событий, и в то же время укрепляет веру в собственную праведность.
Точка зрения, согласно которой Запад «гибнет», а тому, что осталось от России, следует от него отгородиться – как удобна, так и неполноценна. Она, во-первых, извиняет все местные пороки, как коренные, так и унаследованные от «нового порядка»; во-вторых, благословляет разрыв с единственным возможным для нас источником культуры; в-третьих, потакает привычному апокалиптическому, оно же «историческое», мышлению, которое во всяком кризисе видит заслуженную кару. Не говоря уже о том, что даже переживающий испытание Запад все равно богаче и сложнее в любой своей части, чем послереволюционная Россия.
Мы не хотим знать, что переживаемый Западом «социализм третьего пола» исторически обусловлен, в частности – христианским враждебно-гнушающимся отношением к полу (и определенным оттенкам половых отношений). Удивительно, что в стране, где почти век господствовал т. н. «исторический материализм», никто не видит исторических обоснований современных событий. Впрочем, неудивительно. Под «историческим» фасадом марксизма таилась вера в чудеса и произвол; как и в ленинском «учении» от Бланки было гораздо больше, чем от Маркса.
5. Ложное охранительство
Итак, «Запад гибнет, а России следует от него отгородиться». На этой почве вырастает своеобразный консерватизм, которому, однако, на истощенной отечественной почве почти нечего защищать. Идеологии поощряемых отклонений противопоставляется идеологияуравнительной нормальности: «я как все, и все как я». Однако сила и глубина все же за неравенством, да и половая нормальность – не замена национальной идее.
Новое мировоззрение только хочет казаться охранительством. На деле оно защищает поверхностные ценности середины, социалистического «всемства» – не ядовитые, но культурной силе чуждые. Снова современно победоносцевское: «Россію надо подморозить, чтобы она не гнила». Россия провозглашается «хранительницей устоев», хотя эти «устои» на самом деле – мораль позднего революционного времени, восходящая в лучшем случае к середине XX века.
Знамя этого мировоззрения в прошлом не столь давнем и наскоро выстроенном на развалинах. Революция, эти развалины создавшая, провозглашается великим наследием предков. Культурная преемственность этому виду консерватизма несвойственна. Его «прошлое» искусственно создано в пустоте, посреди перерезанных и развороченных корней бывшей России. История знает примеры искусственно созданных, вымышленных прошедших, на основе которых создавалась традиция – таково вымышленное прошлое «Израиля», о котором повествует Ветхий Завет. Такое «прошедшее» предлагается теперь и нам. Основной поток новейшей русской истории – торжество Петербурга, дело Петра и наследников, постепенное размывание Империи славянофильством, Великая война, Белое дело и эмиграция – протекаетмимо этого вымышленного прошедшего, никак его не касаясь.
Собственно говоря, задача создания вымышленного прошлого, по заветам Платона, была решена уже «новым порядком». То, что делается сегодня, вторично. Идеологическая картина мира, созданная «партией» в середине XX века, искусственность которой сознавали почти все свидетели событий, теперь признается «нашим великим прошлым», которое нужно беречь. Идеология возведена в чин Истории.
Однако у этого сомнительного охранительства есть причины: оно решает действительные, не вымышленные исторические задачи. Падение России в 1917-м, последующее перемалывание ее культуры и народа в жерновах «нового порядка», а затем и разрушение этого «нового порядка» – поставили нас перед вопросом о повторном учреждении государства. Речь не о внешних формах. Они в нынешней государственности искусственны, отчасти унаследованы от «нового порядка», отчасти заимствованы у Запада, и при благоприятных обстоятельствах сменятся чем-то более национальным, т. у. укорененным в почве. Речь идет о выборе традиции, т. е. самой почвы.
Я не случайно упомянул выше о том, как Ветхий Завет создавал своему народу прошлое. Это естественная потребность людей, выброшенных из исторической колеи и вынужденных строить на пустом месте. Эту задачу сознают и нынешние правители, решая ее, как умеют и могут. Желая дать новой Россииосновополагающее прошлое, они находят его в революционных порядках середины XX века.
Поскольку нам дорога историческая Россия, поскольку мы не хотим, чтобы труды, затраченные государством российским от XVIII века до 18 года, оказались напрасны, мы не можем принять такой выбор.
Революционное прошлое не годится для определения нашего места в истории – в силу его изолированности и опустошенности. Этот мертвый отрезок времени не связан с временем мировым и национальным. Революционность есть мера беспочвенности.
Россия пережила «всесожжение» между 1917 и 1929 годами, но мало кто из живущих это замечает, т. к. видимость общественных и культурных связей была впоследствии восстановлена – однако восстановленные связи первобытны, несложны и не укоренены в прошедшем, из всей протяженности русской культурной истории затрагивая последние несколько десятилетий, самое большее половину столетия.
Плодотворность нашего культурного будущего – т. е. того, какое не связано с границами, войском, количеством бомб, тракторов и инженеров – можно обеспечить, только связав его с основанием, заложенным романовской Россией.
6. Преемственность
Это даст нам преемственность, причем настоящую и живую – связь с полнокровным, все еще живым, деятельным в наших крови и уме прошлым. Ведь ничто и никогда не «проходит». Всякое прошлое вечно живо в питающейся корнями собственных и общекультурных воспоминаний личности. Разница между первобытной простотой и культурой – именно в глубине и силе воспоминаний. Память о прошлом – рычаг, увеличивающий силу ума.
Чтобы вернуться в историю – где мыслят, верят в богов, чувствуют и живут, а не «самовыражаются» и «изучают вопросы», – нужно вернуться к основам. Полуобразованность изживается внутренней сосредоточенностью, укорененностью в прошедшем, личным смирением в сочетании с искусством «чтить самого себя», преобладанием понимания над «знанием» (всегда призрачным), мудрости над ученостью. «Культурный» живет не первой жизнью: до него жили другие, язык и мысль которых он усвоил. Эта продленность жизненных впечатлений (благодаря предкам, по крови или по духу – неважно) отличает его от полуобразованного. Культура – своего рода малая религия, т. е. приобщение если не вечному, то долгоживущему, в своем роде сверх-человеческому, выход за личные пределы. Где нет выхода за личные пределы – нет творческого труда, нет духа. Дух начинает себя сознавать только там, где выходит из «здесь и сейчас»…
«Культурный» уже вкусил начаток бессмертия; он не вполне «здесь» и не вполне «сейчас»; и потому, возможно, он более склонен к религиозному пониманию жизни, чем тот, для кого солнце взошло «вчера».
Уточню – предупреждая возможное искажение мысли, – что речь идет о восстановлении непрошлого, но преемственности. Преемственность с искусственным замкнутым мирком, созданным революцией, невозможна – даже с учетом того, что со временем в этот мирок были вписаны Пушкин и Достоевский. Само «наклонение» ума и души, этим мирком воспитываемые, делают невозможным понимание прежней культуры – только «изучение».
Что такое «преемственность»?Преемственность означает, что слова «мы» и «наше» будут употребляться по отношению к России, по меньшей мере, от XVIII века до 18 года, – что возможно только в случае расширения кругозора, приобретения того «продленного жизненного опыта», какой жизнь кровных и духовных предков дает человеку культуры. Не говорю уже о прямом и простом политическом следствии расширения кругозора за пределы выдуманного «новым порядком» мирка – об осуждении революции. Нельзя основаться на почве, созданной истребителями всяческой почвы.
Разумеется, речь идет одуховном переселении. Так русский человек петровского времени переселялся в Европу, оставаясь в России; так европеец времен христианской проповеди переселялся в вымышленный библейский «Израиль»; так во времена Возрождения переселялись в Афины и Рим. Это не невозможно и чрезвычайно плодотворно.
Перенос ценностей на чуждую им почву – редкое, но плодовитое заимствование. Так некогда были перенесены ценности Ветхого Завета из Палестины в Европу; так – позднее – европейские (римские) ценности были перенесены в романовскую Россию. Такой перенос ценностей – из богатого смыслами прошлого в пустыню искусственного, выхолощенного существования, где царят одна-две «идеи» – необходим и нам. У него есть противники. В «истории» наши современники видят нечто темное, чуждое, ненужное; она не окрыляет человека, воспитанного «новым порядком», а только тяготит; дороже всего ему – подаренное 91-м годом чувство полной безответственности речей (принятое за свободу)…
7. Сила сопротивления
Век не хочет восстановения связей с прошлым и всеми силами ему противодействует. Зачем нам какая-то история, когда у нас есть современность? Мир начался вчера, все новое, все еще только будет… Кроме того, «новый порядок» со временем создал видимость благоустроенного культурного мира, – а что он плоский, лишен как глубин, так и вершин, и совсем не укоренен в русской истории, это никого не смущает.
В представлении некоторых традиция есть нечто темное, устарелое, ненужное «просвещенному» человеку. Умственный мир такого человека исчерпывается «знаниями». Однако главное благо для ума – именно присоединение к некоторой традиции. Оно дает как сложные формы для выражения сложных мыслей, так и правильно поставленные вопросы. Ум «самодельный», воспитанный революцией и разрывом с культурной почвой – вечно детский; у него нет ни средств выражения, ни глубоких вопросов; его уровень определяется газетами (хорошо еще, если газетами) и непритязательной окружающей средой.
А многие до сих пор уверены, что этот уровень заслуживает гордости. «Революция зажгла свет просвещения!» Но «изба-читальня», «кружки по интересам», среднее образование не служат просвещениюкак таковые. Просвещение внутри, а это, так сказать, наружные припарки. Страна всеобщего среднего образования может быть страной всеобщего отсутствия высшей культуры. Зерно этой культуры: умственная дисциплина, способность суждения и способность воздержания от суждений, когда это нужно. «Средне-образованный» как раз всё и всех судит, т. к. никогда не чувствует недостаточности своих познаний. Впрочем, не знаниями вырабатывается способность суждения.
Думая о «просвещении», имеют в виду некоторую, как я уже говорил, сумму знаний, тогда как это, в первую очередь,сумма воспитания и размышления. Хорошо еще, если бы речь шла о сумме познаний; чаще всего – особенно в области знаний о человеческом – знания подменяются готовыми оценками, мнениями, избавляющими от необходимости что-то знать и о чем-то думать.
Прежде чем судить о любых вопросах, надо что-то узнать о человеке и его истории. Древний мир, средние века, история Старого мира перед его падением – все это известно современному человеку только по ряду шаблонных оценок, пустых слов о «классах и массах». Как ожидать от него, что он поймет время, в котором живет! В лучшем случае он увидит в современных событиях то, что учебники научили его видеть в событиях прежних: «реакцию и прогресс», «революцию и тирана». О существовании человеческой души, законов внутренней и государственной жизни, о культуре – он никогда не слышал.
С той же косностью образованного класса мы столкнемся, если поставим вопрос о качестве и содержании образования, которое должно быть а) не одинаковым для всех, б) развивающим мыслительную способность хотя бы в части учеников – а не только память на схемы и шаблоны (от химии и до классово поданной истории).
Помимо косности есть и другая сила, препятствующая принятию каких бы то ни было духовных ценностей. В наши дни этопошлость. Что такое пошлость? Дюжинность, обыкновенность, но не «простота» никоим образом. «Пошлый» не значит и «низменный», «развратный». (Пошлость вообще не нравственная характеристика.)
Пошлость естьспособность понимать не свыше известного уровня; иначе говоря, понимание, ограниченное простотой. Может быть «научная» пошлость так же, как и «музыкальная». В самом «научном подходе» уже скрыта возможность пошлости, т. к. научное понимание вещей основано на сбережении усилий, на схватывании мира при помощи ограниченного числа заранее заготовленных объяснений. И – тут мы подходим ближе к предмету – как только мысль прибегает к заранее заготовленному, но из другой области взятому шаблону, она падает жертвой пошлости.
Пошлость есть волшебный ключ, открывающий все двери потому, что ни к одной он не подходит; пошляк всегда доволен собой – нет вещи, смысла которой он не знает; нет более вопросов – одни ответы. Если мы видим науку без вопросов, с одними только частными техническими недоумениями, которые, конечно же, «вот-вот будут разрешены» – перед нами наука на ущербе, видимость познания, на самом же деле – труд технически-воспитанного ума над вопросами, превосходящими технику.
Пошлость ставит человека в наилучшие отношения с самим собой; делает его тем, кто говорит: «уж я-то понимаю…»
Но вернемся к инерции ума, о которой мы говорили выше.
Мне могут сказать: зачем это все? У нас есть повседневные задачи хозяйства, обучения – относительно полезности и необходимости которых есть всеобщее согласие; для чего нам еще какие-то выдуманные, понятные только избранным цели? На это следует отвечать, что народы и личностиживы только высшими целями, не имеющими прямого отношения к пользе и необходимости. С точки зрения «дела» высшая культура излишня, а то и смешна, а нужны – допустим – «тракторы и инженеры». На этом оселке и оттачивается нынешняя проповедь «нового порядка» во втором, более человечном издании. Но «новый порядок» потому и бесплоден, что кроме «тракторов и инженеров» ничего не мог предложить России переживающего собственную эпоху – и так и не предложил до самого своего конца. Все переживающее создано при монархии или же в эмиграции.
Можно сказать и то, что проповедь «высших ценностей» ведет к неравенству. На это можно ответить двояко. Во-первых, неравенство существует независимо от нашей воли, в силу случайностей рождения и воспитания. Люди рождаются разными, то есть неравными. Во-вторых, ценности в любом случае иерархичны, и это также независимо от нашей воли: или «сапоги выше Пушкина», или же Пушкин, все-таки, выше сапог. В наших силах только переопределить высшее и низшее, но не отказаться от них вовсе.
8. Заключение
Возвращение в историю, если оно состоится – не цель, достижение которой сделает ненужными новые усилия. Это, скорее, условие плодотворности будущих усилий – и условие, которое эти будущие усилия сделает возможными, т. к. без «возвращения» мы никогда не поймем, что культура естьпуть наибольшего сопротивления.
Ведь нация не дается готовой. Она воспитывается вокруг определенных ценностей, причем воспитывается не «лозунгами», не маршировкой, не массовым внушением, но только обращением к личности и светом, который эта личность вносит в жизнь окружающих. Просвещение обращено к личности или нет его. Бытовые привычки, физическое существование на земле – не создают еще нации; они только почва, на которой нация может вырасти. Страна, границы, армия, правительство – еще не нация, не культурное единство. Культурное единство воспитывается формообразующими усилиями просвещения и отдельных личностей, им затронутых. Пушкин, скажем – великий русский просветитель.
Просвещенная личность знает свое место в мире, среди поколений и внешних событий. Определить свое место личность может только при помощи некоторых неподвижных звезд. Этими неподвижными звездами, опорой самоопределения, могут быть как действительные, так и вымышленные образы – личности и нации по большому счету безразлично, на что опереться.40 Нам, русским, незачем измышлять себе точку опоры – у нас есть историческая Россия, пережившая революцию и осознавшая, продумавшая ее в изгнании. «Внеземельная Россия» была в своем роде счастливее коренной: революция стала для нее пережитым и осмысленным событием. «Материковая» Россия ни одного усилия не потратила пока что на осмысление революции; все, что от социализма и «нового порядка», принимается до сих пор как данность…
Но всё меняется. Только разрушители и циники уверены в том, что опрощение, потеря почвы – навсегда. Они не учитывают естественной, всепобеждающей человеческой тяги к сложности. Никакие «равенство» и «простота» не вечны. Желание особности и развития всё преодолеет.
Что же касается национального самоопределения через «нормальность», или через «справедливость» (т. е. уравнительство), или через военные победы – все это неполноценно, не связывает и не имеет творящей силы. Не определив своего места в истории, в ней нельзя остаться.
Заметки
[
←1
]
Измененного без достаточных на то оснований и наиболее враждебным по отношению к внешнему образу и внутренней логике языка способом. См. статью одного из участников Орографической комиссии, Н. К. Кульмана, «О русском правописании».
[
←2
]
Кн. С. Волконский совершенно верно говорил: «У насъ всегда твердили, что содержаніе важнѣе формы, и поэтому всякое воспитаніе формы почиталось ненужной роскошью, барствомъ и даже считалось вреднымъ. <…> Въ этой неспособности оцѣнить воспитательное значеніеформы, какъ опредѣляющей собою ясность, а потому и большую цѣнность содержанія, нужно искать причины той легкости, съ какою наши авторитеты научные пошли на измѣненіе правописанія»
[
←3
]
Т. е. уверенное, осознанное владение неповторимым внутренним космосом.
[
←4
]
Не случайно в 1918, под флагом «научности», в России было введено правописание, наиболее подходящее для того, кто не любит задумываться над значением письменного слова, хочет владения речью без понимания ее смысла. Внутренно-связная орография предъявляет умственные требования, которые выглядят лишними с точки зрения чисто технической. Зачем задумываться над мыслью, строить в уме грамматически-правильное предложение прежде, чем выразить его на бумаге? А «классическое» правописание этого требует. Новый орфографический принцип мог быть полезен для скорописи, но письменное слово – погубил.
[
←5
]
«Не там и не тогда, – говорит об этом чувстве Набоков, – не в этих косматых снах, дается смертному редкий случай заглянуть за свои пределы, а дается этот случай нам наяву, когда мы в полном блеске сознания, в минуты радости, силы и удачи – на мачте, на перевале, за рабочим столом… И хоть мало различаешь во мгле, все же блаженно верится, что смотришь туда, куда нужно».
[
←6
]
Влияние революции было демократическое, хоть революционеры и правили самовластно. Демократия враждебна сложности мыслей, отношений, внутренней жизни – как недоступной среднему человеку. Последствия демократизации разрушительны: целый слой понятий, умственных привычек, сложных форм мысли и слова уходит у личности из-под ног. Внутренняя жизнь упрощается до первобытных форм.... а жертвы этого опрощения уверены, что они во всех отношениях выше своих «темных» предков.
[
←7
]
Если бы не общепринятая мораль, высоко ценящая отказ от собственных желаний и служение «дальним целям» – интеллигенцией не был бы принят и большевизм, который от всяких желаний «для себя» Россию освободил. Во всяком случае, «людей ума и чернил» революция соблазнила именно этим. Пока топор не опускался на очередную шею, мерцающий свет нового нравственного порядка манил носимую этой шеей голову…
[
←8
]
Не зря А. В. Карташев говорит: величие Петра в том, что тот привил России римское (языческое, замечу от себя) начало.
[
←9
]
Что же касается монотеизма в строгом смысле этого слова, то он является философской концепцией, разработанной греческими философами классической эпохи. Его усвоение традиционной религией происходило посредством осмысления младших божеств пантеона как особой категории существ – «ангелов», природа которых не божественна (ранее младшие божества назывались «ангелами» лишь в силу исполнения ими обязанностей посланцев или вестников старшего бога). Христианство пережило такое осмысление уже на раннем этапе, в силу своего распространения в греческой среде. В иудаизм же оно стало проникать лишь с VIII в. н. э. через арамейско-арабское христианско-исламское посредничество. По этой причине, вопреки общепринятому мнению, иудаизм стал монотеистическим не первым, а последним из «мировых религий». –C. Петров. Вот б-ги твои, Израиль. Языческая религия евреев.
[
←10
]
Герман Френкель.
[
←11
]
Заметим: нет «малограмотности» самой по себе, есть желание пользоваться языком, не понимая его смысла. Орфография не может идти навстречу этому желанию. Полупросвещение (или «высшее образование», понятое по-советски), создает личность, которая языком пользуется, но его не понимает. Внутренние связи смыслов, значение слов – всё это ей недоступно или малодоступно. Неслучаен длящийся до наших дней восторг перед революционной ломкой правописания, устранившей из письменной речи тонкие оттенки смысла.
[
←12
]
Об орфографических утратах я и не говорю. Вопрос о русском правописании был решен в 1917 году так же неудовлетворительно, как и все остальные русские вопросы, и решение это ждет своего пересмотра.
[
←13
]
В. Ходасевич.
[
←14
]
Как говорит о нем В. Буркерт: «Человек <в языческом мире> должен лавировать между множеством требований и необходимостей; благочестие есть ум и „осторожность“. Как раз в этом, однако же, и состоит шанс многобожия охватить многообразие действительности, не закрывая глаза на противоречия и не будучи поставленным перед необходимостью усиленного отрицания какой-либо из ее частей. Человеку даже остается свободное пространство по ту сторону удовлетворенных требований; поэтому у греков закон и этика могли развиваться как человеческая „мудрость“, независимо и одновременно в согласии с богом; высказывания мудрецов и закон высекались на стенах храмов и тем не менее всегда считались человеческим дерзанием, а не божественным откровением».
[
←15
]
«Часто бывает, что наука довольствуется тем, чтобы пошатнуть распространенные религиозные убеждения, не пытаясь их чем бы то ни было заменить. Так создается карикатурное явление: научно вышколенный, высокоосведомленный ум с невероятно детским – неразвитым или атрофированным – философским мировоззрением».
[
←16
]
«Религия есть частное дело».
[
←17
]
И тут мы подходим к дьяволу – этому великому христианскому изобретению… Дьявол – способ справиться с иррациональным в человеке.Непонимаемому мы даем имя и полагаем его вовне. Люди всегда так поступают. Тот же «Естественный отбор» не действительнее «дьявола», просто вера в него не так важна для личности.
[
←18
]
Конечно же, надо сказать и подчеркнуть, что христианство,пока оно религия – шире морали. Как только границы религии и морали в христианстве совпадают – ждите прихода безбожного поколения.
[
←19
]
Один из социализмов был пожран другим. Нимало не желая оправдания национального социализма, надо сказать, что нервом его тоже была мораль, а поприщем – борьба с «мировым злом». Нелепо верить, будто национальный социализм проповедовал аморальность. Напротив, он (точно так же, как социализм классовый) постоянно прихорашивался перед зеркалом морали. Весь пафос «нового порядка» был в противодействии растлевающему влиянию – евреев, англо-саксов, большевиков. Никто и никому не предлагал потерю образа человеческого в качестве цели – она приходила сама как неизбежное следствие борьбы с «мировым злом». Нам, русским, это не следует забывать.
[
←20
]
Эссе «Полупросвещение».
[
←21
]
Русскому уму необходимо рассовечивание формы и содержания. И тут, и там следует двигаться к богатству и сложности – прочь от плоскости и убожества. Лепка нового литературного языка возможна только на основе классической русской речи, в том числе и ее правописания – строгого и изящного, воспитывающего ум и руку пишущего. Безобразие советского и послесоветского писаного слова не в последнюю очередь связано с тем, что пишущий (впервые в русской истории, если не считать заборных надписей) очутился на пустыре, без облагораживающего влияния внутренне-связной, сложной, богатой средствами выражения орфографии. Письменный язык есть произведение искусства, архитектура своего рода, и «общедоступность», взятая как цель, губит его так же, как советская эпоха погубила архитектуру, из всех видов зданий оставив только повторенный в различных размерах сарай.



