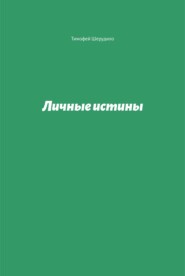 Полная версия
Полная версияЛичные истины
***
Когда-то философом называли того, кто ищет истину; впоследствии называть философом стали того, кто изучает правила разыскания истины; современные философы занимаются не истиной, а теми, кто прежде искал эту истину, по правилам или без правил. «Научная философия» всегда будет только историей самой себя, т. к. если «научность» – значит, должен быть единственный верный способ философствования, приводящий к неизменным и повторяемым выводам независимо от личности философствующего… Но представить себе такую философию невозможно; остается только изучать предшественников. И общество остается без философии, т. е. без мировоззрения, а это смертельно для общества и человека, ведьчто мы о нашей жизни думаем, тем она и является. Целые общества определяются своими мировоззрениями, более того: мировоззрение есть то, каким образом мир действует на смотрящего. Стороны, которые мы замечаем в вещах, суть именно те, которыми вещи на нас влияют. Наше поведение зависит не от того, чего мы не заметили, но от того, на что мы обратили внимание. «Объективная», неизменная, надзвездная действительность существует только в мечтах. В этом случае есть еще надежда на восстановление свободы человеческой души, поставленной в бесчеловечное общество, упоенное тем, что оно будто бы – верное зеркало природы, то есть мира случайностей и бессмысленных насилий…
***
Философия отличается от прочих видов знания тем, что занимается вещаминепоправимыми. И, хочется добавить, непостижимыми. Что может быть излечено, склеено, поправлено – философии не создает; здесь не о чем спрашивать… Только вопросы, не находящие удовлетворительных ответов, вырастают до исполинских размеров и вызывают наибольшее и самое плодотворное напряжение мысли. Что можно понять, то не влечет нас с неодолимой силой; что влечет и затягивает, то непонятно – как смерть или любовь. Между мудростью и разумом непереходимая граница, т. к. если разум занимается исключительно вопросами, имеющими разрешение, то мудрость их избегает.
***
В области мысли возможно либознание, либо понимание. Очень многое можно знать, не понимая, и – напротив – понимать, не зная. Известная нам эпоха выбрала знание, т. е. силу; понимание теперь – удел слабых и выброшенных из своего времени. И в отношении религиозного та часть западного мира, которая еще чувствует обаяние религии, склоняется к древним учениям с их представлением о безличной Силе, помогающей тому, кто знает. Религия неистребима даже и в мире, обезображенном тягой к силе, но по необходимости эта религия возвращается к первобытным формам, к поиску власти над вещами помимо правды. Нельзя не сопоставить первобытного человека, который в совокупности доступных ему знаний искал власти над природой, – ведь, насколько можно судить, первобытная религия требовала от души не праведности, но силы, т. е. обладания волшебным знанием, – и человека современности. Мы не ищем правды, мы ищем силы и достигаем ее, но только за счет убывания количества правды в жизни, в которой всё связано, и достигающий одного расплачивается за свой успех другим.
***
Какое ужасное предопределение: всё лучшее и высокое и доброе в человеке связано с глубиной, тайной и недоказуемостью – и, напротив, есть связь между поверхностью и разумностью, между плоскостью суждений и их общеобязательностью. Общеобязательно и закономерно, хорошо поддается изучению только всё плоское и пошлое. Здесь возможны точное знание, науки и искусство изготовления вещей… Трагедия в том, что разум не просто ограничен: он не поднимается достаточно высоко и не опускается достаточно низко даже для того, чтобы понять жизнь души, собственной души мыслящего человека, и – это еще горше – всё для себя недоступное, сверху и снизу, он объявляет либо ненужным, либо несуществующим, и вполне удовлетворяется плоскостью «ясных и отчетливых суждений». Говоря я это совсем не со злорадством. Это ужасно для всякого мыслящего – осознать, что твое излюбленное орудие, которое никогда не дрожало в твоей руке – бессильно. Это то же самое, как узнать, что твои глаза видят только то, чего нет, или – для полноты сравнения – не всё, что перед ними, а только определенные предметы, скажем, всё округлое, не замечая углов… Мы всматриваемся в действительность до боли в глазах, до потери разума, но действительность прячется и ускользает от встречи с нами.
***
Условием познания мира является напряженное и внимательное самопознание, однако новейшему времени свойственно внимание к внешним вещам при отсутствии любопытства к собственной душе исследователя. Ученый превращается в некоторый придаток к собственным знаниям, в наблюдателя всего на свете, в зеркало, которое видит всё, кроме самого себя. Можно было бы назвать этосамозабвением, но я думаю, что это просто невнимание, вызванное общей невыработанностью личности.
Понятие «объективного», т. е. холодного познания скрывает в себе ловушку. Думая непредвзято смотреть на природу, современность смотрится в зеркало, и совершенно «объективно» узнаёт в нем свои черты: отсутствие духа, целей и смысла. Но чьи это черты, природы или исследователя, об этом спрашивать не положено. Мы наблюдаем жесточайший кризис естествознания – с одной стороны, скрываемый под внешними успехамифактособирательства, до того ошеломляющими, что они производят впечатление всезнания, а с другой стороны, являющийся только отражением жесточайшего кризиса общества, к которому принадлежат естествоиспытатели. Положение можно было бы назвать забавным: при полном отсутствии склонности к самопознанию, к трезвой самооценке, ущербное общество наших дней находит в природе всё то, что ему бы следовало найти в себе, и благодушно выносит такой, например, приговор: «у нас с гориллами действительно много общего», или другой подобный. Могут спросить, а разве древнее или средневековое представление о гармонической вселенной было в меньшей степени плодом общественного сознания с его идеалом вечной упорядоченной Империи? Может быть и так, но я скажу, что эти представления были всё же представлениями, естественными для здорового ума, в котором порядок господствует над хаосом; оставаясь на почве психологии, можно сказать, что представление о мире, как беспорядочном кружении обрывков и клочков, гораздо естественнее для расстроенного ума, для больной души, чем для здоровых. Конечно, поставленный вопрос не существует для твердо верующих представителей науки, уверенных, что их умственные построения тождественны с самой Истиной. Но для нас с вами, помнящих, насколько недолговечна всякая естественно-научная «истина», разумнее думать иначе. Не удивительно ли, что снова необходимо защищать разум против слепой веры, и на стороне этой слепой веры стоит известная своей враждебностью всякой вере наука! Видимо, эта враждебность не является ее неотъемлемым свойством; видимо, это была юношеская горячность, а то и просто уловка, прием времен ревнивой борьбы с Церковью за наши души. Теперь, когда души завоеваны, можно и вернуться к слепой вере, тем более, что она лучше всего сохраняет любое учение от критики и развития. Итак – снова разум против веры, но только во имя Бога, души и свободы, которым так враждебен наш век.
***
Философ – тот, кто в наибольшей степени уязвлен несоответствием бытия расхожему представлению о нем. Перед другими жизнь прячет свое лицо, а перед ним она его открыла. Он влюбился в это лицо, но оно его и ужасает, и мучает. То, что иные созерцают изредка, он видит ежечасно – пугающе сложную и неуловимо-осмысленную связь понятий. В ней именно то и мучительно, что смысл неуловим и невыразим, но притом несомненноесть. Однако мы здесь, а смысл где-то по ту сторону, так что мы его видим как бы в отражении – смутно, неявно… Как говорил еще Паскаль, мироздание было бы менее мучительным, если бы в нем откровенно не было смысла, и гораздо более отрадным, если бы смысл присутствовал в нем повсеместно и явно; однако оно смущает нас избытком бессмыслицы при несомненном присутствии смысла.
***
Заблуждения могут быть следствием неукротимого стремления к истине – тогда это благородный плод усилий, но могут быть и убежищем вялой и ленивой души, которая не искала правды – тогда это оборонительный вал, поставленный ленивцем, чтобы его не беспокоили. К этому роду относятся отрицательные убеждения: «всё равно, нет ни правды, ни лжи, нет ни в чем смысла, ничего нет и искать нечего»… Давая обладателю душевный покой, они без помехи позволяют растрачивать себя на развлечения, удовольствия, погоню за почестями и успехом, в каком бы упрощенном и негромком виде этажизнь для себя – а неверие освобождает человека для жизни для себя, в этом вся его привлекательность – ни происходила.
***
– Не хочу ваших целей.
– Тогда назови другие.
– Без колебаний:правда и красота.
– Ты видишь их в мире?
– Нет. То есть да. Я их жажду всем сердцем, следовательно, они есть.
– И они согревают тебя на пути от рождения к смерти?
– Пока я с ними, я жив; без них – умираю.
– Итак, это просто твои мечты, твои смутные чаяния, твое несбывшееся «я»…
– Мои мечты, мои смутные чаяния, мое несбывшееся «я», словом, основа, твердая почва, из которой вырастает моя личность…
– Твоей же личностью и созданные.
– Напротив, ее создавшие. Такова моя вера: путь к истине ведет вовнутрь.
***
Человек, выбравший афористический способ выражения мыслей, может либо притворяться архитектором своих книг, как это делал Ницше, либо смиренно признавать себя садовником, который выращивает цветы, посаженные кем-то другим, там и тогда, когда этотдругой захотел. Нелепо утверждать, будто мои мысли исходят от меня самого: слишком многое убеждает меня в противном. Не менее нелепо навязывать какой-то «порядок» тому, что выросло естественно и, быть может, в согласии с порядком иного рода. Повторю: всё дело в том, кем себя чувствует писатель – архитектором или садовником. В первом случае у него есть возможность гордости или самомнения, во втором уместно только смирение по отношению к себе и своем делу. Человек творчества – всегда садовник, что бы он о себе ни думал, а все величественные формы и постройки – плод усердия, а не вдохновения.
***
Когда-то, при последнем подведении итогов, окажется, что я всю жизнь думал не о том, что нужно для того, чтобы жить, а о том, что нужно для того, чтобы умереть. Полагаю, что это можно сказать и о многих других мыслителях. Они живут, как и все остальные, но как-то не придают жизни и ее интересам решающего значения. Философские знания по своей сущности такие, какие в жизнинельзя применить. Именно поэтому жизнь так мало внимания уделяет философам и их вопросам. То, что их занимает, не имеет никакого отношения к тому, чтобы покупать и продавать, жениться и выходить замуж… Я не открою тайны, если скажу, что философа волнуют вопросы, имеющие смысл только при условии, что человек есть существо вечное 12 . Вспомните Достоевского: никогда не уходил он от этой мысли. А если это допущение верно, если мы правы, то все приключения тела и души на земле ни так значительны, ни так окончательны, как нам думается. «Продавать и покупать, жениться и выходить замуж» – всё это славно, но нас ждет большее. На этом большем и сосредоточен мыслитель.
***
Поэт должен быть краток и точен – до подозрения в цинизме, однако не доходя до цинизма. Тех, кто не следует этому правилу, публика и считает обычно поэтами. Поэт – тот, кто умеет связать смысл мгновения сетью удачно подобранных слов. Его произведения именно сеть, а не сам смысл. Неумелый поэт, неумелый читатель – один неумением выразить, другой неуменьем читать – разрушают силки и смысл улетает на волю. Неумелый читатель протягивает руку за смыслом, а получает только намек на то, где, в каком сочетании мысли и душевного смятения следует его искать… Истинный поэт всегда говорит намеками, но о главном; передает нам знание о вещах, не описывая их. Поэзия – дождь над сухой землей; для ее успеха необходима известная жажда – иначе воды поэзии прольются и уйдут обратно в море.
А чему может научиться философ у поэта? Ничего не описывать; не водить читателя за руку, предлагая посмотреть направо или налево. Философия только сеть, накинутая на истину; покрывало на изваянии. Читателю нечего делать с философскими истинами без умения угадывать и познавать самому.
***
Между одиночеством поэта и одиночеством себялюбца большая разница. Поэт отделяется от людей, чтобы быть с ними; себялюбец всегда сам с собой. Себялюбец живет для себя и в свое удовольствие; удовольствие поэта, вообще говоря, отравлено его мудростью, или, не говоря громкого слова, способностью прозирать в глубину вещей. О легкомыслии поэтов много говорят, но как раз они твердо знают, что их радости временны; лирическая поэзия невозможна без мысли о бренности наслаждений; для того, кто находится в самой середине удовольствия и не желает из нее выходить (как это делает себялюбец) никакая поэзия невозможна, т. к. поэзия, как всякое творчество, требует известного расстояния между душой и ее ощущениями; внутреннего трезвого и судящего «я», стоящего в стороне от своих впечатлений… Может показаться, что я преувеличиваю мудрость поэтов, нонастоящая поэзия без трезвой мудрости не существует. Наш Пушкин, а в новейшее время Ходасевич, примеры таких мудрых поэтов.
***
«Я всё превращаю в слова, в великолепные слова, – может сказать себе писатель. – Какие-то из них являются истинами, а какие-то нет, а какие – я не знаю. Я бреду наощупь». Каждый настоящий человек мысли и слова находится в этом положении, за исключением людей ограниченных или обманщиков. Наши мысли не дают нам утешения. Через нас говорит сила, но она не удостаивает нас сведениями о своем происхождении и происхождении своих истин… Мы говорим, и в наших словах доброжелательные слушатели иногда находят смысл, но для нас самих наши речи загадка, так как мы не можем верить сами себе, и лишены доступного читателю счастьядовериться другому. Человек способен поверить во что угодно и кому угодно. но только не самому себе. Вещи устроены так, что доверие к самим себе свойственно только лжецам… Через ночь нам светят луна и звезды, хотя в самой себе она не имеет никакого света: таков и мыслитель.
Нужно писать, всё равно нужно писать, – говорит он себе. – Даже если небеса падут на землю, и я при том уцелею, даже и тогда нужно писать. Общение с истиной – а пишут, упорно пишут только из любви к истине – поддерживает мое собственное существование, хотя и до известной степени: ведь священное писание всегда написано другими. Веры в себя достаточно, чтобы идти на свет, и никогда не хватает для того, чтобы довериться этому свету вполне. Нужно идти и писать отважно, не надеясь на то, что голос с небес подтвердит твой выбор. Небеса дают нам обстоятельства и свободу действий в этих обстоятельствах, но не расставляют дорожных знаков и не раздают наград…
***
Художник может быть либо заодно со своим временем, либо против него. В первом случае это время подъема, во втором – спада. Путь художника всегда вперед и вверх. «Современность» сама по себе не является достоинством. Во времена понижения уровня воды она означает обмеление, во времена прилива – глубину. Когда эпоха на спаде, гордые своей современностью посредственности плывут по течениюв никуда, тогда как творцы движутся против и достигают вечности. Поскольку определяющим признаком демократической эпохи является пошлость и доступность середине, всё «современное» ей никак не может рассчитывать на долголетие. Только то, что было в новейшую эпоху сказано и сделано «против течения», и оставит по себе след. Таково общее правило: только духовное в истории человечества укореняется и приносит плоды, всё остальное проходит, а именно духовное признано нашей эпохой «несовременным» и оттеснено с дороги.
***
Есть какое-то проклятие в том, чтобы быть «передовым человеком своего времени». Передовой человек, как это ни странно, есть тот, ктополнее других воспринял ограниченность своего времени и благодаря этому преуспел – в своих делах и мнении современников. Истинно великие люди всегда бывают современными, но никогда «передовыми». Быть «передовым» значит предугадать направление мысли, ведущее в тупик, и бодро по нему пойти. А таков уже исторический закон, что всякое наиболее многообещающее направление мысли ведет именно в тупик. В связи с этим замечу, что для бодрых, успешных и целеустремленных действий в истории нужно, просто необходимо видеть впереди себя не далее как на шаг – и никогда не оглядываться назад. Кто видит более чем на шаг вперед и помнит прошлое – тому история дает возможность быть современным, но никогда не «передовым».
***
Единственный, или чуть ли не единственный для меня смысл творчества состоит всамопознании, в постижении той сверкающей, а иногда непроглядно темной действительности, которую я нахожу в глубине себя, и которая как-то, неизвестным мне способом, связана со всем миром. Только ради того, чтобы объяснить себе себя самого, я и пишу. В состоянии светлой цельности, какое нам свойственно в детстве, а редким из нас и в зрелости, просто не о чем писать. По меньшей мере для философского творчества в нем места нет, потому что всё в этом состоянии добро зело, и к этому нечего прибавить. Творчество начинается там, где гармония нарушена, небеса потемнели, но в душе осталась повелительная тяга к ясности и уверенность в ее возможности, а еще более – чувство того, что эта ясность, гармония естественна и соприродна душе. Душу могут томить самые темные образы, самые безобразные видения, но в своей глубине она всегда ясна. Если бы не было этого предчувствия гармонии, веры в возможность гармонии и ее сродность нам, не было бы и поиска чистоты и красоты в мире. Для него не было бы оснований. Гораздо легче объяснить тягу к безобразному, низкому, чем жажду света. Стремление приобретать и поглощать, владеть и пожирать выглядит гораздо более «естественным», для природного существа, каким хотели бы видеть человека. Однако в нас есть свет, «и тьма не объяла его».
Ведь – это уже отступление в сторону – согласно современным воззрениям, для человеканет ничего естественнее зла. Желай, добивайся желанного, действуй согласно своим потребностям – и ты уже на дороге. Я на это скажу, что в человеке есть сила противодействия злу, как бы оно ни было «естественно», и более того, что эта сила в нем – преобладающая. Будь зло на самом деле так соприродно человеку, давно бы уже на свете не было ничего, кроме зла, да что там – не было бы уже ни семьи, ни общества, ни культуры, ни государства. Совершенно не разделяя веры в «прекрасного естественного человека», надо признать, что естественными для нас являются не только искушения, но и противоположные и при том, как правило, более сильные движения души. Человечество, по меньшей мере в лучших своих представителях, стремится неуклонно к усложнению, углублению и прояснению душевной жизни. Порочность современного мышления в том, что следование путем наименьшего сопротивления объявляется естественным поведением человека, тогда как, напротив, на всех своих путях он добивался успеха, только идя против течения и природных стремлений, от простоты к сложности, от соблазна к преодолению. Грубо говоря, образцом «естественности» объявляются Содом и Гоморра, а в бегущем из Содома Лоте видят врага общества или, по меньшей мере, опасного чудака. Состояние предельного ослабления защитных сил, я имею в виду – нравственных, провозглашается нормой. Но это не так!
***
Искусство, всякое искусство поставлено современностью в тупик. По своей природе оно духовно, т. е. основано на мысли, что человек есть то, чем он выглядит – то есть духовное самодвижущееся существо. Современность же ставит перед искусством задачу приятно волновать пустую оболочку, за внешностью которой скрывается Ничто. Эта задача искусствуне нужна, и оно постепенно уходит из мира. Во все времена искусство занималось прежде всего человеком и пропущенным через его душу мирозданием, так что устранение человека (а именно это на наших глазах и происходит) означает и устранение искусства. Уцелеть смогут, может быть, только те виды творчества, которые обращаются непосредственно к телу, не требуя для своего восприятия духовного опыта – ритмичная, но бессодержательная музыка, яркая, но бессодержательная живопись… У литературы сохранится лазейка – натурализм на границе с откровенной порнографией, но и те скоро вызовут пресыщение. Всё уйдет – до возвращения в мир человека, если и когда оно будет.
***
Принято думать, что философские системы придают уверенность их создателям и сторонникам. Напротив, уверенность как психологический фактпредшествует созданию философских систем. Человек, склонный во всех случаях к сомнению, систем не создает и их обаянию не поддается. Действительный смысл систематического мировоззрения в том, что оно дает разуму оправдание его бессознательной, не имеющей разумных причин уверенности, склонности верить в простые и ясные объяснения вещей. Скептик, в отличие от такого человека, не нуждается ни в каком дополнительном объяснении своей внутренней неуверенности и тревоги…
***
Экзистенциальную философию каждый создает из материала своих страхов и желаний. Страх и стремление, собственно, настолько широкие категории, что в них попадает почти вся человеческая жизнь. Мы либо страшимся, либо стремимся, либо – чаще всего – то и другое вместе. Я даже думаю, любаянастоящая, т. е. занятая первоначальными вопросами бытия, а не частными техническими задачами философия после Киркегора может называться экзистенциальной. Лев Шестов 13 был «экзистенциалистом» задолго до того, как узнал о Киркегоре. Философствовать так, как это делали в «эпоху Разума», в XVIII-XIX столетиях, более невозможно. Положение «местоблюстителя Божества» разум утратил, он больше не судья и законодатель ценностей, и вместо «энциклопедии философских знаний» мыслитель современности трудится над познанием самого себя, и познание мира мыслится им как возможное только на пути самопознания.
***
Философия должна начинаться с этого:как бы мы ни приближались к истине, мы всегда от нее бесконечно далеки. Эта мысль упраздняет саму возможность философских систем, всякой гордости ума и беспочвенных притязаний, вроде притязаний современного материализма. Могут спросить: так зачем же искать неуловимую истину? Ответ на этот вопрос один, и совершенно безумный с точки зрения всякого гордого ума, т. е. религиозный: затем, что истина любит нас, к нам небезразлична и хочет, чтобы ее искали, а с теми, кто к ней честно стремился, у нее совсем особые отношения, и судьба их в этом и последующих мирах будет иная, потому что истина в мире не без власти; потому что истина – Бог. Ну, а другого основания любить истину у нас нет. Ни из «естественного подбора», ни из «борьбы за существование», ни из «воли рода к продолжению» любовь к истине никак не следует. Чтобы выжить и оставить потомство, истина не нужна нисколько; и вообще любовь к истине как-то противоположна инстинкту самосохранения… Я говорю здесь, конечно, не о научных «истинах», которые ничем не грозят и ничего не обещают своим поклонникам; я имею в виду истину, искание которой «есть великая и опасная любовь» – огненные слова над входом в здание философии, сохраненные нам Платоном.
***
Не будучи рационалистом, я всё-таки стремлюсь к такой истине, которая может быть выражена словами. Отказаться отвыразимости истины значит отказаться и от осмысленности жизни, т. е. либо стать циником, либо его противоположностью – святым, в жизни которого всё добро, всё осмысленно. (Ведь тот, для кого смысла ни в чем нет, и тот, для кого смысл во всём, внешне весьма похожи – различаются только их дела.) Чтобы подняться над смыслом, над необходимостью смысла, нужно стать либо выше, либо ниже своего ума с его «неотвратимыми вопросами»: либо перестать спрашивать, либо найти решающий, последний и всеобъемлющий Ответ – такой, которым бы всё в мире освящалось, озарялось и наполнялось смыслом… Для тех же, кто далек от этого ответа, и предназначена философия, с ее положением вечно у врат познания, никогда не внутри. В области определенных и ясных ответов уже нет философии; ее мир – полусвет, сумерки, возможности, двусмысленные предположения и догадки. Сказать нечто с уверенностью, «как власть имеющий» – значит выйти за пределы философии, как находится за пределами философии Христос. На философию налагают свой отпечаток вечная грусть и недостигающее цели усилие. Философ странствует по ночным дорогам под лунным светом, и самое плодотворное время для него – до восхода солнца…

