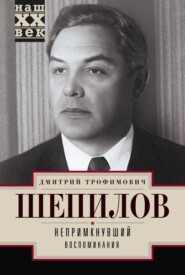
Полная версия:
Непримкнувший. Воспоминания
Берия с трудом скрывал свое ликование по поводу постигшего Сталина удара. Он пытливо и въедливо допрашивал дежуривших у постели профессоров о малейших зигзагах в течении болезни и лихорадочно ждал, когда же наступит желанная развязка. Но вместе с тем Берию не покидала сосущая внутренняя тревога: кто его знает, не выкарабкается ли Сталин из кризиса, не преодолеет ли болезнь?
И действительно, утром 4 марта под влиянием экстренных лечебных мер в ходе болезни Сталина как будто наступил просвет. Он стал ровнее дышать, он даже приоткрыл один глаз, и присутствовавшим показалось, что во взоре его мелькнули признаки сознания. Больше того, им почудилось, что Сталин будто хитровато подмигнул этим полуоткрывшимся глазом: ничего, мол, выберемся!
Берия как раз находился у постели. Увидев эти признаки возвращения сознания, он опустился на колени, взял руку Сталина и поцеловал ее. Однако признаки сознания вернулись к Сталину лишь на несколько мгновений, и Берия мог больше не тревожиться.
Хрущев, естественно, не рассказывал, какие мысли обуревали его в эти предсмертные дни и часы Сталина. Но эти мысли скоро, очень скоро стали проступать все отчетливее и материализоваться.
Все близкие к ЦК люди знали, что Хрущев – фаворит Сталина. За последний период патологические черты в психологическом состоянии диктатора все нарастали. Это обуславливало и изменения в его отношении к окружающим. Он уже опасался Берии и часто избегал встреч с ним. Он уже зачислял в разряд вражеских лазутчиков Молотова, Ворошилова, Микояна. В своей маниакальной одержимости он периодически менял работников МГБ и обслуживавших его лиц. Но именно в этот период дошедшей до апогея подозрительности Сталин потребовал перевода в Москву Хрущева и сделал его секретарем Центрального и Московского комитетов партии.
Но Хрущев не довольствовался положением одного из секретарей ЦК. После И. Сталина вторым секретарем ЦК был А. Жданов, а после его смерти Г. Маленков. Хрущев исходил из того, что главенствующее положение в ЦК дает возможность расставлять нужным образом кадры во всех сферах государственной, экономической и общественной жизни, руководить всеми республиканскими и местными партийными организациями, держать в своих руках все ключевые позиции управления. И Хрущев рвался на первую роль в этой сфере, лелея те же честолюбивые мечты, что и Берия, но избрав для достижения своих целей другие, обходные пути.
В предварительных переговорах Хрущев сразу заявил, что хотел бы целиком сосредоточиться на работе в Центральном Комитете партии и освободиться от обязанностей секретаря Московского комитета. С этим согласились все, не предвидя тогда, к каким роковым последствиям это может повести.
В. Молотов был по-прежнему замкнут, каменно холоден, словно все нарастающее кипение страстей не имеет к нему никакого отношения.
В этих условиях назначение покладистого, не особенно самостоятельного и лишенного претенциозности Г. Маленкова на пост Председателя Совета Министров СССР казалось на данной стадии приемлемым. Оно было пока приемлемым и для Берии и Хрущева, для каждого из них – со своих особых позиций, со своим дальним прицелом.
…Машина мчалась по улице Горького. В унисон этому бешеному бегу в мозгу бушевал вихрь мыслей, воспоминаний, вопросов, образов. Улица Горького сверкала разноцветными огнями фонарей, витрин, вывесок, как в новогоднюю ночь. Охотный Ряд. Красная площадь – величественная, притихшая.
Мы срезаем угол перед Лобным местом и подъезжаем к Спасским воротам. Шофер сильно притормаживает машину. С обеих сторон к боковым стеклам приникают офицеры охраны Кремля, в меховых бекешах и шапках. Они узнают, не требуют предъявления документа и дают знак на проезд.
Вот Спасская улица и Ивановская площадь. Всюду разлита какая-то особенная торжественная тишина и таинственность. Должностные лица с пропусками в руках, войдя в Спасские ворота, деловым шагом, не задерживаясь и не останавливаясь, проходят обычно налево через калитку в железной стене к зданию Верховного Совета СССР или через еще один пропускной пункт направо, к зданию Совета Министров СССР.
Громадная же Ивановская площадь всегда пуста. Только через размеренные интервалы гулко печатает брусчатку разводной караул, производящий смену многочисленных постов, да изредка прошуршит правительственная машина. И только в дни съездов партии, Пленумов ЦК и сессий Верховного Совета в Кремле появлялись вереницы людей, да и те проходили лишь в определенных местах и по определенным направлениям.
В этом каменном безмолвии в мозгу, как в калейдоскопе, проносятся картины буйной жизни старого Кремля. Вот здесь, налево от Спасских ворот, помещался Разбойный приказ, а здесь справа на месте нынешнего здания Президиума Верховного Совета СССР, а затем Кремлевского театра стояли Вознесенский и Чудов монастыри. Впереди на Соборной площади, как и в наши дни, царственно возвышались Успенский и Архангельский соборы, храм и златоглавая колокольня Ивана Великого с Царь-колоколом у его подножия. Вот там, перед спуском к Москве-реке, находился Посольский приказ, а там и Разрядный (воинский), Поместный и Стрелецкий приказы.
С раннего утра и до глубокой ночи клокотала Ивановская площадь.
Сотни людей в разномастных одеждах толпились у дверей приказов. С высоких помостов подьячие зычно, «во всю Ивановскую», оглашали народу указы и повеления. Толпы зевак, лузгающих семечки, поедающих сайки и требушину, толпились в разных местах площади, где у столбов или на «козлах» истязали ременными кнутами или батогами провинившихся. Тут же скоморохи и медвежатники, гудошники услаждали народ своим искусством. Из храмов доносились священные песнопения. В воздухе стоял несмолкаемый гул.
А теперь тишина, такая тишина!..
Мимо здания Совета Министров машина сворачивает направо. Когда-то у поворота, на углу Троицкой площади стоял двор боярина Бориса Годунова. Вот Арсенальная площадь с монументальным зданием Арсенала. Мимо кремлевской квартиры Сталина машина направляется в сторону Никольских ворот. Здесь, против Арсенала, на месте бывшего двора Трубецких, великий русский зодчий М.Ф. Казаков в 1788 г. воздвиг здание для Собрания московского дворянства; но оно отдано было под учреждения Сената.
С марта 1918 г. это здание стало резиденцией Советского правительства. Здесь был рабочий кабинет В.И. Ленина и его удивительно скромная четырехкомнатная квартира, в которой он, после переезда правительства в Москву, жил и трудился вместе с женой Н.К. Крупской и сестрой М.И. Ульяновой.
Старинное крыльцо с железным навесом. Это вход в служебное помещение Сталина, а поскольку все связанное с его именем считалось секретным и зашифровывалось, то это место называлось «уголок», а вызов сюда именовался «вызовом на уголок».
Небольшой темноватый вестибюль. Вешалка. Здесь полагалось раздеваться. Я только успел снять пальто, как послышалось шелковистое шуршание подъезжающих машин, хлопанье дверей и шум голосов. Оказывается, после звонка М. Суслова ко мне о немедленном приезде на «ближнюю» дачу решили: членам Президиума не оставаться с покойным, а вернуться в Москву, в кабинет Сталина, где обычно проходили заседания Политбюро, и там обсудить все неотложные вопросы.
В несколько приемов поднялись лифтом наверх. Небольшой проходной зал. Направо дверь в широкий коридор. Здесь массивная дверь вела в просторную приемную Сталина. Большой стол и тяжелые стулья. На столе обычно лежали важнейшие иностранные газеты – американские, английские, французские и т. д., – стопки бумаги и карандаши. Отсюда дверь вела в кабинет помощника Сталина А.Н. Поскребышева. Около его письменного стола во время заседаний Политбюро или приема у Сталина находились два-три полковника или генерала из охраны Сталина.
Но сегодня никто не задерживался в приемной или у А. Поскребышева. Все прибывшие члены Президиума ЦК сразу проследовали в кабинет Сталина. Сразу приглашен был и я.
Знакомый просторный кабинет. Справа от входной двери высокие окна, выходившие на Красную площадь. Белые шелковые гофрированные задергивающиеся шторы. В углу у одного из окон большой письменный стол. На нем чернильный прибор, книги, бумаги, пачка отточенных черных карандашей, которыми чаще всего Сталин пользовался для своей работы; модели каких-то самолетов.
Слева у стены длинный прямоугольный стол для заседаний, обтянутый сукном, вокруг стола и в простенках стулья. У письменного стола всегда открытая дверь, ведущая в комнату отдыха Сталина. Сквозь эту открытую дверь виден огромный глобус. На стене портреты Маркса, Ленина, Суворова, Кутузова. В голове стола для заседаний – кресло председательствующего. На паркетном полу – красивая ковровая дорожка.
Атмосфера этого первого заседания Президиума ЦК после смерти Сталина была слишком сложной, чтобы охарактеризовать ее какой-нибудь одной фразой. Но в последующие месяцы и годы я часто вспоминал это ночное заседание в часы и минуты, когда на «ближней» даче остывало тело усопшего диктатора.
Когда все вошли в кабинет, началось рассаживание за столом заседаний. Председательское кресло Сталина, которое он занимал почти 30 лет, осталось пустым, на него никто не сел. На первый от кресла Сталина стул сел Г. Маленков, рядом с ним – Н. Хрущев, поодаль – В. Молотов; на первый стул слева сел Л. Берия, рядом с ним – А. Микоян, дальше с обеих сторон разместились остальные.
Меня поразила на этом заседании так не соответствовавшая моменту развязность и крикливость двоих людей – Берии и Хрущева. Они были по-веселому возбуждены, то тот, то другой вставляли скабрезные фразы. Восковая бледность покрывала лицо В. Молотова, и только чуть сдвинутые надбровные дуги выдавали его необычайное душевное напряжение. Явно расстроен и подавлен был Г. Маленков. Менее горласт, чем обычно, Л. Каганович. Смешанное чувство скрытой тревоги, подавленности, озабоченности, раздумий царило в комнате.
Это не было стандартное заседание с организованными высказываниями и сформулированными решениями. Отрывочные вопросы, возгласы, реплики перемежались с рассказами о каких-то подробностях последних дней и часов умершего. Не было и официального председательствующего. Но в силу ли фактического положения, которое сложилось в последние дни, в силу ли того, что вопрос о новой роли Г. Маленкова был уже обговорен у изголовья умирающего, – все обращались к Маленкову. Он и резюмировал то, о чем приходили к решению.
Так или иначе, на первом этом заседании решен был ряд важных вопросов. Условились о патолого-анатомическом исследовании и бальзамировании тела Сталина. Кажется, М. Суслову и П. Поспелову поручено было немедленно подготовить обращение от ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза о смерти Сталина.
Создана была правительственная комиссия по организации похорон под председательством Н. Хрущева, с участием Л. Кагановича, Н. Шверника и др.
Единодушно и без особого обсуждения решено было соорудить саркофаг с набальзамированным телом Сталина и поместить его в Мавзолей на Красной площади, рядом с саркофагом В.И. Ленина. При этом кто-то (не помню кто) внес предложение о сооружении в Москве монументального здания-пантеона, как памятника вечной славы великих людей Советской страны. Имелось в виду, что в пантеон будут перенесены из Мавзолея саркофаги В.И. Ленина и И.В. Сталина, а также останки выдающихся деятелей, захороненных у Кремлевской стены. Помню, что Н. Хрущев предложил соорудить такой пантеон в новом Юго-Западном районе Москвы. Но условились сейчас не предрешать этого вопроса. Еще будет время подумать об этом.
Условились на следующий день созвать Пленум ЦК, на котором решить самые неотложные вопросы руководства партией и страной.
…Кремлевские площади были безлюдны и безмолвны. По опустевшим ночным улицам Москвы я возвращался в «Правду» выпускать траурный номер.
Дворники со скрежетом сдирали с тротуаров ледяную корочку. У продуктовых магазинов разгружались огромные крытые машины. Подгоняемые морозцем, торопливо двигались немногочисленные прохожие. Четко печатала асфальт двигавшаяся строевым шагом куда-то воинская часть. Медленно падал на город редкий и легкий снежок. Как будто все было как обычно, ничто не изменилось в древней столице. Тем не менее я ехал в своем ЗИСе с таким чувством, будто в гигантской машине государства что-то надломилось в главном механизме. Все колесики, шестерни, трансмиссии – все работает по-прежнему бесперебойно, и все же произошло что-то очень большое, серьезное, чреватое огромными последствиями для судеб страны – и не только нашей страны.
«Да нет же, – гнал я от себя тревожные и неясные мысли. – Какие последствия? Почему?»
Сухой снег неистово завихрялся перед режущими его фарами. Через полуоткрытую боковую створку окна врывался ветер и насвистывал что-то тоскливое, тревожное.
…Набальзамированный прах Сталина в гробу выставлен был для прощания в Колонном зале Дома союзов. Море знамен и цветов. Траурные мелодии оркестра и хора.
Почти тридцать лет назад в этом зале студентом-комсомольцем прощался я с бесконечно дорогим народу Лениным. Теперь – Сталин. Между этими двумя историческими вехами пролегла великая эпоха, в течение которой страна совершила гигантский скачок вперед. Она стала могучей индустриально-колхозной державой, знаменосцем новой эры. Мне довелось несколько раз за эти дни стоять в почетном карауле: с правдистами, членами ЦК и военными деятелями. Гроб был обит ярко-красным шелком; красное покрывало на ногах; красная подушка. А вокруг гроба огромные белые хризантемы, белые гиацинты, белая сирень, белые розы. На этом фоне целомудренных белых цветов красная обивка гроба, красное покрывало, красная подушка вызывали какие-то неоформленные, но страшные ассоциации.
Сталин одет был в мундир генералиссимуса, который он сам себе придумал, пока художники по заказу интендантов бились над эскизами, долженствующими, по их мнению, быть какими-то сверхъестественными и уникальными. Сталин взял обычный генеральский китель, пристроил к нему пару обычных позолоченных петлиц и, явившись в таком одеянии на какое-то заседание, положил тем самым конец дальнейшим интендантским изысканиям. Над левым карманом кителя – орденские ленточки.
Лицо Сталина неправдоподобно бледно, и в выражении появилась новая черта, которой у него никогда не было при жизни, – скорбность, словно в момент расставания с жизнью он испытывал большие муки. Это выражение сохранилось, конечно, и тогда, когда он лежал уже в саркофаге в Мавзолее.
Я смотрю на руки Сталина – бледные, с коричневыми пятнами. И мне эти руки кажутся непропорционально большими и очень сильными.
Непрерывная вереница людей двигалась через Колонный зал с раннего утра и все ночи. А на улицах и площадях больших и малых городов, в селах и рабочих поселках собирались люди, огромные массы людей. Они с тревогой и скорбью вслух или немыми взорами вопрошали:
– Что же теперь будет?
На траурных митингах люди не по подсказке, с полной искренностью изливали свои чувства горести. Авторитет Сталина в широчайших массах был очень высок. Всемирно-историческая победа в Отечественной войне, быстрое восстановление и дальнейший бурный подъем экономики, отмена карточной системы, ежегодное снижение цен и ощутимый рост народного благосостояния – все это воплощалось в Сталине.
Сокрушительный разгром фашизма, сдержанность и разумность сталинского подхода при решении ряда сложных международных проблем, его твердый курс на мир между народами снискали Сталину уважение не только среди трудового люда, интеллигенции, но и среди очень многочисленных государственных и общественных деятелей всего мира. Именем Сталина за рубежом называли площади, улицы и целые города.
В свете грандиозных побед как-то поблекли и отошли в далекое прошлое даже злодеяния 1937–1939 гг. Да они чаще всего в сознании очень многих людей и не связывались прямо со Сталиным. Напротив, считалось, что эти злодеяния учинялись какими-то злыми людьми без ведома Сталина, а как только Сталин узнавал о них, он беспощадно карал лиц, виновных в нарушении законности.
В «Правду» шел гигантский поток телеграмм, писем, статей о Сталине. Писали выдающиеся общественные деятели со всего мира, писатели и ученые, рабочие и колхозники, взрослые и дети – люди всех национальностей Страны Советов. У меня неумолчно звонили телефоны: все просили обязательно поместить посланную статью, заметку, телеграмму с выражением скорби. Что это – неискренность, притворство? НЕТ, перед мертвым Сталиным уже не нужно было лицемерить.
«Мы, – писал Александр Фадеев, – дети эпохи Сталина. Все лучшее в нас, в наших делах слагалось и слагается, проявлялось и проявляется под могучим влиянием учения Сталина, организаторского гения Сталина, личности Сталина…»
«Сталин – величайший из гуманистов, которых когда-либо знал мир…»
«Многие, многие века будет сиять священное имя Сталина, озаряя путь всему человечеству!..» (номер «Правды» за 12.03)
А вот письмо в «Правду» народной артистки СССР А.К. Тарасовой:
«Я вижу сейчас его лицо, его улыбку, его добрые глаза, чувствую теплое пожатие его руки… Как много давали каждому из нас его мудрые, окрыляющие указания и советы, помогающие творчеству!» (12.03)
Луи Арагон:
«Разве не ему мы обязаны тем, что мы стали такими, какие мы есть!.. Он был великим учителем, чей ум, знания и пример воспитали людей нашей партии – партии Мориса Тореза, тысячи сынов которой умирали за дело свободы, произнося в последнюю минуту имя Сталина и имя Франции!..» (12.03)
Великий вождь китайского народа Мао Цзэдун:
«С беспредельной скорбью китайский народ, китайское правительство и я лично узнали о кончине самого дорогого друга и великого учителя китайского народа товарища Сталина… Победа китайской народной революции совершенно неразрывно связана с постоянной заботой, руководством и поддержкой, которую оказывал товарищ Сталин на протяжении последних 30 с лишним лет… Немеркнущий светоч товарища Сталина будет всегда озарять путь, по которому идет китайский народ…»
Многие письма потрясали глубиной и искренностью своих чувств. Казалось, что скорбные слова пропитаны капельками крови сердца, судорожно сжимающегося от неизбывного горя. Среди многих тысяч людей так писала талантливая Ольга Берггольц. Я знал, какие нечеловеческие страдания приняла она в страшные годы разгула беззакония. Я знал, какова была чаша горя, испитая ею в пору блокады Ленинграда. И вот вынесшая все муки прошлого Ольга Берггольц писала:
Обливается сердце кровью…Наш родимый, наш дорогой!Обхватив твое изголовье,Плачет Родина над тобой. Плачет Родина, не стираяСлез, струящихся по лицу,Всею жизнью своей присягаяПолководцу,Вождю,Отцу. Наш родимый, ты с нами, с нами,В каждом сердце живешь, дыша,Светоносное наше знамя,Наша слава, наша душа!Пальмиро Тольятти:
«От нас ушел человек, к которому с огромной любовью, преданностью и благоговением были обращены сердца миллионов людей, сердца целых народов, – и тех, которые уже сбросили с себя ярмо рабства, и тех, которые еще ведут борьбу за свое освобождение. От нас ушел величайший гений – гигант мысли и действия!» (14.03)
Премьер Индии Джавахарлал Неру:
«Смерть вырвала из современного мира личность исключительных дарований и великих достижений. История России и всего мира всегда будет носить отпечатки его усилий и достижений!» (7.03)
Александр Твардовский:
В этот час величайшей печалиЯ тех слов не найду,Чтоб они до конца выражалиВсенародную нашу беду!.. (7.03)Бригадир тракторной бригады, Герой Социалистического Труда П. Ангелина:
«Сталин! Это имя, окруженное безупречным уважением и любовью народа, я глубоко пишу в своем сердце. Великий Сталин научил меня, простую крестьянку, дочь батрака, жить и работать для блага моей страны, для моего народа!..» (8.03)
Михаил Шолохов:
«Осиротели партия, советский народ, трудящиеся всего мира… Отец, прощай! Прощай, родной и до последнего вздоха любимый отец! Как многим мы тебе обязаны. Ты всегда будешь с нами и с теми, кто придет в жизнь после нас…» (8.03)
Маршал А.М. Василевский:
«Советские воины потеряли горячо любимого отца и гениального полководца, Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина, с именем которого неразрывно связаны вся история Советской Армии и Военно-Морского Флота СССР, все их славные победы над врагами нашей Родины…» (9.03)
Михаил Исаковский:
Все, что в народе счастьем называлось,Его руками было нам дано.И сколько б слез о нем ни проливалось,Его нельзя оплакать все равно!.. (9.03)Так изливались чувства скорби огромного числа людей.
Холодный мартовский ветер пронзительно выл в водосточных трубах, хлопал дверьми в подъездах, с неистовой злобой гнал по тротуарам прошлогодние почерневшие листья, обрывки газет, спичечные коробки.
В эти траурные дни я круглые сутки был занят редакционными делами, а в моей памяти то и дело одна за другой всплывали картины встреч со Сталиным: Красная площадь, Большой театр, Андреевский зал, Кремлевский дворец, рабочий кабинет Сталина, зал заседаний Политбюро, Свердловский зал… Но больше всего, и неотвязно, представлялась мне небольшая комната – библиотека на «ближней» даче, и в ней на полу у дивана распростершийся Сталин.
С этой комнатой у меня были связаны воспоминания о Сталине как об ученом.
Я так живо представлял себе весь этот эпизод в действии.
Был воскресный день. Мы с женой отправились отдохнуть в Театр оперетты. Все шло хорошо и весело. Начался последний акт. Вдруг кто-то торопливо зашептал мне на ухо:
– Товарищ Шепилов, просьба срочно выйти – вас вызывает Кремль.
Из кабинета директора я позвонил по переданному мне телефону.
– Товарищ Шепилов? Говорит Чернуха; товарищ Сталин просит вас позвонить ему.
– Товарищ Чернуха, я ведь в театре, да еще в таком легкомысленном. Тут нет кремлевского телефона; разрешите, я подъеду к Моссовету – тут недалеко, и оттуда позвоню.
Чернуха:
– Да не нужно этого. Я доложил товарищу Сталину, где вы находитесь, и спросил, тревожить ли вас. Он сказал – потревожить, и чтоб вы ему позвонили. Звоните, он ждет у простого телефона. Вот номер…
Я позвонил.
В трубке сразу же отозвался очень знакомый, тихий, глухой голос:
– Сталин.
Я назвал себя и поздоровался.
Сталин:
– Говорят, вы в театре? Что-нибудь интересное?
Я:
– Да, такая легкая музыкальная комедия.
Сталин:
– Потолковать бы нужно. Вы не могли бы сейчас ко мне приехать?
Я:
– Могу.
Сталин:
– А вам не жалко бросать театр?
Я:
– Нет, не жалко.
Сталин:
– Ну, тогда приезжайте на «ближнюю». Чернуха вам все организует.
Через несколько минут я уже был в Кремле у В. Чернухи. Он отдал все необходимые распоряжения. И вот я уже мчался по Можайке. Очевидно, предупреждение было сделано по всему маршруту, потому что у Поклонной горы при моем приближении молниеносно был поднят шлагбаум; зеленые ворота «ближней» дачи тоже распахнулись сразу. И вот я у входных дверей дачи. На ступенях меня встретил полковник государственной безопасности, проводил в прихожую и сразу же бесшумно исчез. И больше за два с половиной часа пребывания на даче я не видел из охраны ни единого человека.
Я снял пальто у вешалки и, когда обернулся, увидел выходящего из дверей рабочего кабинета Сталина. Он был в своем всегдашнем сером кителе и серых брюках, то есть в костюме, в котором он обычно ходил до войны – должно быть, лет двадцать. В некоторых местах китель был аккуратно заштопан. Вместо сапог на ногах у него были тапочки, а брюки внизу заправлены в носки.
Он поздоровался и сказал:
– Пойдемте, пожалуй, в эту комнату – здесь нам будет покойней.
Это и была та первая справа от входа комната, которую я условно называю библиотекой и в которой со Сталиным впоследствии произошла катастрофа.
По приглашению хозяина я сел в кресло у столика, на который положил записную книжку и карандаш. Но Сталин сразу неодобрительно покосился на эти журналистские средства производства. Я понял, что записывать не следует. Сталин вообще не любил, когда записывали его слова! Впоследствии он неоднократно на встречах с нами, учеными-экономистами, работавшими над учебником политической экономии, делал нам замечания:
– Ну что вы уткнулись в бумагу и пишете? Слушайте и размышляйте!
И нам приходилось тайком на коленях делать себе какие-нибудь иероглифические пометки с последующей расшифровкой их.
Но здесь беседа шла с глазу на глаз, и незаметное писание исключалось.
За все время беседы Сталин ни разу не присел. Он расхаживал по комнате своими обычными медленными шажками, чуть-чуть по-утиному переминаясь с ноги на ногу.
– Ну вот, – начал Сталин. – Вы когда-то ставили вопрос о том, чтобы продвинуть дело с учебником политической экономии. Вот теперь пришло время взяться за учебник по-настоящему. У нас это дело монополизировал Леонтьев и умертвил все. (Член-корреспондент Академии наук СССР М.А. Леонтьев подготовил несколько первоначальных набросков-проектов учебника, но они не были приняты Сталиным. – Д. Ш.) Ничего у него не получается. Надо тут все по-другому организовать. Вот мы думаем вас ввести в авторский коллектив. Как вы к этому относитесь?



