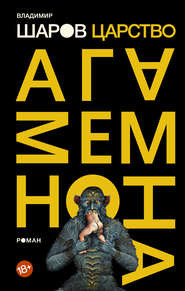
Полная версия:
Царство Агамемнона
«Сам он был свободен и от того, и от другого. Скажу больше, – говорил отец, – наши идеи казались ему своего рода помешательством, но было ясно: если у тебя есть способности, их можно неплохо использовать. У него способности были». Он легко принимал любые обличья, от великого князя Михаила и истинно-православного монаха до убежденного комсомольца и преданного секретного агента, который если и притворялся монархистом, то единственно для того, чтобы внедриться, всё досконально узнать и помочь органам разоблачить врагов советской власти.
Когда ему ставили на вид, что почти год не выходил на связь, Михаил не задумываясь объяснял, что если бы, как положено, каждую неделю ходил к оперу, его давно вычислили и ничего ценного он бы на хвосте не принес, а так – целый короб. «В нем, – говорил отец, – была правильная безмятежность и полное отсутствие страха, наоборот, доверие и благорасположение, и чекисты, поразмышляв, до поры до времени его прощали»”.
Рассказы об отце – странствующем монахе, о его отношениях с Лидией всю их историю, начиная с московской помолвки и дальше – эмиграция родителей, Крым и станция Пермь-Сортировочная, где она его – уже не человека, а кусок льда – нашла, подобрала и отогрела, – Электра была готова слушать и слушать. Их любовь, их совместные скитания и, наконец, как хотели еще родители, венчание в заброшенной придорожной часовне. Даже то, что ребенок Лидии так ужасно погиб, а Лидию в тридцать шестом году расстреляли, не смущало ее. Электра говорила, что всё равно было ясно: это та судьба, которая была предназначена и Лидии, и отцу, отношения же отца с матерью – простая случайность. Их свел Тротт и его мастерская. Они сошлись, потому что оба не знали, что делать, а дальше мучились сами и мучили друг друга.
В воркутинских рассказах отца Гале была интересна любая мелочь, любая подробность. Не только как отца и других Романовых рассаживали во время застолий и как священник Кобрин выреза́л ему из жести ордена и нашивал на обычный коверкотовый костюм мишуру, превращая его в обмундирование кавалергарда. Или как, приезжая в незнакомый город, они заказывали молебен не за упокой, а за здравие, и сразу же в приходе делалось известно, что царь жив, еще не всё потеряно.
Электре надо было знать, как шло следствие и как держалась Лидия и он сам, какие показания дал император Николай II, что вменялось в вину царевичу Алексею. Наконец, чем вся история закончилась для священника Кобрина? И что сделали с теми, кто давал им прибежище? Как он и Лидия находили своих? Кто давал адреса, где можно остановиться на ночлег, где накормят, а может, удастся разжиться и деньгами? И отец видел, что дочь была бы рада, если бы у него была только эта жизнь: без мамы, без Телегина. И сам, заново вспоминая, рассказывая, пробуя на язык, думал, что, может, она и права: вот его настоящая жизнь, а в то, что было у них с мамой, ни ей, ни ему мешаться не стоило. Но долго так думать не удавалось, ведь, сколько себя ни обманывай, он любил якутку, скучал по ней, особенно теперь, когда давно был один и ни Лидии, ни ее ребенка уже не было на свете.
Когда Жестовский в шестьдесят первом году начал писать свой второй роман, в центре которого как раз были отношения с Лидией Беспаловой, и главу за главой стал возить его из Зарайска, Электра поначалу приняла его с энтузиазмом. Каждая глава, которую он вынимал из портфеля, тут же поступала на конвейер. Галя ее в самом аккуратном виде переписывала и несла на первый этаж, где жила ее подруга-машинистка. И теперь уже та, отложив в сторону другую работу, перестукивала новую главу. То есть на первых порах всё и во всех отношениях было хорошо, но довольно скоро Электра увидела, что роман ей не нравится. И тут ничего нельзя было поделать.
Конечно, ей не так неприятно было его переписывать, как двадцать лет назад доносы, но радости работа тоже не доставляла. То, что отец рассказывал ей в Ухте, она и сейчас отлично помнила, могла восстановить до детали, но когда видела на бумаге, у нее было ощущение, что отец многие эпизоды или забыл, или они стали ему безразличны. Пропуск шел за пропуском, причем выкидывались куски, без которых сюжет неизбежно рвался. Зато появилась бездна необязательных любовных сцен. В Ухте отец по понятным причинам подобные сюжеты обходил стороной, в худшем случае, касался мимоходом. Здесь же всего этого сделалось с перебором и слишком “в лоб”.
Например, вторую главу он прямо начал с того, что из-за туберкулеза Лидия была ненасытна. Летом и ранней осенью еще как-то удавалось устраиваться, а так их могли застукать бог знает где. То в птичнике, среди возмущенных вторжением кудахчущих кур, то на сеновале. Однажды, не найдя лучшего места, он посадил ее на забор в глубине сада, за кустами малины. Плетень под Лидией ходил ходуном и в самый ответственный момент с треском рухнул. Лидия ударилась несильно, скорее испугалась, но главное другое: хозяева и их гости, решив, что стряслось что-то серьезное, гуртом высыпали на крыльцо.
Обычно Жестовский и Лидия вместе со всеми сидели за столом, ели, выпивали, а потом Лидия, которой, что называется, делалось невмоготу, передавала ему записку. Отказать отец не смел. Под благовидным предлогом они вставали и уходили. Дальше их могли застать где угодно. То они прятались за выступом дома – с улицы место отлично просматривалось. В другой раз забрались на крышу маленькой баньки, где Лидия стояла, держась за железную трубу, а он, в свою очередь, делая свое дело, держался уже за Лидию. Но в итоге тут вышло как с забором. Поначалу всё вроде было неплохо, но дальше принялся накрапывать дождик. Дранка стала скользкой, ноги у отца поехали, и он скатился вниз. Слава богу, падать было невысоко, и он отделался одними ушибами.
Еще отец жаловался в романе, повторял как рефрен, что Лидия очень громко кричала и он был вынужден затыкать ей рот то подушкой, то просто рукой. Вдобавок, ничего не соображая, она так мотала головой, что он вечно ходил с синяком под глазом. Отец писал, что про нрав Лидии их хозяевам было отлично известно, и что, когда они, извинившись, вместе вставали, за столом понимающе переглядывались, отчего ему – Лидии нет – делалось стыдно.
Зная ее страстность, их обычно селили порознь, да и вообще старались не оставлять в комнате одних. Где бы ни был накрыт стол, на ночь Жестовского, как правило, уводила одна хозяйка, а Лидию другая. Лидия была готова на любые хитрости, только бы остаться с ним под одной крышей, но пока их не обвенчали, везло ей нечасто.
“Впрочем, иногда везло, – рассказывала Электра. – Я переписала, а Клара перепечатала сцену, в которой под Уфалеем, в Стрешнево, у игуменьи Варвары Прохоровой отец с Лидией, полуголые, лежат вместе на хозяйской кровати. Заглянув в дверь, их видит кто-то из знакомых игуменьи. А дальше – отец это сам слышал – говорит хозяйке: «Гони их в шею, какие они на хрен князья! Ясное дело, жулье!» – Но игуменья за отца и Лидию вступилась, стала кричать, что в доме холодно, печь уже сутки не топлена и они лежат вместе только для того, чтобы согреть друг друга своими телами. А если он считает, что это оскорбляет святость ее кельи, тогда она просит его, чтобы больше он к ней ни ногой”.
Но стоило им перед священником поклясться друг другу в вечной верности, проблема сразу разрешилась. И дальше вплоть до ареста они жили тихо и спокойно.
Электра говорила, что Жестовский, конечно, понимал, что такие подробности про своего отца и его любовницу ей, Электре, что читать, что переписывать – неприятно. Впрочем, говорила Электра, выхода у него не было: мать на подобную работу тем более бы не согласилась.
“Но дело не только в том, – говорила Электра, – что отец себя выворачивал наизнанку; как на прилавке, выкладывал довольно неприглядные подробности их с Лидией жизни. Куда сильнее меня обидело другое. Я привыкла считать, – продолжала она, – ухтинские рассказы своей собственностью, платой, которую получала за бесконечные страницы отцовских доносов, которые каждую неделю переписывала. А тут выходило, что это будет принадлежать всем, не сегодня-завтра пойдет по рукам”.
Конечно, в Ухте отец рассказывал Электре не только про Лидию. Как-то он вдруг заговорил о Тротте. Сказал, что художник, в мастерской которого они жили, барон и эстет, много лет провел в Японии и ото всего тамошнего был в восторге. Как потомка одной из самых знатных ливонских фамилий, его восхищали японская сдержанность и самурайский кодекс чести. Он даже считал, что знает многие его тонкости и нюансы. Эстет в нем, как и сами японцы, готов был часами любоваться заснеженной вершиной Фудзиямы, цветущей вишней или замшелым камнем при дороге. Немцу нравилась регламентация всего и вся, от обычной жизни до театра кабуки или поведения гейши. Страна существовала по определенным, до запятой соблюдаемым правилам, что он опять же одобрял. Тротт был способен к языкам и быстро выучил японский, причем не только разговорный. Легко, даже с лихостью он рисовал самые сложные японские иероглифы, что, понятно, было большой редкостью, всех удивляло. В общем, он бы, наверное, прижился в Японии, но, к собственному удивлению, с каждым годом ему всё сильнее не хватало того, о чем ни в Москве, ни в Петербурге он почти не вспоминал.
Японская вера, переплетя культ императора с буддизмом, была, слов нет, красива, однако уж слишком холодна, и Тротт тосковал по тем странным отношениям между Богом и человеком, в которых не раз пытался разобраться. В Киото была православная миссия и церковь при ней, был хороший, добрый батюшка отец Николай, но на японской почве и литургия и причастие гляделись заморской диковинкой, Тротт это чувствовал, оттого печалился еще больше. Всё же довольно долго он колебался, ни на что не мог решиться. Определился лишь к январю шестого года. И через три месяца, закончив дела, с кем мог попрощавшись, сел на пароход, который через неделю должен был доставить его прямо во Владивостокский порт.
“Ясно, что расставание с Японией далось Тротту нелегко, – рассказывал Жестовский, – и с собой в Россию он взял только карликовое деревце Бонсай, когда-то купленное на рынке в Киото. Про остальное свое имущество решил, что по крови оно японское и везти его в Россию будет неправильно. Что-то раздарил друзьям и знакомым, другое роздал соседям, оставил себе только кисточки для туши, наборы красок и пигментов, доски, которые сам резал, и несколько сделанных работ, в числе их небольшую серию гравюр с пляшущими гейшами. Но и это из Японии не уехало, просто было сдано в камеру хранения на железнодорожном вокзале. Деревце уже на корабле он кому-то представил как своего единственного друга, и с тех пор иначе о нем не думал. Тем более что всю дорогу до Владивостока Бонсай цвел мелкими бледно-розовыми цветочками, будто хотел порадовать Тротта и утешить. Но во Владивостоке Бонсаю пришлось нелегко. На рейд они встали в отвратительный день, с залива, несмотря на апрель, дул ледяной ветер, даже в каюте бесконечно сквозило и, пока Тротт добрался до берега и потом, когда ехал на извозчике в гостиницу, деревце буквально околевало от холода. Немудрено, что на следующий день оно заболело: цветы осыпались, следом опала и листва.
Три месяца деревце простояло мертвым, Тротт не решался его выбросить, когда кто-то – дело было уже в Омске, – услышав, как он горюет о своем Бонсае, вдруг сказал, что если карликовое деревце на несколько дней по самую макушку опустить в холодную воду, есть шанс, что она пропитает поры и деревце оживет. Тротт послушался, купил в жестяной лавке большой бак, залил его до краев водой и вдруг уверился, что деревце и вправду возродится, если он не просто продержит его так три дня, а еще и окрестит.
Он понимал, что Богу здесь что-то может не понравиться, и решил предварительно с Ним переговорить. Сказал, что да, он знает, что у него нет священнического сана и, значит, крестить он тоже не имеет права, нет у него и святых даров, необходимых для таинства. Вдобавок карликовое деревце не человек, его, может быть, вообще нельзя крестить. «Но, – убеждал он Христа, – ведь та вера, с которой Ты пришел в мир, есть вера попрания смерти, вера спасения и воскресения. Я знаю, – говорил Тротт, – что Ты и раньше часто бывал мной недоволен, как мог пытался мне это объяснить. Но если Ты спасешь Бонсая, если он действительно воскреснет, возродится из мертвых, славя Тебя, снова покроется листиками и цветочками, я пойму, что не зря вернулся из Японии».
Ближе к вечеру он для убедительности повторил то же самое, но немного по-другому, сказал Ему: «Господи, если Ты можешь воскресить и спасти злого, греховного человека, если Тебе это по силам, неправильно отказываться от воскрешения маленького безобидного, как ни посмотри, невинного деревца».
Судя по всему, Бог Тротта послушался, потому что спустя месяц Бонсай снова покрылся мелкими бледно-розовыми цветочками. Причем цвел так пышно, как никогда раньше. Почему-то Тротт понимал, что цветение Бонсая прощальное, деревце скоро умрет: в сибирском климате ему не выжить, и тем не менее говорил мне, что радовался как дитя, знал, что теперь они с Богом простили друг друга. Тротт объяснял мне, – рассказывал Жестовский, – что он тогда думал, что разобрался, что может делать, а что нет, и считал, что, пока будет уважать эти свои границы, Господь его не оставит. Что касается деревца, то, когда оно окончательно засохло, Тротт собственноручно выточил из его ствола крест, прикопал его той же родной землей, которую в горшке вывез из Японии, и так, сделав из Бонсая памятник самому себе, поместил его в настоящий склеп. Под мавзолей сошла старинная газовая лампа, очень красивая, вся оправленная позеленевшей медью. Когда мы жили у него, – закончил Жестовский, – она стояла в самом светлом месте мастерской, на полочке между двумя окнами”.
“В другое воскресенье, – рассказывала Электра, – отец снова начал с того, что, уже будучи великим князем Михаилом, несколько раз попадал в очень неприятные ситуации: «Спасало то, что чекисты не очень знали, кого ищут, и мне удавалось отговориться. Документы-то у меня были на совсем другое имя, на Жестовского, я их восстановил»”.
Он любил вспоминать дома́, в которых ему с Лидией желали счастливого царствования, пили за него и ждали очереди, чтобы пожать руку; все-таки, наверное, то время и вправду было самым счастливым в его жизни.
“Я уже тебе говорил, – рассказывал он Гале в Ухте, – что у Лидии был туберкулез; что она может забеременеть, мне и в голову не приходило, потому мы думали, что если кому и надо предохраняться, то мне от ее болезни”. И тут же снова стал вспоминать, что, скитаясь, они встречали разных Романовых, иногда собирались чуть ли не всей семьей: и император Николай, и царевич Алексей, и его сёстры-княжны. Потом снова расходились, но кочевали по одним и тем же адресам, и скоро с кем-то из них судьба опять сводила.
“Лидию те, кто нас принимал, держали за великую княжну Лидию Владимировну. И хотя они смотрели на нашу связь без одобрения, но мешать не мешали, что нас вполне устраивало. Лидия, – рассказывал отец Электре, – была человеком ярким, взбалмошным и, может, из-за туберкулеза всегда немного на взводе, всегда возбуждена. Она знала, что жить ей осталось недолго, оттого и чувство жизни такое острое, какого я больше ни в ком не встречал. Возможно, в ней было что-то похожее на маму, только у мамы острота шла от здоровья и избытка сил, а в Лидии всё было непрочно, и от слабости ежесекундно менялось. Когда она забеременела, ни она сама, ни я не могли в это поверить, у нее и месячных настоящих не было, так – от случая к случаю день-два помажется. Но она вы́носила и, уже арестованная, в тюрьме родила. Потом ничего не писала, я даже письма́ не мог отправить, не зная, где ее лагерь.
Да и чем я мог ей помочь? Сам тогда сидел в тюрьме. А дальше, когда мы с ней друг друга нашли, она написала, что, хоть и молилась, наш ребенок родился немного убогий ножкой, а еще через восемь месяцев, что он умер в «маменькином бараке». Написала, как он умирал, как отвернулся от нее, больше не хотел брать грудь, – это письмо было страшно, и я уже тогда понимал, что больше Лидии не увижу.
Не зная, что делать, послал письмо Телегину, умолял о помощи, но оно попало к якутке, и она мне ответила, что никто моей Лидии помогать не станет и чтобы я их по таким вопросам не беспокоил. Я ее не виню, – говорил отец, – объясняю себе, что она меня ревновала, со мной ли, без меня – считала, что я навечно как бы ее собственность. И что неважно, есть ребенок или нет, эту мою связь на стороне она расценила как измену. В общем, до Телегина мое письмо не дошло. Но и дойди, не убежден, что он стал бы ввязываться. Якутка права: подставлять себя на ровном месте мало кто захочет.
Между тем, когда стало ясно, что Лидия беременна, все без обиняков стали нам объяснять, что мы живем в блуде, в грехе и только позорим свое царское происхождение. Я однажды сдуру брякнул, что рад бы жениться, да по церковным законам нельзя – ведь мы родня, но хозяева тут же раскопали, что раз она от ветви князя Владимира, то приходится мне троюродной племянницей, и тут никаких запретов нет.
В общем, в тридцать четвертом году нас очень торжественно обвенчали, было это в Топилино, собрались все Романовы, кто тогда был в живых, и император, и наследники, и великие княжны – в общем, чуть ли не три дюжины душ. Нам подарили роскошные подарки, даже был перстень с царской монограммой, а так и шубу, и деньги, и чайный сервиз, правда неполный, Императорского фарфорового завода.
А вообще-то, – говорил отец Электре, – я еще до ареста Лидии хотел выйти из игры, но медлил, было трудно, вокруг меня были только люди, которые знали меня как князя, как князя кормили, поили и деньги давали – по-другому я жить уже отвык.
Но вот, – продолжал отец в следующее воскресенье, – Лидии не стало, и настроение мое начало меняться. На зоне я то и дело вспоминал, как часто люди, которые нас окружали, проклинали товарища Сталина, мечтали, что скоро Америка с Англией нападут на СССР и уничтожат его. Мне такие разговоры никогда не нравились, а тут вдруг я, думая об этом, снова вернулся к своей давней работе о литургике. Стал понимать, что товарищ Сталин – деятель чисто религиозный, чего мы не хотим видеть.
Я не винил власть ни в смерти Лидии, ни в смерти девочки, понимал, что они жертва. Необходимая искупительная жертва, чтобы земля, которая сделалась царством антихриста, очистилась и снова обратилась к Богу. Думал, что вот он, Сталин, соорудил огромный алтарь и, очищая нас, приносит жертву за жертвой, что необходимы гекатомбы очистительных жертв, чтобы искупить наши грехи. И я не знаю, получится у Сталина или не получится, в любом случае, он делает всё, чтобы нас спасти. Невинные, которые гибнут, станут нашими заступниками и молитвенниками перед Господом, оттого и нам необходимо, пока мир не отстал от антихриста, помочь им спастись от греха, то есть ме́ста на земле им так и так нет. Главное же – они, приняв страдания здесь, будут избавлены от мук Страшного суда. С этими мыслями, – закончил отец, – я и отсидел почти весь срок”.
Электра и дальше, во время наших ночных чаепитий, много вспоминала об Ухте. Я что-то спрошу, она станет отвечать и шаг за шагом снова вырулит на трехлетнюю гастроль Жестовского – великого князя Михаила Романова – по городам и весям. Скажет, что и так понятно, что они не одевались, как великие князья. И снова: люди были убеждены, что они должны жить тайно, под чужими именами и, конечно, ни под каким предлогом не признаваться в своем происхождении – последнее чересчур опасно. Должны разыскивать друг друга, при необходимости скрываясь в пещерах или под монашеским одеянием.
Было ясно: то, что они до сих пор живы, само по себе чудо. И что надо продолжать таиться, тоже разумелось. Они и таились: обычно носили какие-то бесформенные рубахи из грубого, серого сукна, напоминающие монашеские рясы. “Немалое число из знавших нас, – говорил Жестовский, – считало, что мы и вправду приняли постриг: им казалось, что, пережив то, что мы пережили, это во всех смыслах естественно”.
Больше того, поскольку монах-мужчина вызывал много подозрений, отец не раз слышал, что великие князья чаще и чаще выдают себя за монашек, соответствующим образом и одеваются. Монашки, во всяком случае до середины тридцатых годов, никакого интереса у властей не возбуждали.
В другой раз Электра скажет, что слышала от отца, что многие из встреченных им Романовых были настоящими юродивыми и это тоже не вызывало удивления. Похоже, люди были убеждены, что когда раньше ты жил на такой недоступной для простого смертного высоте, как царский дворец, а потом в одночасье сверзился на дно, сделался нищим, гонимым беглецом, которого в любую минуту могут арестовать и тогда наверняка расстреляют, – подобный перепад ничто, кроме юродства, вместить не может. Рассказывал про бузулукского Николая II, которого он хорошо знал. Как царь бегает по базару, сам весь оборванный, а за спиной худой мешок, из которого валится на землю какая-то ерунда: скомканные бумажки, катушки для ниток, обрезки кожи, гвозди и аптекарские гирьки. И вот отец останавливает его и спрашивает, зачем он на себя напялил этот мешок, а Николай II отвечает, что мешок у него такой же рваный, как советская власть, и тут ничего не поделаешь.
“Отец, – говорила Электра, – любил детали: тут же добавил, что у всего был точный адрес. Рынок назывался базаром Советской стороны, напротив находилась лавка Центроспирта и место, где они разговаривали, почти что официально было закреплено за кликушей Чихачевой.
Отец тогда наслушался много разного о том, как спаслось их семейство. Чаще другого Романовы объясняли, что расстрельщики побоялись поднять руку на помазанников Божьих, сделали из соломы и старых платьев кукол, разрядили в них по обойме, потом развели во дворе большой костер, чучела сожгли, а пепел развеяли по ветру. Их же отпустили скитаться. Говорил, что, например, царевич Алексей время от времени скрывался под именем Настасьи Филипповны. Смеялся, что Настасья Филипповна была женщиной очень дородной и на лицо весьма приятной, правда, для этого Алексею приходилось бриться чуть не два раза в день.
Впрочем, беда тут была небольшой; наоборот, стоило ему представиться натуральным наследником престола, соответствующим образом одеться и себя вести, – доверия он не вызывал. Отец слышал, как за его спиной тут же начинали перешептываться, говорить, что из маленького, слабого Алеши не мог вырасти такой огромный лоб.
Но чаще других Романовых отец, – говорила Электра, – вспоминал того, первого, Михаила, о котором я вам, Глебушка, уже не единожды рассказывала. Несомненно, он произвел на отца сильное впечатление. Познакомились они еще в тридцатом году, когда отец был простым монахом и ходил по стране, собирая деньги и вещи для беловодских старцев. Дело было в Калязине. Как я говорила, Глеб, – продолжала Электра, – тот Михаил был человеком довольно полным, да и вообще балагур и весельчак. Душа всяческих застолий, пирушек. И что если была возможность, он возил за собой настоящий гарем из трех послушников. Все трое, рассказывал отец, – ты это сразу видел – были к нему очень привязаны, а хозяева домов, в которых останавливался будущий помазанник, потом, когда он уезжал, разговаривая между собой, с восхищением повторяли, что вот после долгой пьянки, когда уже никто и на ногах не стоит, Михаил всё как огурчик и пользует свою ребятню чуть не до рассвета. Но если денег содержать такую армию у князя не было, он за плату договаривался с деревенскими мальчишками. И дважды, когда не смог с ними вовремя расплатиться (оба раза дело было в одной и той же деревне), его по причине этих долгов крепко били.
Но в общем относились к нему хорошо, можно даже сказать, очень хорошо. Человек он был не злой, во всех смыслах в доску свой парень. Вдобавок щедрый. Михаил дружил со служками, у которых были ключи от запертых храмов. По знакомству или за водку его пускали в эти дома Божии, и он целыми мешками таскал оттуда всякое добро, однако предпочитал мануфактуру. Дальше за бесценок сбывал, чаще же просто раздаривал ее деревенским. Бывало, что Михаила след простыл, а в деревню кому-то и бог знает откуда приходит посылка. В ней хорошая, почти что и не ношенная ряса, воздуха́.
Рассказывал дальше, что в честь этого Михаила однажды был устроен, как он сам его назвал, «царский пир». Было много народу, много водки и хорошей еды, и почти всё время пили за него как за наследника престола и просто хорошего человека. Гости разошлись заполночь, хозяева тоже пошли спать. Остались отец и Михаил. И вот великий князь стал хвастаться, что он уже не один год пирует как общепризнанный у монашек князь Михаил, потом принялся рассказывать, что три года назад его арестовали и обвинили в том, что он «притуплял» массы к строительству новой деревни.
Но он и тут вывернулся, объяснил следователю, что еще ребенком его стоптали лошади, вдобавок ударило оглоблей в спину, после чего, как начнет меняться погода, голова у него прямо раскалывается, и на всякий случай добавил, что он тогда теряет память и может сказать что угодно, даже назвать себя великим князем Михаилом.



