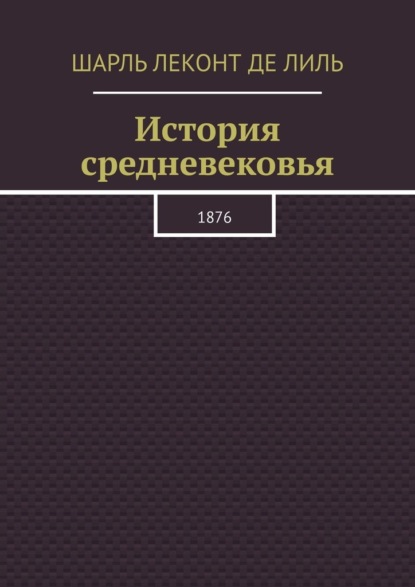
Полная версия:
История средневековья. 1876

История средневековья
1876
Шарль Леконт де Лиль
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Шарль Леконт де Лиль, 2025
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2025
ISBN 978-5-0065-7419-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Подлинность этой истории как произведения Леконта де Лиля
Леконт де Лиль. Французский писатель и поэт (1818—1894)
Псевдоним: Пьер Госсе.
Шарль Мари Рене Леконт де Лиль, известный как Леконт де Лисль, – французский поэт, родившийся 22 октября 1818 года в Сен-Поле на острове Реюньон1 и умерший 17 июля 1894 года в Вуазен (Лувесьенн).
Подлинность этой истории как произведения Леконта де Лиля признается Жоржем Викером и Лансоном в их соответствующих библиографиях, но оспаривается Фернаном Кальметтом. За исключением его отрицания, я не нахожу упоминаний об этом произведении в каких-либо исследованиях или статьях, посвященных Леконту де Лилю. Однако, если подлинность «Истории Средних веков» подтвердится, это будет, безусловно, самое объемное из прозаических произведений Леконта де Лиля, и поэтому важно прояснить этот вопрос настолько, насколько это возможно.
«История Средних веков», – говорит Кальметт, – «к которой он [Жан Маррас, друг поэта] должен был лишь в равной степени приложить руку, и за которую вся ответственность была так шумно возложена на Леконта де Лиля, является его [Марраса] произведением, за исключением примерно десяти страниц». Следует помнить, что Кальметт, посредственность, терпимая на «субботах» Леконта де Лиля лишь как закадычный друг Анатоля Франса, использует любую возможность, чтобы принизить творчество своего холодного хозяина. Морис Сурьо упоминает о «массивных ошибках» Кальметта; действительно, его авторитет всегда вызывает сомнения. Тем не менее, даже Кальметт не отрицает участия Леконта де Лиля в создании «Истории Средних веков»; он просто стремится минимизировать его вклад. С другой стороны, он признает, что после публикации работа обычно приписывалась Леконту де Лилю. Приписывание этого тома Леконту де Лилю как Викером, так и Лансоном уравновешивает отрицания Кальметта.
Другие внешние свидетельства также имеются и обладают кумулятивной силой. Рецензия, появившаяся в «Revue Historique» в 1876 году, не упускает возможности подчеркнуть, что «Пьер Госсе» – это псевдоним, и упоминает имя Леконта де Лиля с очевидным намерением. Г-н Альбер Байе, который, будучи в Высшей нормальной школе, написал мемуар о философии Леконта де Лиля, уверяет меня, что однажды он слышал, как сам Альфонс Лемерр открыто подтверждал подлинность «Истории Средних веков» как произведения Леконта де Лиля. Еще один интересный момент: Катюль Мендес, коварный историк Парнаса, приписывает тому же Маррасу другое прозаическое произведение Леконта де Лиля – «Народную историю христианства»; однако письма Леконта де Лиля к Маррасу решительно опровергают это обвинение. «Помимо Катехизиса», – пишет он своему изгнанному другу, – «я также опубликовал небольшую историю Революции, и у меня в печати находится Народная история христианства… Если это вас заинтересует, я вышлю вам все». Более того, кажется, что близость между Леконтом де Лилем и Маррасом начала ослабевать после 1871 года; безусловно, политические разногласия между ними к 1876 году стали настолько острыми, что Леконт де Лиль вряд ли пригласил бы своего друга сотрудничать с ним в написании какого-либо исторического труда. Кроме того, в письме к Эмилии де Лонжевиль, обсуждая школьные учебники, поэт мимоходом замечает: «У меня их много, в формате „Истории Средних веков“».
Между 1861 годом («Два меча») и 1876 годом Леконт де Лиль не опубликовал ни одного стихотворения на историческую тему; любопытно, что в 1876 году, сразу после выхода «Истории Средних веков», были опубликованы «Кодза и Борджиа» и «Иероним». Первое стихотворение было фрагментом «Штатов Дьявола», второе – частью «Эпопеи монаха». Подготовка этих двух сатирических эпопей, очевидно, требовала тщательного изучения средневековой светской и церковной истории. Возможно, не будет слишком смелым предположить, что Лемерр предложил Леконту де Лилю использовать эти наработки для материальной выгоды, написав один из учебников по истории, которые в то время издавались в расширяющейся библиотеке Passage Choiseul. Примечательно, что после публикации трех брошюр в 1871 году, перевода Эсхила и окончательного издания «Варварских поэм» в 1872 году, а также перевода Горация в 1873 году (в том же году была поставлена трагедия «Эринии»), Леконт де Лиль позволяет себе четыре года не публиковать новых работ, прежде чем выпустить перевод Софокла (1877). Его письма к Эредии показывают, чем он занимался в эти четыре года; в 1874 году он пишет:
«Я много работаю над греческой антологией, которая меня утомляет и отупляет… Первая часть „Монаха“ готова… Мне почти невозможно одновременно заниматься мелкими повседневными заботами и политическими и религиозными интересами тринадцатого века».
Если внешние доказательства весомы, то внутренние можно считать полностью убедительными. Во-первых, как отмечает Монод, автор использует несколько произвольную германскую орфографию, характерную для Леконта де Лиля и Огюстена Тьерри, у которого поэт ее позаимствовал. Во-вторых, целые страницы и бесчисленные параграфы «Истории христианства» без изменений включены в более позднюю работу. Тем не менее, стиль остается совершенно однородным; можно лишь заключить, что автор одной работы является автором другой. Прозаический стиль Леконта де Лиля, с его нагромождением насилия, ужасов, ярких деталей, живописных анекдотов, с его грубой лаконичностью и отчаянной иронией, трудно не узнать, и он присутствует здесь во всех своих качествах и недостатках. В-третьих, источники, цитируемые в «Истории Средних веков», усиливают аргументацию. Среди них – Скотт, Шатобриан, Монтескье (всех их Леконт де Лиль очень ценил), а также такие разные авторы, как Клавдиан, Рауль Глабер, Мериме, Луи Виардо (все они служили источниками для стихов Леконта де Лиля), Жуанвиль, Фруассар, Данте, Петрарка и множество других хронистов.
Наконец, мнения, выраженные в «Истории Средних веков», не только характерны, но во многих случаях уникальны для Леконта де Лиля. Под видом объективности скрывается четкая моральная цель, которая, если и снижает ценность работы как исторического труда, раскрывает многие социальные и политические идеи автора и даже многое из его личности. Если картина средневековья мрачна и отталкивающая, то сквозь этот мрак пробивается свет великих социальных и религиозных реформаторов, пламя народного восстания против невыносимых тираний или, реже, сияние одинокого художественного гения. Намерение работы яростно республиканское: здесь мы находим ненависть к двойной тирании – угнетающей монархии и грубого, жестокого монотеистического культа, ненависть, идентичную той, что переполняет «Трагические поэмы» и «Варварские поэмы». Эта враждебность сопровождается сожалением об утраченной цивилизации древней Греции, которая является главным вдохновением «Античных поэм».
«История Средних веков» фактически начинается с победы христианства… она заканчивается… интеллектуальным возрождением Запада… Константин был истинным разрушителем римского мира… провозгласив новый религиозный закон, он убил античную цивилизацию… За этим последовали двенадцать веков, полных масштабных движений народов, столкновений рас, кровавых религиозных конфликтов, казней, эпидемий, голода, но также великих и благородных интеллектуальных, политических и социальных усилий… Античный мир рушился, и христианство, с каждым днем набирая силу, ускоряло его гибель…
Как и в стихах, энергичная, свободная и великолепная жизнь примитивных рас противопоставляется порочной летаргии, лицемерию и варварству населения христианской средневековой Европы.
«Боги этой мифологии [германцев], рассматриваемые как регуляторы вселенной, а не как создатели, изначально были лишь олицетворениями природы. Постепенно лишенные своей первоначальной чистоты, они вторглись в моральный мир… Германцы не возводили храмов, и жрецы, если они существовали, не образовывали ни священнического сословия, ни привилегированного класса. Обряды культа совершались в священных рощах. Чтобы узнать божественную волю, они наблюдали за полетом птиц, гармоничным шумом воды, ржанием белых лошадей, посвященных богам, и таинственными комбинациями рун…»
Значение «Истории Средних веков» двояко. Это самое объемное прозаическое произведение Леконта де Лиля, и оно более подробно, чем любая другая его работа, раскрывает его взгляды на историю и политику; если его истинная историческая ценность невелика, то раскрытие собственных убеждений и чувств поэта представляет большой интерес. Но, прежде всего, этот том проливает свет на многочисленные и несколько забытые средневековые стихи Леконта де Лиля, которые составляют значительную часть его творчества. Многие вероятные источники этих стихов упоминаются в «Истории Средних веков». Из его прозаического изложения тех же событий можно также более точно проанализировать процессы, с помощью которых строятся исторические стихи, и степень, в которой факты изменяются для достижения поэтической цели. Весь вопрос об «объективности» исторических стихов Леконта де Лиля может быть пересмотрен в свете этой работы. Затронутых стихов много; помимо почти всех строго исторических стихов, сюда входят «Ипатия», «Ипатия и Кирилл», «Проклятые века», «Доводы Святого Отца» и другие. Поэтому можно надеяться, что «История Средних веков» будет прочитана ради нее самой, и особенно что будущие исследователи творчества Леконта де Лиля будут использовать ее для документации и сравнения. Ее слишком долго игнорировали.
Пятый век
Римский мир в конце IV века. – Гражданская и военная иерархия. – Муниципальный режим. – Куриалы. Налоги. – Состояние людей. – Армия. – Церковь. – Варварский мир. – Германцы. – Нравы. – Религия. – Славяне. – Гунны. – Готы. – Первое потрясение от варваров перед смертью Феодосия. – Аларих и вестготы (395—419). – Великое нашествие (406). Основание королевства бургундов (413), вестготов, свевов (419). – Завоевание Африки вандалами (431). – Нашествие Аттилы (451—453). Захват Рима Гензерихом (455). – Конец Западной Римской империи (476). – Франки переходят Рейн. – Хлодио (428). – Хлодвиг (481). – Основание англосаксонских королевств (455). – Греческая империя. Аркадий. Феодосий II. Пульхерия. Маркиан. Лев I. Зенон. Анастасий (395—518). – Теодорих и королевство остготов в Италии (493). – Папы V века. – Ереси Пелагия (405), Нестория (428).
История Средневековья начинается, по сути, с победы христианства и переноса императорского престола в Византию; она заканчивается в XV веке с интеллектуальным возрождением Запада.
Причины длительного упадка Римской империи хорошо известны. Демократический цезаризм привел к военному деспотизму; унижение сената и анархия легионов привели к общему краху. Единство политического тела, уже пошатнувшееся из-за разделения власти при Диоклетиане, сменилось окончательным расколом между Востоком и Западом. Константин стал истинным разрушителем римского мира. Оставив Рим и отозвав армии, защищавшие границы, ради укрепления абсолютной власти, он отдал империю на растерзание варварам; провозгласив новый религиозный закон, он уничтожил античную цивилизацию. Институты старой родины, как говорил Шатобриан, умирали вместе со старыми культами. За этим последовали двенадцать веков, наполненных масштабными движениями народов, столкновениями рас, кровавыми религиозными распрями, казнями, эпидемиями, голодом, но также великими и благородными интеллектуальными, политическими и социальными усилиями.
Принято считать, что этот исторический период начинается со смерти Феодосия в 395 году, когда империя была разделена между его двумя сыновьями, Аркадием и Гонорием. Однако, прежде чем приступить к синхронному изложению событий по векам, необходимо отметить, что новая форма администрации, новая система политики и управления уже глубоко изменили римский мир.
При Константине азиатский деспотизм сменил военный деспотизм и привел, что казалось невозможным, к усилению низости и раболепия. Необузданная страсть к роскоши и почетным титулам подавила последние инстинкты общественной честности; трусливое и глупое суеверие часто заменяло героическую смелость первых христиан. Сенат Константинополя даже не напоминал римский сенат, уже достаточно униженный со времен Тиберия. Консулы и преторы превратились в парадных чиновников, чьи полномочия едва распространялись на право регулировать проведение игр. Активные слуги Империи образовывали бесконечную иерархию, во главе которой стояли семь великих придворных чинов: комит священной палаты или великий камергер; магистр оффиций, своего рода государственный министр, управлявший всем императорским домом, арсеналами, почтой и полицией, состоящей из десяти тысяч агентов; квестор дворца, ответственный за составление указов; комит священных щедрот, министр финансов, которому подчинялась фискальная администрация; комит частного владения, глава домениальных агентов, называемых прокураторами и рационалами; комит домашней кавалерии и комит домашней пехоты, командовавшие тремя тысячами пятистами человек, набранных в основном из армян. Ниже этих высоких сановников находилась толпа придворных паразитов: пажи, привратники, шпионы, евнухи и возницы цирка.
Империя была разделена на четыре префектуры: Восток, Иллирия, Италия и Галлия. Четыре префекта претория, у которых были отняты военные полномочия, осуществляли гражданскую власть в префектурах, организация которых была намечена уже Диоклетианом и упорядочена Константином. Четыре префектуры включали тринадцать диоцезов и сто семнадцать провинций, причем Рим и Константинополь каждый образовывали отдельный диоцез. Префектура Востока подразделялась на диоцезы Востока, Египта, Понта, Фракии, на викариат Азии и проконсульство Азии; префектура Иллирии – на диоцезы Дакии и Македонии; префектура Италии – на диоцезы Западной Иллирии и Западной Африки; префектура Галлии – на диоцезы Испании, Галлии и Британии. Многочисленный административный персонал, распределенный в сложной иерархии, был введен между народом и императором, чья воля, передаваемая министрами префектам претория, переходила от них к президентам диоцезов, а затем через губернаторов провинций спускалась к городам. Все государственные должности давали тем, кто их занимал, титулы личного и непередаваемого дворянства. Министры и префекты назывались «Illustres»; проконсулы, викарии, комиты и дуки – «Spectabiles»; консуляры, корректоры и президенты – «Clarissimi». Были также «Perfectissimi» и «Egregii». Принцы императорского дома носили титул «Nobilissimi».
Военная иерархия начиналась с магистра кавалерии и магистра пехоты, должности, которые были удвоены после раздела Империи. Под их командованием находились военные комиты и дуки, которые единолично распоряжались войсками в своих округах. Армия в значительной степени состояла из варваров. Эти наемные отряды, размещенные вдоль границ, вскоре стали представлять опасность. Легионы, сокращенные с шести тысяч до полутора тысяч человек, размещались в городах внутри страны и больше не могли внушать своим командирам те честолюбивые заблуждения, которые породили столько узурпаций и преступлений. Более того, солдаты, заклейменные как каторжники, завидуя лишь привилегиям палатинов, личной охраны императора, униженные во всех отношениях, потеряли даже чувство родины.
Эта двойная иерархия, это множество подчиненных чиновников увеличивали пышность двора, истощая государство, вынужденное ежедневно требовать все больше налогов, в то время как всеобщая нищета была такова, что люди отказывались заводить семьи. Самым ненавистным налогом был подушный налог, capitatio. Для поземельного налога сумма, причитающаяся с каждой провинции, определялась на основе кадастра, пересматриваемого каждые пятнадцать лет (Indictio). Установленный, возможно, в 312 году Константином, этот пятнадцатилетний период известен как Цикл Индикций. Существовала также Capitatio plebeia, которой облагались ремесленники, поденщики, колоны и рабы, чьи налоги платили их хозяева. Aurum lustrale, Lustralis collatio или Chrysargyre взимались с торговли и промышленности с такой строгостью, что даже самые бедные не могли избежать их. Если к этим общим налогам добавить огромные сборы с аукционных продаж, наследств, освобождения рабов, обременительные обязанности по размещению солдат и магистратов в командировках, содержанию общественных дорог и т.д., то становится понятной полная хитростей и насилия война между налогоплательщиками и фискальными агентами. Владения императора, естественно, были освобождены от всех налогов, и Церковь получила ту же привилегию. Эта прерогатива распространялась и на большинство богатых классов, так что бюджетные расходы полностью ложились на городскую буржуазию. Корпорации, созданные со времен Александра Севера городскими ремесленниками, превратились в тюрьмы, из которых правительство запрещало им выходить, чтобы заставить граждан работать и остановить снижение производства. Мелкие землевладельцы в сельской местности, разоренные непрерывными войнами или обобранные крупными землевладельцами, были вынуждены становиться колонами богатых, оказывались прикованными к земле и теряли, если не звание, то хотя бы права свободного человека. Это моральное и материальное унижение породило отвращение к труду, и население сократилось до такой степени, что пришлось заселять опустевшие провинции колониями варваров.
Таким образом, прогресс имперского деспотизма вскоре уничтожил последние свободные институты, сохранившиеся в муниципальном режиме. По образцу Рима каждый город действительно имел своего рода сенат, называемый Курией; он состоял из землевладельцев, имевших не менее двадцати пяти арпанов земли. Они назывались куриалами. Именно из их числа выбирались декурионы, или специальные члены Курии. Во главе их стояли дуумвиры, чья власть была только годовой и чьи полномочия заключались в председательстве в совете, общем управлении делами города, поддержании порядка и т. д. Но когда, чтобы удовлетворить потребности ненасытной роскоши и купить всегда сомнительную верность армий, императоры были вынуждены умножать налоги, положение куриалов стало невыносимым. Именно они, как администраторы доходов и интересов муниципий, собирали государственные налоги под ответственность своих собственных имуществ. Однако земельный налог, становившийся все более тяжелым, привел к заброшенности большей части земель, и фиск решил переложить налог с невозделанных полей на плодородные. С тех пор куриалы, уверенные в своем разорении, пытались всеми способами избежать своих обязанностей, либо вступая в духовенство или армию, либо переселяясь к варварам. Со своей стороны, государство, не желая лишаться налогоплательщиков и гарантов своих доходов, принимало самые жесткие меры, чтобы удержать их. Дошло до того, что смертной казнью наказывали того, кто давал приют члену Курии, уклоняющемуся от своей должности. Евреи и еретики были допущены к этой должности, и в конце концов даже преступников приговаривали становиться куриалами; но все усилия властей привели лишь к тому, что небольшое число граждан оказалось прикованным к нищете и отчаянию.
В то время как индивидуальная свобода перестала существовать в среднем классе, положение рабов стремилось к улучшению. Благодаря влиянию христианства и стоической философии законы о рабстве изменились.
Раннее христианство проявляло большую заботу о рабах: «Господа, хорошо обращайтесь со своими рабами, – говорил святой Павел, – помня, что на небесах у вас есть Господь, который является вашим Господином и их, и который не делает различий между людьми». Начиная с Антонина, хозяева больше не имели права жизни и смерти над своими рабами.
Вскоре после этого рабам было разрешено частично распоряжаться своим имуществом. Наконец, будучи неразрывно привязанными к определенной земле, рабы не могли быть проданы далеко и не могли быть законно отделены от своих семей. Это новое состояние, известное как крепостное право, стало участью всех сельских жителей в Средние века и позже.
Античный мир рушился, и христианство, с каждым днем набирающее силу, ускоряло его падение. Хотя церковь была защищена императорским троном, она не интересовалась спасением Империи. Не имея родины, она не боялась иностранного вторжения. Варвары могли приходить, ведь бургунды были обращены в Евангелие, а арианский епископ Ульфила перевел Библию для готов в Дакии. Уже в конце IV века азиатские орды пришли в движение, а германские народы, подталкиваемые славянами и гуннами, теснились на границах: свевы, алеманны, баварцы на юге, между Майном и Боденским озером; маркоманы, квады, гермундуры, герулы и великий народ готов на берегах Дуная; на западе, вдоль Рейна, конфедерация франков, салиев, рипуариев, сикамбров, бруктеров, хаттов и других; на севере, между озером Флево и устьем Эмса, фризы, остатки батавов; далее на восток – вандалы, бургунды, ругии, лангобарды; между Эльбой и Эйдером – англы и саксы.
Гений этих варварских народов сильно отличался от римского мира. Воинственные, гордые, любящие приключения, германцы ненавидели дисциплину и рабство. Несмотря на свой воинственный характер, они ставили индивидуальную свободу выше всего. В возрасте пятнадцати лет дети получали на народном собрании право носить оружие; в двадцать пять лет они переставали подчиняться отцовской власти, женились и становились главами семей. Как только отец достигал возраста, когда силы ослабевали, он передавал семейную власть старшему сыну и часто убивал себя, чтобы попасть в Вальхаллу, куда был закрыт доступ тем, кто умирал в своей постели. В этих демократических обществах власть, как законодательная, так и исполнительная, принадлежала собранию землевладельцев общин, которое решало вопросы войны и всех мер общего интереса. Существование древней знати, лишенной политических привилегий, никак не меняло эту социальную организацию, и только после знакомства с римскими и библейскими идеями королевская власть приобрела больше внешнего блеска и внутренней силы. Когда речь шла об отражении вторжения, поднималась вся нация. Из-за недостатка железа большие копья и мечи были редкостью; доспехи – еще реже. Лишь некоторые вожди носили шлемы. Почти всегда голова оставалась непокрытой, а тело защищалось только сплетенными ветвями. Основным оружием была фрамея, состоящая из древка с узким, коротким, заостренным железным наконечником, одинаково пригодным для удара, рубки и метания. Умелые в управлении лошадьми без седел и стремян, всадники часто атаковали вместе с пехотой. В бой шли под резкие звуки рогов, грохот щитов, ритм боевой песни и громкие крики женщин и детей.
Германцы занимались земледелием в достаточно больших масштабах, и если римляне имели на этот счет противоположное мнение, то только потому, что судили исключительно с точки зрения утонченной и совершенной культуры Италии. Действительно, лугам и садам уделялось мало внимания, но обширные территории позволяли без труда содержать огромные стада. Пастбища, выгоны и леса чаще всего были коллективной собственностью одного или нескольких деревень. Что касается пахотных земель, по крайней мере в небольших деревнях, то каждый год между членами общины распределялись участки, которые каждый из них обязан был обрабатывать, в соответствии с их правами. В древней Германии не было городов; там встречались только деревни двух типов: те, что были окружены оградой, где дома стояли близко друг к другу, и деревни, состоящие из отдельных ферм.
Хотя женщины всегда находились под опекой мужчин, они были окружены заботой и уважением. Кроме того, семейные нравы были строгими, супружеская верность строго соблюдалась, и полигамия встречалась только среди вождей, желавших таким образом создавать мощные союзы. Одеваясь почти так же, как мужчины, женщины занимались домашними делами. Они предлагали гостям пиво, медовуху или вино в буйволовом роге, украшенном серебряными узорами. Эти пиршества сопровождались шумными весельями, где воинственный дух этих людей проявлялся в полной мере. Они любили пить до опьянения, играть в азартные игры, ставя на кон своих жен, детей и даже самих себя, и часто заканчивали праздник кровавыми потасовками.
Религиозные представления этих народов, возникшие под влиянием восточной космогонии, менялись в зависимости от времени и племен. Боги этой мифологии, считавшиеся регуляторами вселенной, а не творцами, изначально были лишь олицетворением сил природы. Постепенно утрачивая свою первоначальную чистоту, они проникли в моральный мир и стали объектом глубокого почитания. Эти боги, имевшие скандинавское происхождение, включали: Вотана или Водена (Одина на севере), отца времени, верховного распределителя победы, вестниками которой были валькирии; Тиона (Тира на севере), бога битв; Фро (Фрейра), бога мира; Донара (Тора), покровителя земледелия и семьи; древнего бога огня Локи или Фола, почитаемого особенно у фризов; Фрейю (Фриггу), супругу Вотана, верховную богиню, покровительствующую бракам; Фроуву (Фрейю), супругу Фро, богиню любви, чья колесница была запряжена кошками и которой принадлежала половина воинов, павших в боях, сразу после их прибытия в Вальхаллу – обитель героев. Напротив чудесного леса Глазур, где росли деревья с золотыми листьями, возвышался этот божественный дворец, странный рай, радости которого были предназначены для храбрых, погибших на поле боя, и для тех их товарищей, кто убивал себя, чтобы не пережить своих вождей. В большом зале славы валькирии подавали им вино, которое обычно пил только Один. Каждое утро, с пением петуха, герои вступали в ужасные битвы; к полудню все их раны заживали, и они садились за пиршество, возглавляемое Одином, непревзойденным волшебником среди асов.



