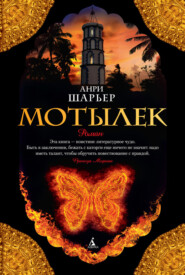
Полная версия:
Мотылек
– Лебрен подписал, – сказал Андре, – и вот я жив-здоров, ваш напарник и еду в Гвиану.
Я посмотрел на этого субъекта, сумевшего избежать гильотины, и подумал: «Он прошел через то, что мне и не снилось».
И все же я с ним не подружился. Сама мысль об убийстве несчастной пожилой женщины с целью ограбления переворачивала мне все нутро. Андре всегда везло. Позже он убил своего брата на острове Сен-Жозеф. Свидетелями убийства были несколько заключенных. Эмиль рыбачил и, стоя на скале, ни о чем, кроме своей удочки, не думал. Шум тяжелых волн заглушал остальные звуки. Андре подобрался сзади с толстым трехметровым бамбуковым шестом в руках и толчком в спину спихнул его в море. Место кишело акулами, что и говорить – Эмиль тут же попал им на завтрак. Когда вечером Эмиля не оказалось на вечерней перекличке, его занесли в список пропавших при попытке к бегству. Никто о нем больше не говорил и не вспоминал. Только четверо или пятеро каторжников, собиравших кокосовые орехи на верхнем плато острова, видели, что произошло. Потом, конечно, все узнали об этом, кроме багров. Андре Бейяр ни от кого не услышал об этом ни слова.
За «хорошее поведение» ему предоставили привилегированный статус в Сен-Лоран-дю-Марони. Он получил небольшую отдельную камеру. Однажды Андре что-то не поделил с другим каторжником. Он предательски заманил последнего в свою камеру и убил его, нанеся удар ножом прямо в сердце. Однако его оправдали на основании заявления, что он поступил так в целях самообороны. Позднее, когда каторжные поселения были отменены, он добился помилования, опять-таки по причине «хорошего поведения».
Тюрьма в Сен-Мартен-де-Ре была битком набита арестантами двух совершенно разных категорий: восемьсот или целая тысяча настоящих каторжников и девятьсот ссыльных. Быть каторжником означало совершить что-то серьезное или, по крайней мере, быть обвиненным в каком-то тяжком преступлении. Самое мягкое наказание за это – семь лет каторжных работ, затем срок возрастает и доходит до пожизненного заключения или, как еще говорят, вечного. Замена смертного приговора автоматически означает пожизненное заключение. Ссылка с содержанием под стражей – нечто другое. Если человек имеет три или семь судимостей, его могут выслать. Как правило, это неисправимые воры, и общество, естественно, должно от них защищаться. И все же следует считать постыдным для цивилизованной нации прибегать к такой мере, как ссылка. Все эти мелкие воришки, работающие топорно (уж больно часто попадаются), получившие высылку (а в мое время это было равнозначно пожизненному заключению), не украли за всю свою воровскую карьеру больше десяти тысяч франков каждый. Вот вам пример из набора величайших глупостей, который вам предлагает французская цивилизация: нация не имеет права ни мстить, ни выбрасывать из общества людей, оказавшихся помехой для наработанных поведенческих стереотипов. Их скорее надо перевоспитывать, чем наказывать таким нечеловеческим образом.
Уже семнадцать дней, как мы в Сен-Мартен-де-Ре. Уже известно название судна, которое повезет нас на каторгу, – «Мартиньер». На борт должны подняться тысяча восемьсот семьдесят узников. В то утро восемьсот или девятьсот зэков собрали во дворе крепости. Мы построены в колонны по десять человек и, заполнив все пространство двора, стоим уже час в ожидании. Открылись ворота, и вошли люди в форме, отличной от той, которую мы привыкли видеть на тюремных стражниках. На них были добротные небесно-голубые мундиры военного образца. Не жандармские и не солдатские. На каждом широкий ремень с кобурой и торчащей рукояткой револьвера. Всего человек восемьдесят. У некоторых – нашивки. Загорелые, в возрасте от тридцати пяти до пятидесяти. Те, что постарше, выглядели приветливее, те, что помоложе, ходили грудь колесом и важничали, держась высокомерно. С группой приезжих офицеров появились начальник тюрьмы Сен-Мартен-де-Ре в чине полковника жандармского корпуса, трое или четверо медработников в форме войск, расквартированных на заморских территориях, и два священника в белых сутанах. Жандармский полковник взял рупор и поднес к губам. Мы ожидали, что прозвучит команда «смирно!». Ничего подобного. Он произнес зычным голосом:
– Слушайте все внимательно. С этой минуты вы переходите в ведение Министерства юстиции в лице представителей администрации исправительных учреждений Французской Гвианы с административным центром в городе Кайенне. Майор Баррó, я передаю в ваше распоряжение восемьсот шестнадцать осужденных вместе с поименным списком. Будьте любезны провести проверку наличия состава.
Сразу началась перекличка. «Такой-то, такой-то». – «Здесь». – «Такой-то…» И так далее. Два часа продолжалась перекличка – все оказались на месте. Затем мы видели, как оба начальника обменялись подписями тут же на столике, специально принесенном для этого случая.
У майора Барро было столько же нашивок, сколько и у полковника, только у майора золотые, а у жандармского полковника – серебряные. Майор Барро в свою очередь взял рупор:
– Ссыльные, с этой минуты к вам будут обращаться только так: ссыльный такой-то или ссыльный номер такой-то – соответственно присвоенным номерам. Ссыльные, с сегодняшнего дня вы подпадаете под особую юрисдикцию и правовые нормы, действующие на территории исправительных поселений. Ваши дела будут рассматриваться в особых трибуналах, выносящих окончательное решение в зависимости от тяжести проступка. Все преступления, совершенные на территории поселения, проходят через эти трибуналы с вынесением приговора от тюремного заключения до смертной казни. Дисциплинарные меры воздействия, такие как тюрьма или одиночное заключение, осуществляются, само собой разумеется, в различных учреждениях, принадлежащих администрации. Офицеры, стоящие перед вами, называются надзирателями. При разговоре обращайтесь к ним «месье надзиратель». После приема пищи вам выдадут вещевые мешки, в которых лежит ваша одежда каторжан; кроме того, в вещмешках припасено все необходимое для вас – другого не понадобится. Завтра вы взойдете на борт «Мартиньера». Мы отправляемся вместе. Не падайте духом, покидая Францию: вам будет лучше в местах поселения, чем здесь в одиночке. Можете разговаривать, забавляться, петь и курить. Нет никаких оснований бояться грубого обращения с вами при условии безупречного поведения. Прошу вас оставить выяснение личных отношений до Гвианы. В море соблюдается строжайшая дисциплина. Надеюсь, вы меня поняли. Если среди вас есть такие, которые считают, что по состоянию здоровья не вынесут морского перехода, они могут обратиться в лазарет, где пройдут медицинское освидетельствование у нашего медицинского персонала, сопровождающего конвой. Желаю приятного путешествия.
Церемония закончилась.
– Ну, Дега, что скажешь?
– Папийон, я был прав, когда говорил, что главную опасность следует ожидать со стороны других осужденных, с которыми нам придется столкнуться. А этот пассаж из его речи – «оставить выяснение личных отношений до Гвианы» – говорит о многом. Боже, какие тайные и явные убийства, должно быть, там совершаются.
– Не беспокойся, рассчитывай на меня.
Я встретился с Франсисом Лапассом и спросил:
– Твой брат все еще санитар?
– Да, за ним не числится ничего серьезного. Он на высылке.
– Свяжись с ним побыстрее, попроси у него скальпель. Если надо денег, пусть скажет сколько – я заплачу.
Через два часа у меня уже был хороший стальной скальпель – грозное оружие. Великоват, правда, но это единственный недостаток.
Я направился в центр двора и сел поближе к туалетам. Послал отыскать Гальгани, чтобы возвратить ему гильзу. Но попробуйте отыскать его в кружащейся толпе среди восьми сотен человек, запрудивших двор. С тех пор как мы здесь, не удавалось встретиться ни с Жюло, ни с Гитту, ни с Сюзини.
Преимущество общинной жизни заключается в том, что ты принадлежишь новому обществу, если это только можно было назвать обществом. В нем ты живешь, разговариваешь и становишься частью его. Столько надо сказать, услышать и сделать, что на раздумья не остается ни капли времени. И мне казалось – по мере того как размывались очертания прошлого, постоянно теряя свою важность в сравнении с повседневной жизнью, – что по прибытии на место каторги нужно почти забыть, кем ты был, как и почему там оказался, а сосредоточить внимание на одном – на побеге. Я ошибался, потому что самым важным, всепоглощающим предметом, предметом превыше всего был предмет выживания.
Где они, эти фараоны, члены суда, присяжные заседатели, судьи, жена, отец, друзья? Они остались там же, живые и невредимые, каждый на своем месте в моем сердце; правда, по сравнению с тем огромным эмоциональным напряжением, которое я испытал при отплытии, перед прыжком в неизвестность, по сравнению с новыми дружескими связями и новыми гранями жизни они утратили для меня былое значение. Но это только казалось под воздействием впечатлений. Когда мне хотелось перелистать страницы жизни каждого из них, все они немедленно снова оживали передо мною.
А вот и Гальгани ведут ко мне. Несмотря на толстые, как галька, линзы очков, он едва ли что-нибудь видит. Выглядит лучше. Он подошел ко мне и потряс руку без слов.
– Я хочу вернуть гильзу. Теперь ты в порядке и можешь носить сам. Слишком большая для меня ответственность на предстоящий морской переход. А потом, кто знает, будем ли мы соприкасаться в колонии или даже видеть друг друга. Лучше тебе взять ее обратно.
Гальгани посмотрел на меня с грустью.
– Значит, так, идем в туалет, и я верну ее тебе.
– Нет. Не хочу брать. Держи ее сам – я отдаю ее. Она твоя.
– Почему?
– Не хочу быть убитым за гильзу. Лучше жить без денег, чем кончить с перерезанным горлом. Я отдаю ее тебе, ведь, в конце концов, какой смысл тебе рисковать из-за моих бабок? Уж если рисковать, так за свои.
– Ты напуган, Гальгани. Тебе уже угрожали? Кто-нибудь подозревает, что ты заряжен?
– Да. Трое арабов постоянно ходят за мной. Вот почему я не навещал тебя. Не хотел, чтобы они подозревали о нашей связи. Каждый раз, когда иду в туалет, днем или ночью, один из них идет следом и пристраивается рядом. Не так откровенно, но я дал ясно понять, что не заряжен. Все равно не отстают. Думают, что моя гильза у кого-то другого. Они не знают у кого, поэтому и преследуют, чтобы выведать, когда я получу ее обратно.
Я пристально глядел на Гальгани и видел, что он пребывает в паническом ужасе, действительно замордован преследованием. Я спросил:
– В какой части двора они держатся?
– Там, у кухни и прачечной, – ответил он.
– Ладно, подожди здесь. Я сейчас вернусь. Или нет. Я все обдумал, пойдешь со мной.
В сопровождении Гальгани я отправился к арабам. Вытащил из кепки скальпель и спрятал его в рукаве лезвием вверх, а ручку зажал в ладони. Пересекая двор, я их увидел. Четверых. Трое арабов и корсиканец по имени Жирандо. Оценил ситуацию на месте. Стало ясно, что корсиканец сидит на крючке у этих крутых мужиков и играет роль наводчика. Несомненно, он знает, что Гальгани является шурином Паскаля Матра и что было бы просто невероятным, если бы у него не оказалось гильзы.
– Эй, Мокран, как дела?
– В порядке, Папийон. У тебя тоже?
– Не совсем. Черт побери! Я пришел сказать вам, ребята, что Гальгани мой друг. Если с ним что случится, первым схлопочешь ты, Жирандо. А потом и все остальные. Как вы к этому отнесетесь – вам решать.
Мокран встал. Ростом с меня (метр семьдесят четыре) и в плечах не уступает. Мои слова его завели, и он уже двинулся было на меня выяснять отношения силой, как увидел перед собой блеск новенького скальпеля в моей руке.
– Еще шаг – и убью как собаку!
Его отбросило в сторону. В таком месте, где каждого постоянно обыскивают, а я вооружен! Он был потрясен моей решительностью и длиной лезвия.
– Я встал поговорить, а не драться, – сказал он.
Я знал, что это неправда, но мне было выгодно спасти его честь перед друзьями. Я помог ему выйти из положения.
– Тогда другое дело, если поговорить…
– Я не знал, что Гальгани твой друг. Я думал, что он просто шнырь. Ты же прекрасно знаешь, Папийон, что если у тебя нет ни шиша, то где-то надо раздобыть деньги для побега.
– Разумно. У тебя такое же право бороться за собственную жизнь, Мокран, как и у любого из нас. Только держись подальше от Гальгани, понял? Поищи в другом месте.
Он протянул руку, я ее пожал. Фу! Пронесло! По правде сказать, я бы никогда не выбрался отсюда, если бы пришил этого малого. Немного позже я сообразил, что совершил досадную ошибку. Уходя вместе с Гальгани, я бросил на прощание:
– Не говорите никому об этой шалости, а то старик Дега разнесет меня в пух и прах.
Я попытался убедить Гальгани в необходимости забрать гильзу. Он сказал, что сделает это завтра перед отъездом. На следующий день он так затаился, что мне пришлось отправляться в плавание с двумя гильзами «на борту».
В тот вечер никто из нас – в камере ютилось около одиннадцати человек – не проронил ни слова. У всех в голове крутилась одна и та же мысль: это последний день, который мы проводим на французской земле. У каждого в той или иной мере возникло чувство тоски по дому, по стране, которую мы покидаем навсегда. Впереди нас ждут неизвестная земля и незнакомый образ жизни.
Дега сидел молчаливо рядом с зарешеченной дверью в коридор, где воздух был чуточку посвежее. Я пребывал в полной растерянности. Поступавшая информация была настолько противоречивой, что никто не знал: то ли радоваться, то ли отчаиваться, то ли на все махнуть рукой.
Соседи по камере принадлежали исключительно к преступному миру. За исключением малыша-корсиканца, родившегося в колонии. Все эти люди пребывали в состоянии безразличия. Перед серьезностью и важностью момента они превратились почти в глухонемых. Сигаретный дым клубился и плыл из камеры в коридор, словно облако, а если ты не хотел, чтобы тебе выело глаза, то должен был сидеть ниже этого туманного едкого одеяла. Никто не спал, кроме Андре Бейяра, что для него было вполне естественным как для человека, уже раз почти потерявшего собственную жизнь. Что бы его ни ожидало впереди – это все равно нежданный подарок судьбы.
Перед глазами прошла вся моя жизнь, словно на киноленте: детство в любящей семье, привычный и милый сердцу порядок, мягкое и достойное человека отношение друг к другу, доброта, запах мимозы, расцветавшей каждую весну перед дверью дома, родительский дом, где собиралась семья, – все пронеслось перед глазами. Картина была озвученной. Слышался голос матери, нежный и любящий, голос отца – добрый и участливый, лай охотничьей собаки Клары, зовущей меня в сад поиграть. Мальчишки и девчонки, спутники детства, участники забав моих счастливейших дней. Я совсем не предполагал увидеть этот фильм, но по прихоти подсознания передо мной против моей воли зажегся волшебный фонарь и чудесные кадры заполнили ночь ожидания перед прыжком в великую неизвестность – кадры сладких воспоминаний и чувств.
Настало время разложить все по порядку и наметить схему действий. Итак, мне двадцать шесть, и я в хорошей форме. У меня пять тысяч шестьсот франков, моих собственных, и двадцать пять тысяч, принадлежавших Гальгани, Дега со мной – у него десять тысяч. Казалось, можно было располагать сорока тысячами франков. Сами посудите, если Гальгани не смог хранить свои бабки здесь, то уж на корабле или в Гвиане подавно не сумеет. Да он и сам это знает, поэтому и не спрашивает гильзу. Значит, можно рассчитывать на эти деньги – конечно, взяв Гальгани с собой. Он только выиграет – деньги-то его. Они же пойдут и ему на пользу, и мне хорошо. Сорок тысяч франков – большие деньги. С ними можно найти помощников среди каторжан, ссыльных, поселенцев, отбывших свой срок, и надзирателей.
Пришел к положительному выводу. Как только приедем в Гвиану, надо бежать вместе с Дега и Гальгани. Только на этом и надо сосредоточить внимание. Потрогал скальпель – холодная сталь вызвала приятное ощущение. Она придала мне уверенности. Грозное оружие не подведет. Оно себя уже показало в деле с арабами.
Около трех утра приговоренные к одиночному заключению сложили в кучу одиннадцать вещмешков у зарешеченного входа в камеру. Мешки были набиты битком, и на каждом висела большая бирка. Одну, оказавшуюся между прутьями решетки, удалось прочитать: «С…, Пьер, тридцать лет, рост метр семьдесят три, размер в поясе сорок один, обувь сорок два, номер…» Этим «Пьером С…» был Пьерро Придурок, парень из Бордо, получивший в Париже двадцать лет строгого режима за убийство.
Он, в общем-то, хороший малый, известный в преступном мире своей сдержанностью и прямотой. Я хорошо знал его. Бирка показала мне, насколько четко и организованно работают власти, ответственные за исправительные колонии. Не то что в армии, где обмундирование выдают на глазок. Здесь же – полная опись, и каждый получит вещи своего размера. Через чуть отогнутый верхний клапан вещмешка проглядывала униформа – белая с красными полосками. В такой одежде вряд ли проскочишь незамеченным.
Попробовал вызвать в памяти картинки суда: присяжные, судьи, прокурор. Ничего не получалось. Какие-то общие представления, смутные образы – вот и все. Я понял, что, если хочешь еще раз пережить все события так же ясно, как это было в Консьержери и Болье, ты должен быть совершенно один, наедине с собой. И, уловив это, я почувствовал облегчение и увидел, что предстоящая жизнь в коллективе предъявит другие требования, потребует других действий и других планов.
К решетке подошел Пьерро Придурок и сказал:
– Порядок, Папи?
– А как у тебя?
– Ну, что касается меня, то я всегда мечтал поехать в Америку, но я же играл по-крупному – так и не скопил на поездку. Фараонам взбрело в голову сделать мне подарок. Ты же не можешь это отрицать, Папийон.
Он говорил естественно, без всякого хвастовства. Чувствовалось, что он уверен в себе.
– Бесплатный проезд в Америку за счет фараонов – это, сам понимаешь, кому только рассказать. Лучше прокатиться в Гвиану, чем отстучать пятнадцать лет в одиночке во Франции.
– Сойти с ума в камере или отбросить концы в карцере во Франции даже хуже, чем сдохнуть от проказы или желтой лихорадки. Я так полагаю!
– Совершенно нечего добавить, Папийон.
– Посмотри, Пьерро, это твоя бирка.
Он наклонился и внимательно стал читать, потом медленно, членораздельно произнес каждое слово:
– Не терпится переодеться. Не вскрыть ли мешок – а кто чего скажет? В конце концов, они же для меня старались.
– Оставь мешок, – когда скажут, тогда и откроешь. Не время нарываться на неприятности, Пьер. Надо обдумать все тихо и спокойно.
Он понял, что я имел в виду, и отошел от решетки.
Луи Дега посмотрел на меня и сказал:
– Это наша последняя ночь, малыш. Завтра нас увезут из прекрасной Франции.
– Наша прекрасная страна, Дега, не имеет такой же прекрасной системы правосудия. Может, нам предстоит узнать страны не столь красивые, но такие, где обращаются несколько человечнее с людьми, которые поскользнулись.
Тогда я не думал, что был так недалек от истины. Будущее действительно показало, что я был сто раз прав. Снова наступила полная тишина.
Отъезд
Шесть часов утра – и все пришло в движение. Заключенным принесли кофе. Затем появились четверо надзирателей. Сегодня они в белой форме, при револьверах. Безукоризненно-белые кители и начищенные до золотого блеска пуговицы. У одного красовались три шеврона на левом рукаве, на плечах – ничего.
– Ссыльные, на выход в коридор! Строиться по двое. Разобрать вещмешки со своими бирками. Подойти к стене. Стоять спиной к стене, лицом к проходу. Вещмешки поставить перед собой.
Двадцать минут потребовалось на построение. Стоим шеренгой с вещмешками у ног.
– Раздеться! Скатать вещи, положить на блузы, перевязать рукавами – очень хорошо. Эй, ты там, взять узлы и перенести в камеру… Одеваться! Берите нижнюю рубашку, кальсоны, полосатые штаны, куртку, ботинки и носки. Оделись?..
– Да, месье надзиратель.
– Так. Шерстяной свитер вынимается из вещмешка только в случае холодной погоды или дождя. Мешки на левое плечо – взять! В две колонны становись! За мной – марш!
Небольшой отряд – с сержантом во главе, двумя стражниками по бокам и одним сзади – двинулся на выход. Через два часа во дворе тюрьмы стояли в строю восемьсот десять человек. От этой массы отделили сорок человек, в числе которых оказались мы с Дега и трое из бывших в бегах – Жюло, Гальгани и Сантини. Нас построили в колонны по десять человек, за каждой колонной – надзиратель. Ни цепей, ни наручников. На расстоянии трех метров спереди десять жандармов. У них винтовки, стволами направленные в нашу сторону. Жандармы идут пятясь и держа друг друга за портупею.
Большие ворота цитадели открылись, и мы медленно двинулись вперед. Как только первая шеренга вышла из крепости, появились еще жандармы для усиления охраны. У них винтовки и автоматы. Они держат шаг в двух метрах от первых конвоиров, другие жандармы оттесняют огромную толпу, собравшуюся проводить нас на каторгу. На полпути к пристани я услышал тихий свист, идущий из окна одного дома. Бросив взгляд в том направлении, я заметил в окне мою жену Ненетту и друга Антуана. В другом окне были жена Дега Пола и его приятель Антуан Жилетти́. Дега тоже их видел. Так мы и шли, задрав головы и уставившись на окна, пока это было возможно. Это был последний раз, когда мы виделись с женой и Антуаном. Мой друг погиб позже во время воздушного налета на Марсель. Никто не разговаривал. Полная тишина. Ни оставшиеся узники, ни надзиратели, ни жандармы – никто из толпы не решился нарушить безмолвие тягостного момента, душераздирающей минуты, когда каждый знал, что тысяча восемьсот человек вот-вот исчезнут навсегда из жизни.
Поднялись на борт. Первых сорок, то есть нас, водворили в нижний трюм – в клетку с толстыми железными прутьями. Клетка маркирована табличкой, на ней написано:«Помещение № 1. Сорок человек. Категория усиленного режима. Строжайшее круглосуточное наблюдение». Каждый из нас получил скатанную подвесную койку. На ней до черта колец для подвески. Кто-то схватил меня за руку – Жюло. Ему здесь все было знакомо, поскольку уже приходилось плавать десять лет назад. Он знал, как обустроиться.
– Сюда, быстро. Повесь мешок, где собираешься навесить койку. Вот местечко рядом с двумя задраенными иллюминаторами, но их откроют в море. Здесь дышать будет полегче, чем в другом месте.
Я представил ему Дега. Разговорились. В этот момент в нашу сторону направился один малый. Жюло рукой преградил ему дорогу:
– Не суйся сюда, если хочешь добраться живым до колонии. Усек?
– Да.
– Знаешь почему?
– Да.
– Вали отсюда.
Парень ушел. Дега просиял при виде такой демонстрации силы.
– С вами, ребята, я буду спать спокойно.
– Здесь ты в большей безопасности, чем на вилле, где открыто лишь одно окно, – ответил Жюло.
Морское плавание длилось восемнадцать суток. И только раз пришлось поволноваться. Среди ночи нас разбудил жуткий пронзительный крик. Убили одного чудака. Длинный нож торчал в спине между лопатками. Удар нанесли снизу вверх, нож прошил сначала койку, а потом человека. Страшное оружие. Лезвие ножа двадцать сантиметров. Немедленно двадцать пять или тридцать стражников направили на нас револьверы и винтовки. Раздалась команда:
– Всем раздеться! Живо!
Все разделись. Я понял, что будет обыск. Голой правой ногой наступил на скальпель, перенеся центр тяжести на левую, ибо скальпель впивался в подошву. В клетку вошли четыре стражника и стали наводить шмон, проверяя одежду и обувь. Перед тем как войти, они сняли с себя оружие. Дверь за ними закрыли, но другие, снаружи, смотрели в оба, держа нас на прицеле.
– Первый, кто шелохнется, – покойник! – раздался голос старшего надзирателя.
При обыске обнаружили три ножа, два длинных, остро заточенных стропильных гвоздя, штопор и золотую гильзу. Шестерых, голых, вывели на палубу. Появился начальник конвоя майор Барро в сопровождении двух врачей и капитана корабля. Когда багры вышли из клетки, мы оделись, не дожидаясь приказа. Скальпель я подобрал.
Стражники отошли к дальнему краю палубы. В центре стоял майор Барро, как бы среди дружеской компании офицеров. Перед ним навытяжку стояли шестеро в чем мать родила.
– Это его, – сказал проводивший обыск багор, держа нож и указывая на владельца.
– Точно. Мой.
– Так, – сказал Барро, – дальше поедет в камере над машинным отделением.
Каждый, на кого указывал надзиратель, подтверждал свою виновность за провоз то ли гвоздя, то ли штопора, то ли ножа. Их, голых, по одному уводили вверх по лестнице два стражника. На палубе остались лежать один нож и золотая гильза, против которых стоял один человек. Он был молод, лет двадцати трех или двадцати пяти, хорошего сложения. Рост под метр восемьдесят, атлет, голубоглазый.

