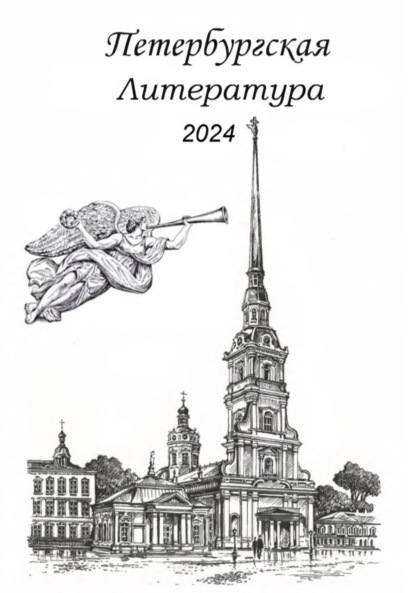
Полная версия:
Петербургская литература 2024
И, хотя смерть не придёт как бы шутя, говоря: «Не бойся, я сегодня просто пошутила… Ты никогда не умрёшь…», ведь смерть в игрушки не играет, человеку может быть не страшно и у него, вполне вероятно, будет возможность вместе с святым апостолом Павлом может воскликнуть: «Смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа?».
Но приходит ли в душу полный покой и удовлетворение от всех литературных трудов к автору? Навряд ли.
Можно предположить, что недовольство Гоголя своими книгами и чувство ответственности перед Высшим Судом побудило его сжечь второй том «Мёртвых душ» и другие рукописи. Даже путешествие в Иерусалим не принесло ему покоя, и он писал Василию Жуковскому: «Моё путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика чёрствость моего сердца. Друг, велика эта чёрствость! Я удостоился провести ночь у гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от Святых Тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря, – и при всём том я не стал лучшим, тогда как всё земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное».
Вероятно, и никакое место само по себе не может освятить человека, когда он сам не меняется внутри себя и не имеет в самом себе Царствия Божия. Ведь от перемещения тела в пространстве не меняется внутренняя сущность человека. Другое дело – Слово Божие, которое освещает людей истиной, хотя и оно падает и на каменистую почву, в терние.
Когда писатель начинает читать Библию каждый день, тогда он приходит к понимаю, что в ней содержится вся полнота знаний, которая необходима для благополучной и благочестивой жизни человека.
Другие книги становятся неинтересны, а, следо-вательно, он приходит к неизбежному выводу о ненужности людям своих книг. Они более всего были нужны лично ему для начального толчка по пути к Богу, для знакомства со словом Божьем.
Ища ответы на личные вопросы, он находит ответы у апостолов, святых и священников. Хочешь простить обиду и не помнить зла? Иди к чаще с Телом и Кровью Христовой с молитвой: «Господи, помоги мне прощать и не помнить зла». Хочешь побороть тщеславие? Вспомни слова Иоанна Лественичника и архимандрита Фотия (Спасского), учивших бороться со тщеславием. Молись Богу: «Избави мя, Господи, от духа тщеславного». Хочешь прибавления ума? Читай акафист Пресвятой Богородицы пред иконой «Прибавление ума», Сирах, Премудрости Соломона, Псалтирь…
Христианская литература учит самому главному в жизни – святости, а понимание святости, как необходимого условия вечной жизни, приводит к стремлению очистить душу от всякой скверны. Победа добра над злом совершается не только силой мускулов и ума, но и с Божьей силой. И немощное может победить сильнейшее со смиреной любовью, во тьме побеждает свет истины.
И все несчастья возможно преодолеть, когда главное – любовь к Богу и к ближнему. И когда путь ко Христу и к Царствию Небесному является не одним из многих интересов земного бытия, а целью жизни, тогда всё складывается ко благу человека.
При этом, чем больше автор погружается в христиан-скую литературу предшественников, тем более может охладеть к своему творчеству, считая его лишним, лишь повторением того, что уже давным-давно сказано. Дойдя до осознания ненужности своих литературных трудов, автор останавливается, оглядывается назад и видит, что его начальный интерес к вере во многом возник из чтения художественной литературы, в том числе и светских авторов.
Шаг за шагом, идя в Царствие Небесное и к Богу, автор, даже если и перестаёт создавать новые книги, своим личным примером ведёт читателей по дороге к Богу, к обожению личности.
Примеров, достойных подражания среди христиан-ских авторов много – святой преподобный Иоанн Лественичник, святой преподобный Иоанн Дамаскин, святой святитель Дмитрий Ростовский, архимандрит Фотий (Спасский), Фёдор Достоевский, Евгений Поселянин…
Читая «Лествицу», «Душеполезную повесть о ВАРЛААМЕ пустыннике и ИОАСАФЕ царевиче индийском», «Жития святых», «Братьев Карамазовых», «ЯКО АД СОКРУШИЛИСЯ» и православные книги современников читатель проходит путь монахов и мирян, находившихся в духовной борьбе.
Жизнь святого благоверного великого князя Александра Невского, святого преподобного Сергия Радонежского, подвиги монахов из Темницы становятся духовным маяком, святящем и в самой кромешной тьме.
Знания, полученные в православных книгах, помогают переносить всякую скорбь с терпением и надеждой, с упованием на Божью помощь.
Фёдор Достоевский призывал гордого человека к смирению, показывая в «Бесах» последствия безбожия. Не послушались гордецы совета, и, не захотев смириться по своей воли, в годы революции были лишены всех земных благ и им пришлось смиряться поневоле.
Вникая в мысли православных писателей, мы прекрасно понимаем, что сами авторы выдержали множество испытаний и искушений. У одних христианских писателей был путь аскетического монашества, у других борьба с собственными страстями.
Стоит представить боль Достоевского, когда он находился на эшафоте и на каторге, то понимаешь, что его осанна Богу выстрадана, и что унижения, через которые он прошёл, возможно перенести только с Божьей помощью, смирением, верой и надеждой.
Ведь одно ограничение свободы, когда общества ограждается от преступника, как от лютого зверя, унизительно. А осознание себя государственным преступником для дворянина и офицера еще более отягощает всякую скорбь. Бесчисленное количество унижений перетерпел Достоевский и будучи известным писателем из-за материальных трудностей, когда ему приходилось закладывать в холодное время тёплую юбку жены, которая кормила ребёнка.
Знакомясь с жизнеописанием архимандрита Фотия (Спасского), особенно годы детства и отрочества, чувствуешь к нему огромную жалость и сочувствие, удивляешься его терпению, способностью преодолевать отчаяние, скорбные обстоятельства жизни. Писатель Вячеслав Улыбин столь ярко, насыщено и интересно рассказал об этом архимандрите, что образ мужественного, умнейшего и смиренного монаха становится близким. За него хочется молиться, всегда помнить его необыкновенные подвиги и служение России, русскому народу и всему православному миру.
И современному писателю, желательно, всей своей жизнью стремиться к хранению в себе слов Христа и к выполнению Божьих заповедей. И, если давать благочестивые советы подобно разбрасыванию камней, а их исполнение несению камней на себе, то и мы, по мере наших скромных сил, постараемся сначала выполнить свои же советы ранее, чем дадим их другим.
В заключении, будет уместно сказать, что еще Евгений Поселянин писал о людях, которые сначала платили дань миру, а затем, когда зло им омерзело, обращались к подвигу веры. И весь мир кричал, что подвижник хуже обычных людей, и что же он святошествует…
Возражая громогласным обличителям, писатель просил оставить подвижника в покое, поскольку его молитва и духовная борьба невидимы для его мирских судей. Что может знать мирской человек о подвигах, которые совершаются в келье?
Стоит вспомнить и то, что Лев Толстой, дойдя до Оптиной пустыни, так и не исповедовался и не причастился перед смертью. Ушел к Богу без исповеди Лермонтов и Есенин.
Увы, не всегда талант и ум приводят к богопознанию. Известный писатель-деревенщик Фёдор Абрамов, находясь перед смертью в больнице, читал Евангелие от Иоанна и увидел в нём только торг между Богом и людьми, тщеславие – прославь Меня и получишь награду. Писатель, в детстве мечтавший быть похожим на праведного Артемия Веркольского, так и не смог пойти по пути святого.
Между тем Пушкин перед уходом в иной мир исповедовался и причастился со спокойной душой, а с жаждой мести, как утверждал Лермонтов. Кстати, и он мог бы прожить намного дальше, если смирил свою гордыню и попросил прощения у своего друга Мартынова.
Так не лучше ли превратить свой дом в монастырь, а рабочий кабинет в келью, в которой с раннего утра до глубокой ночи горит лампада?
В наше время келья писателя иногда кажется распахнутой настежь – каждое слово слышится, и всякое действие видят все желающие… Однако, скорее всего, любопытные зрители видят лишь видимое, а невидимое видят только те, кто уже достиг святости, и кто не будет заглядывать в чужой дом сквозь замочную скважину…
ПРОЗА
Анатолий Козлов
ЗИМНИЙ ЧАЙ
А теперь – пойдём складывать листья, – сказал дедушка после завтрака, погладив свою седую, коротко стриженую бороду.
Иногда, взобравшись к нему на колени, я носом утыкался в неё. Папины усы неприятно пахли табаком. А дедушка давно уже бросил курить вонючие папиросы, и его борода пахла домашним уютом. Мне нравилось это, только я хранил свою тайну от него. А то подумает, что я лишь из-за бороды к нему прихожу. Поймёт не так.
Было начало октября, почти все фрукты уже убраны: яблоки помыты, нарезаны и сварены в варенье, поставлены на вино и квас. Сливы сняты и пошли на компот, сливянку и любимое мною варенье. Собрана и сварена или засахарена малина, смородина. Снят и высушен шиповник. Вишня закатана в банки. И я уже совсем, было, считал, что осенняя страда в саду закончена.
В детстве особенно приятно вкушать все эти, подаренные летом, плоды. Только в детстве не очень понятно, как важно всё это вырастить и собрать. Но то, чему нас учат в детстве – запоминается надолго, чаще – навсегда. Детские навыки самые стойкие.
Какие листья, – переспросил я. – Те, что засыпали сад?
Те, что в саду, я соберу граблями, – улыбнулся дедушка. – А сейчас мы будем с тобой собирать зимний чай.
Чай? – тут моему удивлению не было предела.
Оказывается, кроме слив, яблок, малины, смородины, шиповника и вишни в дедушкином саду растёт чай?
– У тебя растёт чай? – спросил я тут же, не поверив его словам. Тем более, что никакого чая я во все дни лета и не заметил.
Впрочем, попытавшись себе представить, как выглядит чай, я кроме зелёных кустов, виденных на картинках или по телевизору – ничего в памяти не оживил.
– А ты не знаешь, – опять улыбнулся дедушка, – что любой сушёный лист можно заваривать, как чай, и пить, как чай – только у всех разный вкус.
– Любой? – засомневался я.
– Любой, – подтвердил дедушка, не теряя улыбки. – Но не любой можно пить, и уж тем более – не всем всё понравится.
– А мы какие листья станем собирать? – Сообразив, что к чему, спросил я.
– Мы будем собирать высушенные листья фруктовых деревьев и ягод.
– А где мы их возьмём?
– А я после сбора урожая срезал лишние ветки и оставлял их сушиться вместе с листьями. Или подрезал и выравнивал кусты и деревья летом, и тоже оставлял сушиться. – Рассказывал дедушка. – Вот теперь они подсохли, и мы сможем убрать всё это в бумажные пакеты.
– А это много? – удивился я.
Прилично, – признался дедушка, – придётся постараться.
– А где же взять столько бумажных пакетов? – Спросил я с надеждой, представляя себе обычный масштаб дедушкиных занятий.
Дедушка снова улыбнулся, на этот раз загадочно, поведя мохнатыми седыми бровями.
– А вот пакеты нам заранее склеила бабушка. Так что нам остаётся только набить их хорошенько листьями. Между прочим, – заметил он, – листья можно складывать в пакеты очень плотно. Даже если они сломаются, то в пакете это не страшно. Всё равно их потом заваривать. И тут от величины листа ничего не зависит.
– А как же чай? – Показал я свою осведомлённость, – его же предпочитают крупнолистовой! – Не без гордости, что могу выговорить, произнёс я.
– Ну, чай неизвестно кто собирает, и что он там упаковывает, – объяснил дедушка. А вот наши листья мы собираем и пакуем сами. Нам бояться нечего. Тут лист, что ломаный, что целый – заваривается одинаково. Ведь мы завариваем его в большом термосе и потом несколько часов даём настояться.
Мне очень захотелось увидеть и потрогать, а ещё больше попробовать дедушкин чай. Раньше я даже и не предполагал, что чай можно вырастить вот так в саду. Да ещё у нас. Чай всегда представлялся чем-то далёким, совсем нездешним и недоступным. И купить его можно было только в магазине, в упаковках с картинками. А вот теперь мы приехали к дедушке осенью и задержались на несколько дней. И это оказалось целым открытием!
Мы пришли с дедушкой в сарай, вернее, в его мастерскую, которую я открыл для себя ещё летом именно в таком качестве. Здесь всё было, как обычно, только верстаки и столы завалены ветками с сухими, но всё ещё зелёными листьями.
– Вот видишь, – показал мне дедушка, – вся мастерская забита. Так что работать тут почти невозможно. И нам нужно с тобой собрать листья и упаковать. Помнишь, какой вкусный чай зимой, который заваривает бабушка?
Я охотно мотнул головой. Ещё бы не помнить, ведь он такой, что можно даже не класть в него сахару! Он не только не горчит, как обычный чай, но даже, вроде, сладкий и с кислинкой и ещё чем-то, что приятно щекочет нёбо. Только я не знал, что его нужно собирать самим.
– Ну вот, а теперь нам предстоит освободить мастерскую, – сказал дедушка.
Он достал бумажные пакеты и, раскрыв один из них, поставил передо мной. Я не прочь был помочь в таком нужном деле, но, окинув взглядом объём предстоящих работ, на всякий случай спросил:
– А нельзя ли было всё это сложить на дворе? Тогда бы и в мастерской было просторнее?
Дедушка только весело повёл бровью.
– Видишь ли, – пояснил он. – На дворе это всё могло вымокнуть под дождём. Но даже если сложить в беседке, то под действием солнца листики станут жёлтыми и даже потемнеют до коричневого оттенка. А тут они, видишь – сухие и зелёные. Они сохранили все свои свойства. И теперь при заваривании – они все свои полезные вещества отдадут нам. Вот вишня, – показал он. – Просто проводи по веткам рукой и снимай листья, а ветки складывай вот сюда. – И он ловко очистил несколько веток от листьев пропустив их, через сжатую в кулак ладонь. Затем дедушка опустил пучки листьев в бумажный пакет.
Мне это показалось лёгким занятием, и я тоже попытался очистить ветки от листьев одним движением сжатой руки. Но с первого раза это не получилось. Оказалось, что ветку надо сжимать гораздо плотнее. И после того, как мне удалось снять листья таким образом, я почувствовал, что ветка трётся по коже. А потому, после нескольких снятий, указательный палец стал побаливать.
Заметив это, дедушка посоветовал:
– Сжимай плотно, но не усердствуй. Береги кожу.
Постепенно я приловчился, и, увлёкшись процессом, не заметил, как вишнёвые ветки кончились. Я так же смело схватил следующие растения, совсем не похожие на те, что мы только что очистили от листьев, и, уколовшись, вскрикнул и выронил ветку.
Осторожнее! Только успел предупредить дедушка. – Что же ты, – сказал он с досадой. – Это же шиповник. Он с шипами, к тому же высохшими. Это же вид терний, терновник. Колючий и неприятный, если в него залезть. Но листья шиповника, и особенно плоды – очень полезны, зимой и весной особенно, когда нам не хватает витаминов.
Внимательно осмотрев ветку, я заметил на ней множество мелких и крупных колючек. Мне даже стало обидно, что меня не предупредили.
Как их собирать…? – чуть не плача, пробурчал я.
А тут не надо снимать каждый листик, – пояснил дедушка. Тут нужно отрывать целые веточки-отростки с листиками.
Но как!? – Почти вскричал я. – Здесь же сухие шипы и они колючие!
Тут дедушка вместо ответа схватив голыми пальцами сухую ветвь шиповника, ловко, но не торопясь, отломил веточки с листьями и уложил их в пакет.
Видишь, – пояснил он. – Они легко отламываются сами, потому что сухие. Только не нужно сильно сжимать ветку, чтобы шипы не воткнулись в кожу. И выбирай место между шипами. Тогда они не уколют.
Да ведь тут кругом шипы, – возмутился я, – пытаясь устроить истерику.
А ты попробуй, – мягко настаивал дедушка. – Только не думай о шипах. Осторожно – чуть уколешься – просто переставь пальцы. И думай о том, что всё это надо перебрать. Тогда будет проще.
Я осторожно взял небольшую ветку и, стараясь не очень сжимать ее пальцами, ухватив за листья, сорвал высохший отросток с листьями. Несколько раз я укололся, вздрогнув и поморщившись, но, наконец, взяв ветку между шипами, так, что пальцы оставались неуязвимы, мне удалось снять листья и уложить в пакет.
Вторую ветку я уже брал увереннее, и размышлял, как мы все вместе будем пить зимой собранный мной чай.
А дальше всё пошло ещё быстрее. И, хотя я колол пальцы, но это только, чтобы увереннее и ловчее поднять очередную ветку. Я перестал бояться шипов и работал, почти не чувствуя уколов и боли. То есть они не очень меня беспокоили – меньше, чем укус комара. Мне даже было приятно, что я могу справляться с таким неподатливым растением. Раньше я и подумать не смел – влезть в его заросли руками. Но это если бы только для себя, а так – для всех.
То, что сумеешь преодолеть в детстве – остаётся твоей победой на всю жизнь.
Позже, когда я подрос, то узнал, что выражение, дошедшее до нас из древности «Через тернии – к звёздам» – означает идти к заветной цели, преодолевая препятствия во что бы то ни стало! И тот зимний чай из детства помог мне понять, что маленькая трудность в виде шипов на ветке, которую мне пришлось тогда с дедушкиной помощью преодолеть – была для меня тренировкой.
Я всегда буду вспоминать о том, как дедушка меня учил не сдаваться. Я понял, что иногда надо потерпеть немного… и еще надо уметь в каждой ситуации найти то, что сделает твою задачу выполнимой.
А ещё позже я узнал, что Иисусу Христу перед казнью надели на голову терновый венок с шипами, как иглы.
«Мне подумалось, – а Христос чувствовал боль от этих шипов? Да, конечно, чувствовал, – рассуждал я. – Ведь там и шипы были огромными, и венок надет на голову, и руки пригвождены. Это я мог выбирать, как взяться удобнее. А у Него и выбора не было. Только Он, наверное, не думал о себе. А думал о других. Обо всех нас. Вот и не «чувствовал» шипов.
Впрочем, конечно, чувствовал. Просто не думал о себе».
Людмила Московская
ПОЛОСАТЫЙ БАНТИК
Посвящается Изольде Анатольевне Ивановой
О поле, поле, кто тебя
Усеял мёртвыми костями.
А.С. Пушкин
– Долго еще ехать? – спросила Рая.
– Минут пятнадцать.
– Давай отдохнём, лесом подышим. Нас так рано не ждут. К четырём хозяин будет. – Паша нажал на тормоз. Машина встала.
Рая, тяжело ворочая грузное тело, вывалилась из дверцы. Ей надоело, бессмысленно, как поплавок на воде, колыхаться по ухабам. Ноги затекли и ныли.
– Да и места́ уж!
Вокруг тянулись болотистые низины. Несмотря на весенний день, на нежную зелень берез, на огромное, непривычно расстилающееся над головой, охватывающее всё пространство, небо, над землёй висела необъяснимая тоска. Сырой, волнующий запахами, воздух поднимался от земли. Тишина, пронизанная птичьим звоном. Какое-то безволие обволакивало всё.
– Ну и что ты тут нашёл? Изверг ты мой. Ну, куда ты меня приволок? Это, что дача? Это дыра. Я что, кикимора болотная? Ты погляди на этот пейзаж!
Сухопарый рыжеватый супруг сокрушённо оглядывал окрестности.
– Раюшка, ён же красивый! Листики колышутся. – Паша сильно потянул воздух и прикрыл в наслаждении глаза. – Воздух какой! Шёлк. Вона ёлочка прорезалась. Гляди-ко птица слетела! – Он вытянул шею и поднял палец.
– Гхде птица?
– Да вот её. Гаечка! Крохотуля – гляди.
Рая строго завертела головой, ничего не видя.
– Туда, на рябину, рядом!
– И это твоя птица? – рявкнула Рая. Синица бесшумно соскользнула с ветки и юркнула в листву. – Ну и птица! И не показывал бы лучше. Тут и птица не родится. А ты жену припёр.
Рая поковыляла вокруг машины. Ямки от каблуков быстро наливались водой.
– Гляди, водища какая! Сейчас нас тут всех, вместе с машиной в болото утянет.
– Не утянет. То ж весна, ручьи бегут. А лето придёт – солнышко просушит, – беззаботно улыбался Паша и дипломатично добавил: – Раюшка, может, подкрепиться пора чуток?
Рая просияла от предвкушения удовольствия, но взяла себя в руки и заворчала для солидности:
– Тебе бы только есть, только есть. Тероглот. Ладно уж, давай подкрепимся. Нет ничего ужаснее голодного мужчины. Он превращается в вепря. – Воодушивив себя этой сентенцией, она отправилась ревизовать содержимое багажника.
– Я вокруг поляну порыскаю, – крикнул муж, исчезая в кустах ивняка.
– Какая тут поляна? Не ходи в эту водищу! Утонешь, кто меня домой отвезёт? – Но его уже не было. Рая откинула крышку. – Так, что тут у нас? Ладно, стол взял. Стулья…– опять один. Остолоп. Ну и ладно, пусть сидит в луже, разине и надо так. Вода есть. Ага, это моё хозяйство, тут порядок: колбаса, салат, ложки. – Она приподняла сумку: – Ух, сумища какая тяжёлая, – опустила, – пусть Паша волокёт. – Закрыла багажник и загляделась на простор.
Земля. Бескрайняя земля лежала вокруг. Наполненная выпуклой тишиной в нежном посвисте птиц. Тонким шелестом трав. Огромное нежное небо, переливчатый от весеннего солнца воздух и лесистые сырые долины на многие километры. В этом первородном пространстве что-то нереальное, совершенно бесполезное, и одно-временно фундаментально истинное. Оно будоражило чувства и вносило в душу смятение. Тонкая беспричинная тоска подымалась к небу от болотистой земли.
Рая растерянно глядела вокруг. «И всё у нас какая-то нескладица. У других всё по путному, а у меня… Ведь другие – как люди. На Карельском дома покупают. Один мой дурак в Апраксин едет. Деньги в недвижимость вкладывать. Нет денег – то и не суйся. А тут денег кот наплакал, и те псу под хвост, в болоте утопить. И за что мне мученье такое удалось? Ведь там сосны во! До неба. Песок, сухота. Озёра в берегах как ножницами вырезаны. Ёлки, так это ж ёлки! А дома! Какие дома! А тут непотребство одно…»
Паша довольный вынырнул из кустов.
– Нашёл! Отличное место. Сухо. Бывший дзот.
– Паша, а давай лучше в Рощино дом купим?
Он слегка опешил, но нашёлся.
– Ты, Раюшка, не горячись. Сперва здесь поглядим, потом там посмотрим. И сдалось тебе это Рощино! – пожал плечами муж. – Будто и земли нет вокруг. Ну, чего там хорошего? Тоска одна. Сосны как болваны стоят, глаза друг на друга таращат. Вроде столбов телеграфных. Тут столб, там столб… Опять же холодно, север всё ж. Земля: камень да песок. Картошка не растёт. Чего там делать? А денег стоит немерено!
– Если картошка не растёт…– вздохнула Рая. – А тут растёт, думаешь? – с сомнением поглядела вокруг.
– Чего это ей не расти? Ладно, хватит болтать. Пошли. – Паша вытянул из багажника сумку. – Ух! Ну, ты и навалила, хозяйка! – Перебросил ремень через плечо, покачнулся, но устоял. – А это ещё что тут за дурь болтается? – К медному кольцу ручки был прицеплен полосатый бантик. Их раздавали зимой в городе в память о снятии блокады.
– Это символ! Это память о войне! – бросилась на защиту жена.
– Ну, мать, какая же это память? Это полосатая тряпка. Причём тут война? Война-войной, причём тут бантик?
– Я патриотка! А ты… Ты просто бесчувственный чурбан! – распалилась Рая. – А если тебе тяжело нести, то и скажи… Я сама понесу «ленту памяти».
– Оставь, дойду, – засмеялся Паша. Он подхватил под другую руку складные стол и стульчик. – Захлопни багажник, – и тяжело пошагал в лес.
Поляна и вправду оказалась довольно сухой. Это был, непонятно откуда взявшийся в подтопленном березняке и осиннике, песчаный пригорок. На краю опушки торчали остатки когда-то ровно уложенных, сгнивших брёвен. Видно, это был потолок дзота. Вход в землянку засыпало землёй. Рядом валялись ржавые куски железа и проволоки. Рая с опаской огляделась.
– Куда ты меня притащил? Тут хоть разминировано?
– Не боись! – засмеялся он. – Вот память войны. Это тебе не полосатый бантик. Разворачивай скатерть-самобранку. Я костёр разведу. – Паша вытащил из кучи железа прут и принялся тыкать землю, опасаясь развести огонь над снарядом. Прут глубоко уходил в песок.
– Порядок, не взорвёмся! Доставай закуску.
Огонь заиграл. Языки весёло бежали по валежнику и падали вниз. Снизу голубые, потом рыжие и на концах дымящиеся чёрные. Прозрачные и грозные. Колышущееся вместе с пламенем, тепло растекалось вокруг.
– Сейчас всю поляну просушим. А что нам дадут на обед?
– Вот капусточка квашенная, здесь селёдка под шубой, огурцы, – засуетилась жена, – котлетку возьми. Чай из термоса. Быстрее пей, остынет.
Рая угощала и наворачивала сама за двоих. Настроение улучшилось. Вроде не напрасно прошёл день. И земля здесь не такая уж чужая и унылая. Тёплое пламя греет. Юное солнышко гладит щёки, играет в листьях берёз. Земля наполнена молодым энтузиазмом и ожиданием прекрасного.
– И вправду хорошо тут, Паша. Будет у нас свой домик, хозяйство. Дача, то есть. Мальчишек привезём сюда летом.
Рая сомлела от приятности пикника и прикрыла глаза. Ей почудилось вдруг, что кто-то глядит на них из леса и ходит рядом. Она насторожилась и стала всматриваться внутрь. На другом конце поляны приглушённо хрустнула ветка. Качнулась лапа молодой ёлки. Из леса неожиданно вышла женщина.



