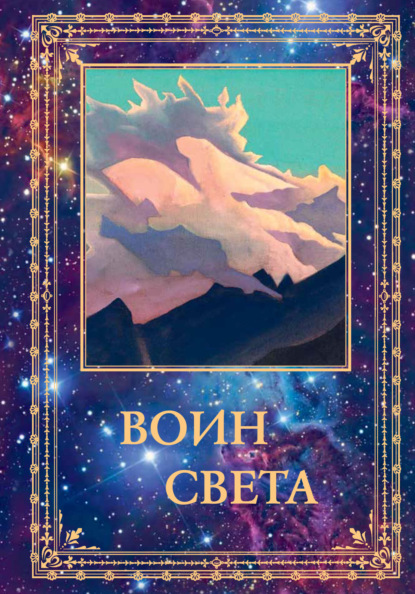
Полная версия:
Воин Света. Том 1

Главное здание Московского государственного университета на Ленинских горах. Москва. 1965
В 1950 году после успешного завершения обучения Людмила Васильевна была рекомендована в аспирантуру Восточного отделения МГУ. Преддверием Индии стала археологическая практика в Хорезме (1952), где молодой аспирант во время летних каникул принимала участие в раскопках. Каждая интересная находка для археолога – своего рода мост через века в седую древность. Регион имел важное значение. В прошлом через него проходили караванные пути, которые вели из Средней Азии дальше – на Восток, в Индию. Здесь за тысячелетия культурный слой накопил немало ценнейших свидетельств многовекового взаимодействия культур различных народов и государств. Через Кушанское царство, в которое входил Хорезм, Индостан становился ближе.
В 1954 году Людмила Васильевна защитила диссертацию по теме «Борьба рабочего класса Индии за руководящую роль в национально-освободительном движении накануне Второй мировой войны (1934–1939)». Выбранная тема была характерна для советского востоковедения того времени. Ее научным руководителем стал А.М.Дьяков (1896–1974), отечественный историк-индолог, человек с интересной, богатой событиями судьбой. Алексей Михайлович сыграл огромную роль в становлении Людмилы Васильевны как ученого. Высокие моральные качества и обширные знания позволили ему стать не только преподавателем и научным руководителем, но и настоящим наставником. Именно он в этот период жизни направлял научные поиски молодого ученого, оказывал ей неоценимую помощь и поддержку, прививал любовь и интерес к Индии, ее древней жизни, племенам. А.М.Дьяков в совершенстве знал хинди и урду, был дружен с Ю.Н.Рерихом, но, к сожалению, не успел познакомить с ним свою молодую ученицу: Юрий Николаевич после возвращения из Индии прожил на родине совсем недолгий период.
О своем учителе-индологе Л.В.Шапошникова оставила следующие строки: «Он окончил медицинский институт, и когда у нас в России началась революция, его определили врачом в красноармейскую часть, которую послали в Среднюю Азию драться с басмачами. И там он увидел и узнал Восток, тогда еще сохранялась среднеазиатская культура, это был Памирский регион. Он увлекся обычаями и укладом новой для него жизни, сразу ухватил их язык и очень быстро наладил дружеские отношения с местным населением. <…> А потом пришло время Третьего интернационала, штаб-квартира его была в Москве, и все коммунистические партии были объединены под его эгидой, в том числе и индийская компартия (которую организовали мы сами в Индии). Алексей Михайлович Дьяков, мой учитель, встретился с индийцами, и ему так понравились и язык, и люди, и культура, что он стал заниматься Индией. К тому времени, когда наши судьбы пересеклись, он уже был доктором исторических наук, выдающимся индологом»[47].
Одна из учениц Алексея Михайловича, Л.Р.Гордон-Полонская, знавшая его по работе многие годы, дала следующую характеристику его личности: «Его отличали глубокое уважение и любовь к людям: в отношениях с ними он был предельно корректен и искренне интересовался судьбой каждого, с кем ему приходилось встречаться, будь то едва научившийся ходить малыш, неоперившийся студент, памирский горец, индийский революционер или маститый ученый. До конца своих дней он сохранил душевную чистоту и непосредственность, открытое неприятие любой фальши, лицемерия, ханжества, лести и бурную реакцию на любое проявление несправедливости, непорядочности, подлости при одновременной незащищенности от них…»[48]. Фотопортрет учителя и наставника А.М.Дьякова, уже после его ухода из жизни, всегда находился над письменным столом Людмилы Васильевны в ее квартире на проспекте Вернадского в Москве.
16 июля 1954 года после успешной защиты диссертации Л.В.Шапошникова была зачислена в штат кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока исторического факультета МГУ. В сентябре 1956-го переведена на должность младшего научного сотрудника вновь созданного Института восточных языков (ИВЯ) при МГУ. «Историки ИВЯ читали углубленный курс лекций по истории соответствующей страны или региона для студентов исторической специальности и краткий курс истории страны или региона, учитывающий задачи получения востоковедного исторического образования для студентов-филологов <…>. Людмила Васильевна с самого начала стала заметной фигурой не только среди индологов, но и на уровне всего исторического востоковедного сообщества института»,– писала в своих воспоминаниях о деятельности Л.В.Шапошниковой в ИВЯ А.Л.Сафронова[49].

Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета. Москва, Моховая, 11. 2000-е
В июне 1958 года Людмила Васильевна была направлена на стажировку в Хайдерабадский университет, которая длилась целый год. Официальные визиты Дж. Неру в СССР, а затем Н.С.Хрущева в Индию и заметное потепление отношений между двумя державами позволили молодым советским индологам отправиться в страну своих научных интересов. Эта первая поездка перевернула представление Л.В.Шапошниковой об Индии.
После приезда своей ученицы в Москву со стажировки А.М.Дьяков спросил у нее о путевых заметках. Людмила Васильевна передала индологу свои записи на прочтение. «…Вернулась я из Индии,– вспоминала она,– и через некоторое время он меня встречает и говорит: „Ну как?“. Очень хорошо, отвечаю, интересно. <…> Потом еще раз встретил: „Где книга?“ Я говорю: „Алексей Михайлович, книга-то есть, но она как-то не по теме“. Он говорит: „Неси“. Через две недели раздается звонок: „Говорят из издательства „Восточная литература“. Алексей Михайлович принес вашу рукопись, мы берем ее для публикации“»[50].
Так в 1962 году в свет вышла первая книга Л.В.Шапошниковой «По Южной Индии», которая сразу сделала автора популярной среди читателей, интересовавшихся жизнью и нравами Индии, освобожденной от колониального гнета. «Я ездила по стране одна, без провожатых и переводчиков,– было написано в авторском предисловии.– Нередко месяцами не слышала ни одного русского слова. Вокруг были только индийцы. Их жизнь со всем ее своеобразием шла перед моими глазами. <…> Меня окружали люди, чье теплое дружелюбие и искреннее гостеприимство скрасили этот долгий (как мне показалось) год»[51]. Это удивительное теплое дружелюбие индийцы даруют не всем. Его удостаиваются не иностранцы, приехавшие за мимолетными впечатлениями, часто смотрящие на страну свысока, но люди с открытым сердцем, непредвзятым взглядом и стремлением к познанию. Книга, написанная живым, доступным языком путевых заметок, вместе с тем несла значительный пласт ценных исторических и этнографических сведений. Именно поэтому ее одобрил к печати редакционный совет востоковедной литературы при Отделении исторических наук АН СССР.
В ноябре 1959 года, вскоре после успешной индийской стажировки, Л.В.Шапошникова была переведена на должность старшего научного сотрудника института. Постепенно она стала отходить от первоначальной темы исследований, которая, по ее собственному признанию, была навязана на кафедре. Молодого ученого из СССР увлек богатый культурный мир Индии, и тема борьбы индийского рабочего класса за независимость, а также история компартии отошли на второй план. В этом смелом по тем временам шаге «ее поддержал ее учитель А.М.Дьяков, и с тех пор на долгое время главной темой ее работ стали история, культура и этногенез народов Индии»[52].
В Индию, с которой в нашей стране постепенно устанавливались тесные дружеские связи, Людмила Васильевна стремилась всем сердцем. Но выезд за рубеж для молодого советского ученого был сопряжен с большими препятствиями. «Надо ехать в Индию к племенам,– вспоминала она.– Специальные командировки в племена не дают. Я решила: поеду в любом качестве. Предложили преподавать в Мадрасском университете – поехала. И стала „нырять“ в племена, благо недалеко, хотя и довольно трудно, и в тяжелые районы»[53]. В Мадрасском университете в качестве преподавателя русского языка Л.В.Шапошникова проработала с 1963 по 1965 год.
Н.Г.Михайлова вспоминала: «Она едет в качестве преподавателя русского языка в Мадрасский университет. <…> Организует пушкинский клуб. <…> Эти студенты изучали русскую литературу, устраивали конференции, выпускали даже маленький журнальчик. Надо сказать, что, когда студенты потом приезжали в Москву, все, кто с ними встречался, поражались, как хорошо они говорили по-русски <…>. Всякий раз, когда Людмила Васильевна была в Индии, она немедленно начинала, например, строительство дома для культурного центра или принимала участие в обсуждении проекта, или ездила по району, к которому относился Мадрасский округ, ходила там на собрания, выступала на них, пыталась найти что-то новое в работе»[54].
Книги и статьи молодого индолога были наполнены живыми, красочными картинами быта повседневной жизни индийцев, их проблемами и свершениями, коренными сдвигами в жизни патриархального индийского общества. Но, пожалуй, самое главное, – они приобщали российского читателя к многовековой культуре, этнографии, истории и духовной традиции этой удивительной страны. Итогом каждого нового погружения автора в древний и громадный, как океан, этнографический мир Индии становились новые замечательные книги, раскупавшиеся почитателями таланта ученого за считанные дни.
Писатель Николай Семенович Тихонов, немало сделавший для укрепления советско-индийских культурных связей, высоко оценил литературное творчество молодого индолога. «Л.В.Шапошникова своими книгами продолжила лучшие традиции русских ученых и писателей, так же как и традиции русской индологии, основание которой положил И.П.Минаев,– отмечал он.– Она продолжила не только изучение классической индийской культуры, но и жизни этой страны во всей ее сложности и многообразии. И каждый ее новый рассказ об Индии крепит нашу сердечную дружбу с великим индийским народом»[55].

Генеральное консульство РФ в Ченнаи (до 1996 г. Мадрас) на Santhome High Road, 14, Индия

Российский центр науки и культуры в Ченнаи Индия. 2000-е
Людмила Васильевна старалась погрузиться в жизнь и быт индийцев: крестьян, рабочих, интеллигенции. С разрешения руководства Мадрасского университета она совершала научные поездки в племена южной Индии, которые сохранили свой первобытный образ жизни. «Ныряния в племена» происходили не в ущерб учебному процессу. Им было посвящено свободное от преподавания время. Ее научные изыскания в этот период посвящены исследованию матриархата, сохранившегося в племенах, а также этногенезу этих осколков древней жизни.
«Не многим приходилось идти к „изучаемым объектам“ ночью пешком через джунгли, ползти на животе вверх по отвесной стене в горах, чтобы увидеть в пещере наскальные рисунки, ночевать в хижине на дереве у каникаров, ибо в их деревню приходят дикие слоны, тигры, пантеры и безопаснее всего спать на дереве,– писала историк С.И.Кузнецова.– Перед нами серьезное исследование этногенеза, духовного мира племени и одновременно яркий рассказ заинтересованного очевидца о современных событиях и судьбах конкретных людей. Автор жила среди них, нашла друзей, которых полюбила и невольно благодаря ее сердечному рассказу любим и мы, покоренные их чистотой и благородством, несмотря на нищету, несчастья, а зачастую и печать отверженности. <…> Во всех книгах Л.Шапошниковой немало места занимают мифы, легенды, верования мудугаров и кхонда, тода и панья. И как бы ни была велика научная ценность собранного ею этнографического материала, невольно думаешь, что для автора не менее важно помочь людям племен защитить их человеческое достоинство, познавая их бесписьменную историю»[56].
Несмотря на серьезные правительственные программы, племена в современных реалиях Индии под натиском урбанизации теряют свою привычную среду обитания, а значит, и уклад жизни, культурные и этнографические особенности, пополняя многочисленные ряды городской и сельской бедноты. Уходят не только племена. Исчезают целые этнографические деревни и их удивительная архитектура не только на склонах гор Нильгири, но и в священных Гималаях. Везде цивилизация беспощадно наступает на культуру. В этой связи исследования исчезающих племен, их культуры и этногенеза, проведенные Л.В.Шапошниковой в 1960–1970-е годы, имеют большое научное значение для будущего.
«Почему я выбрала именно Южную Индию?– писала индолог.– Дело в том, что судьба древнейших австралоидных племен складывалась неодинаково. В разной степени они уничтожались или вытеснялись более поздними народами. В Северной Индии, которая подвергалась частым нашествиям, почти не сохранилось этих племен. Центральной Индии повезло больше. Там до сих пор австралоидный тип распространен среди таких крупных племен, как кхонды, гонды, ораоны. Что же касается Южной Индии, то здесь мы находим целые островки этого древнейшего населения. В древности эта часть страны была покрыта труднопроходимыми тропическими лесами. В лесах обитали австралоидные племена. Миграционные потоки пришлых народов вливались в Индию с севера и запада. Лесной массив Южной Индии долгое время оставался не затронутым влиянием этих миграций. Поэтому южноиндийским австралоидам удалось до сих пор сохранить чистоту своего антропологического типа»[57].
Итогом многолетних исследований и путешествий Л.В.Шапошниковой к племенам стал целый ряд научных и литературных трудов: «По Южной Индии» (1962), «Парава – „летучие рыбы“» (1967), «Дороги джунглей» (1968), «Тайна племени голубых гор» (1969), «Годы и дни Мадраса» (1971), «Австралоиды живут в Индии» (1976), «Мы – курги» (1978). Эти издания, богато иллюстрированные сделанными автором фотографиями, знакомят читателя с бытом, обычаями и нравами древнейших жителей Индостана, племен и народностей, затерянных в джунглях и труднодоступной гористой местности, которые, продолжая жить родовой общиной, при этом отставая в научно-техническом развитии, тем не менее сохранили высокие нравственные качества. Смелой путешественнице не раз угрожали смертельные опасности. Вдвоем с местным проводником она заходила в самые отдаленные уголки индийских джунглей, где местные жители ранее не видели белого человека. Особые воспоминания оставило племя тода, с которым она подружилась. Тода называли ее «мать-Людмила» – «амма» и очень ей доверяли. Индолог из России в совершенстве владела хинди, урду, тамильским языком и рядом местных диалектов и могла разговаривать на родном языке племени, что в общении снимало многие барьеры.
Вот неполный перечень изученных ею племен и народов в штатах Андхра-Прадеш, Тамилнаду, Керала: кхонды, гонды, ораоны, тода, мулукурумбы, маннаны, мудугары, кунинда, каникары, бода, кота, курги, панья, парава…
В 1960 году Людмила Васильевна становится старшим преподавателем ИВЯ, а в 1962-м – доцентом, активно участвует в работе диссертационного совета института. Во время работы в институте совместно с коллегами готовит серию учебников: «История стран Азии и Африки в Средние века», «История стран Азии и Африки в Новое время», «История стран Азии и Африки в Новейшее время», опубликованных издательством Московского университета. «Л.В.Шапошникова <…> внесла свой вклад в разработку базовых подходов в преподавании востоковедных курсов широкого профиля»,– отмечает А.Л.Сафронова[58].
Кроме того, Людмила Васильевна разрабатывает и читает студентам института курсы лекций: «Новейшая истории Индии», «Экономическая география Индии», «Этнография Индии». При чтении последнего курса ярко «соединились ее научный дар и призвание путешественника»[59].
«Ее лекции,– вспоминает А.Л.Сафронова,– отличались широтой охвата тематики, неординарностью и увлекали аудиторию. Они содержали живой материал, позволяющий ощутить яркие краски Индии, ее неповторимость и самобытность. Ее рассказы, основанные на опыте собственных путешествий, нестандартность суждений, особое, присущее ей чувство юмора не оставляли никого равнодушными»[60].
Людмила Васильевна берется разрешить масштабную научную задачу в индологии: выявить этапы становления не только современных дравидов, не забывая при этом учесть поздние арийские миграции. «Два потока, австралоиды и средиземноморцы,– пишет она,– формировали так называемые дравидийские народы. И формируют до сих пор. …Арийские племена были третьим крупным этническим потоком, который участвовал в формировании индийских народов и их культуры»[61]. «Основные проблемы этногенеза дравидийской группы населения Индии» – главная тема ее научных изысканий в индологии, которая со временем переросла в новую диссертацию[62].
В 1967 году за свои замечательные исследования и книги «По Южной Индии», «Дороги джунглей», «Парава – „летучие рыбы“» Людмила Васильевна стала лауреатом престижной премии имени Джавахарлала Неру, которая была вручена ей осенью 1968 года в Дели премьер-министром Индии Индирой Ганди.
«Восемь советских деятелей литературы и искусства стали первыми лауреатами премии имени Джавахарлала Неру за 1967 год,– писала газета „Правда“.– Такое решение вынес Комитет, почетным председателем которого является Председатель Совета Министров СССР тов. Косыгин А.Н.»[63]. Лауреатами премии стали писатели Н.С.Тихонов и Мирзо Турсун-заде, поэтесса Зульфия Исраилова, художник С.А.Чуйков, индолог Е.П.Челышев, искусствовед С.И.Тюляев и журналисты О.П.Бенюх и Л.В.Шапошникова[64]. Примечательно, что в этом же году Л.В.Шапошникова стала членом Союза журналистов СССР.
«Перелистывая» годы, академик Е.П.Челышев вспоминал об их совместной поездке: «Людмила Васильевна Шапошникова посвятила всю свою жизнь Индии <…> Ей было тогда тридцать с чем-то, она впитывала в себя все, что видела интересного,– и сразу же бросалась туда, записывала, снимала. Всегда была насыщена эмоционально, у нее постоянно было радостное оживление, с утра до вечера с кем-то встречалась, потом что-то писала. Вокруг нее всегда были люди. Она просила устроить индивидуальные программы, чтобы встретиться с тем, и с другим, и третьим! <…> Людмила Васильевна – стойкий боец, человек с сильным характером, она не отступит от правды, будет бороться за правое дело до конца. Все эти качества ее я распознал уже тогда, … когда мы с ней путешествовали по Индии. Я видел, как складывался ее характер, пробуждается любовь к Индии, к индийской культуре, стремление познать как можно больше. Она стала крупным ученым своего направления…»[65].

Дача Н.Г.Михайловой в пос. Мамонтовка, Тулуповский тупик (г. Пушкино, МО), где много лет работала и отдыхала

Дом в поселке «Европа-2», городской округ Красногорск. Здесь в 2010-х гг. работала и отдыхала Л.В.Шапошникова. Фото А.Л.Прохорычева. 2010-е
«Меня к Рерихам привела Индия»
С художественным наследием Н.К.Рериха Людмила Васильевна познакомилась в Москве в 1958 году, на первой выставке его картин, которая была организована усилиями Ю.Н.Рериха. Ее поразили необычные красочные сочетания на полотнах великого мастера. Так впервые молодой индолог прикоснулась к художественному творчеству Николая Константиновича Рериха. Кроме того, А.М.Дьяков, научный руководитель Л.В.Шапошниковой, был знаком с Ю.Н.Рерихом, вернувшимся на родину в 1957 году. Но встретиться с выдающимся востоковедом ей не довелось: недолгий период жизни и деятельности Юрия Николаевича в России совпал с ее первой индийской стажировкой.
Как утверждала сама Людмила Васильевна в одном из интервью, к Рерихам ее привела Индия[66]. «Я хотела понять происхождение индийцев, их этногенез … И сам Николай Константинович Рерих тоже занимался проблемами этногенеза. В частности индоевропейской общности. И он высказал тогда идею, которая была мне близка. Ведь у нас ищут прародину индоевропейцев где угодно, а он сказал – прародина около Канченджанги. Это Гималаи. А когда я заинтересовалась работами Николая Константиновича, я вдруг увидела огромный, незнакомый мне духовный и культурный мир… <…> Я поняла, что вновь вернулась к своей стране, к своим соотечественникам, и теперь это мой путь»,– объясняла она свой научный интерес к наследию Н.К.Рериха[67]. Кроме того, ей очень импонировала идея Н.К.Рериха о том, что прародина ариев была связана с Гималаями, откуда они вышли, чтобы «населить Европу, … Евразийскую часть степей»[68].
1968 год стал поворотным и в судьбе творческой деятельности Л.В.Шапошниковой. Во время пребывания в Мадрасе, в составе советской делегации лауреатов премии имени Дж. Неру, Людмила Васильевна впервые встретилась со Святославом Николаевичем Рерихом. Произошло это в его имении «Татагуни» близ Бангалора.
Из Мадраса в гости к художнику индолог отправилась вместе с искусствоведом С.И.Тюляевым, который в то время писал книгу о его живописном творчестве. В загородное имение Рерихов прибыли поздно, к 12 часам ночи, когда хозяева уже спали. Не ожидавший столь поздних визитеров Святослав Николаевич был возмущен, но, увидев Людмилу Васильевну, произнес: «Входите. Я Вас ждал». Вспоминая эту судьбоносную встречу южной бангалорской ночью, она писала: «Мы с ним пошли в его студию и проговорили до четырех часов ночи. После этого началась регулярная переписка, а потом я снова приехала в Мадрас, … ездила к Святославу Николаевичу очень часто…»[69].
«Потом были и другие встречи, и каждая из них наполняла мою жизнь каким-то новым и неожиданным смыслом. Мы беседовали с ним часами в его мастерской, где на мольберте стояла очередная незаконченная картина, стены были увешаны тибетскими танками и индийскими средневековыми миниатюрами, а на книжных полках стояли старинные бронзовые фигурки редкой красоты»[70], – писала Людмила Васильевна о «Вестнике Красоты», художнике и мудреце Святославе Николаевиче Рерихе, ставшем в ее жизни подлинным водителем и духовным наставником, проводником в мир высоких идей и дел семьи Рерихов.
Во время одной из таких бангалорских встреч Рерих дал ей на прочтение книгу «Беспредельность» из серии Живой Этики. «Однажды Святослав Николаевич протянул мне книжку и сказал: „Елена Ивановна написала эту книгу в сотрудничестве с Учителем. Прочтите ее!“ – рассказывала Людмила Васильевна в своем последнем интервью.– <…> Книжка называлась „Беспредельность“. Я приехала в Мадрас и начала читать. И понимаю: ни-че-го не понимаю! А оторваться не могу. Закончив читать, я написала огромный список вопросов: что это такое, что сие означает? С этим списком на следующей неделе я поехала к Рериху, чтобы мучить его своими вопросами. Но пока я ехала, вдруг стала понимать, что там написано. И мои вопросы показались глупыми и ненужными. Я поняла, что их не надо задавать Святославу Николаевичу. Это была первая в моей жизни книга по философии космической реальности, которая с тех пор прочно вошла в мою жизнь. С этого дня я твердо знала: вот это – мое»[71].
В 1970–1972 годах она вновь в индийской командировке, работает в Мадрасском отделении Представительства Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, преподает русский язык, работает с делегациями, читает лекции о Советском Союзе, посещает конференции индо-советских культурных обществ, продолжает исследовать племена[72].
В июне 1972 года, когда командировка подходила к концу, Святослав Николаевич пригласил Шапошникову на две недели погостить в свое гималайское имени «Hall Estate». Он поселил русскую гостью в главном усадебном доме, где с конца 1928-го по 1947 год прошел исключительно насыщенный в творческом отношении период жизни и деятельности семьи Рерихов. Здесь, в древней долине Кулу, под руководством С.Н.Рериха она изучает богатую культуру и архитектуру горцев пахáри, их традиции, обычаи и религиозные обряды, знакомится с коллекциями и деятельностью Гималайского института научных исследований «Урусвати». Святослав Николаевич предоставил ей для работы кабинет и рабочий стол Е.И.Рерих, подобрал необходимые журналы и другую литературу. Эта поездка, частое общение с Рерихом, особая атмосфера и энергетика дома и самой «долины богов» сильно повлияли на индолога, позволили глубже проникнуть не только в этнографию и историю региона, но и определиться с дальнейшими исследованиями, связанными с изучением богатейшего научно-философского наследия семьи Рерихов. Тогда же впервые Рерих поинтересовался мнением Людмилы Васильевны о передаче архива и наследия семьи Рерихов на родину[73].
По результатам этой поездки Шапошникова активно подключилась к проблеме возрождения института «Урусвати». От С.Н.Рериха в президиум АН СССР она привезла конкретные предложения о расконсервации института под руководством советских ученых, подготовила и опубликовала в соавторстве с П.Ф.Беликовым статью, посвященную его научной деятельности[74].

