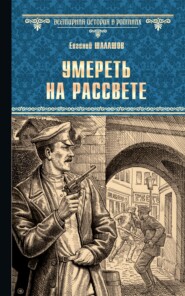скачать книгу бесплатно
– Гы-гы-гы! На войне-то и без нас есть кому воевать. Дураки вроде тебя всю жисть воюют, а жизни не видят.
– Ах ты, сучий потрох! – вскинулся с места Иван, будто подброшенный пружиной.
Герасим, получив по морде, отлетел сажени на две, но на ногах устоял.
– Да я тебя, вошь окопная!
Бабы заголосили для порядка, мужики и парни радостно вытаращились, предвкушая потеху. Уже начали раскалываться на партии – кто за Ивана, кто за Уханова. Что за гулянка, если никому в морду не дали и скулы не своротили?
Герасим попытался ударить Ивана в ухо. Бил с размаха, от всей дури, но тот лишь отодвинулся, тяжелый кулак пролетел мимо, а мужик, не удержавшись на ногах, упал, пропахав землю не раз ломаным носом. Подниматься не стал, так и пополз. Дополз до поленницы, ухватил из нее чурку, вскочил. Пьяный Герасим с поленом в руках был страшен. И, окажись на месте Ивана кто-нибудь из деревенских мужиков, начальнику милиции была бы завтра работа. Но отставной солдат присел, а когда полено просвистело над головой, ухватил забияку за ворот рубахи да за рукав и перекинул тяжелую тушу через себя.
Уханов, встретившись с землей, ухнул и притих, а на Ивана бросились его сыновья – Тимоха и Генаха, здоровые, как бычки-трехлетки, и такие же дурные. Что сделал Иван, народ не разглядел, но Тимоха, подскочивший первым, уже катался по траве, держась за сокровенное место, а Генаха верещал, баюкая руку, не иначе все пальцы поломаны!
– Уби-и-или! – тоненько заголосила беззубая Люська Уханова – вечно битая жена Герасима.
– Пасть закрой, дура! – рявкнул на нее Иван, обернулся к оторопевшим односельчанам: – Чего рты раззявили? Воду несите!
Герасим очухался после второго ведра, а после четвертого почти протрезвел. Сидя в луже, тоненько икал и таращил глаза.
– Эй, как там тебя? Сюда иди! – позвал Иван Генаху, а когда тот выматерился сквозь слезы, сграбастал парня за загривок, уронил на землю и уселся к нему на грудь. Для острастки замахнулся растопыренной пятерней, пригрозив: «Убью!», схватил ушибленную руку в собственную ладонь, ощупал пальцы и слегка дернул. Парень закричал благим матом, но быстро затих.
– А ить не больно! – сообщил счастливый Генаха, взмахнув ладошкой. – А я ить думал – все пальцы поломаны! Дядь Вань, а как это ты?
– Были бы поломаны, ты бы сейчас Лазаря пел, – усмехнулся Иван, поворачиваясь к другому «инвалиду», посоветовал: – До ветру сходи, легче станет!
Углядев у того мокрое пятно, расплывшееся спереди порток, крякнул. Добро, если девки не видели.
– Насобачился Иван драться-то…
– Ну, повоюй-ка с евонное – так и ты так сможешь!
– Надо им было всем сразу наваливаться…
Переговаривался разочарованный народ. Ждали настоящую драку, с кровью, а тут…
Не обращая внимания на односельчан, Иван присел на крылечко. Вытащил кисет и остаток газеты, снова свернул «козью ножку». С наслаждением закурив, горько усмехнулся.
Много раз Иван представлял, каким будет возвращение. Думал – вот, после радостных бабьих причитаний батя истопит баньку, мать подаст пару свежего белья. Брат Яков, как в детстве, напарит до звона в ушах, окатит холодной водой. После бани хлопотунья-мать уставит стол пирогами, присядет на краешек скамьи, подперев рукой щеку. Мужики будут неспешно выпивать, слушая рассказы о войне с германцами, о революции и о том, как воевали с белыми гадами. Вытащит он из мешка гостинцы – платок для матери, туфли для жены и бритву для отца, и все будут радоваться! Помнится, в конце семнадцатого, когда вернулся с германской, всех и подарков было – прожженная шинель да винтовка с двумя обоймами. Но три года назад деревня была другая. А подарок был – всем подаркам подарок – земля!
Втайне он, конечно, предполагал, что все будет не совсем так, как мечталось. Но все обстояло хуже. Давила земляная крыша (солому в голодную зиму скормили скоту, а новой не нашлось) – сидишь, словно в блиндаже, присыпанном землей от разорвавшегося снаряда. Мыться пришлось у соседей, потому что отцовскую баню сожгли дезертиры (не братья ли Ухановы?), а вместо свежего белья обошелся застиранными подштанниками и рваной рубахой. Про пироги он и не заикался.
С подарками тоже вышло худо: мать, пощупав платок, убрала в сундук – мол, похороните в нем! Марфа, супруга, глянув на туфли, буркнула, что ходить в них некуда – церква заколочена, поп заарестован, а за коровами убирать так и в лаптях сподручно. Батя, пытаясь побриться, едва не перерезал горло.
Когда уходил, помнил своих родителей, конечно же, немолодыми, но полными сил. Теперь же отец превратился в беззубого подслеповатого старика, а мать – в сухонькую старушку, боявшуюся всего на свете. А жена…
Затоптав окурок, Иван пошел в избу. В потемках наткнулся на скамью, стоящую посередке избы, больно ушиб ногу. Торопливо раздевшись, Иван юркнул под бок к жене и положил ей руку на грудь.
– Отстань, дай поспать, – сонно зашевелилась супруга, стряхнув руку.
– Да ты чё? – обиделся Иван.
Марфа, поняв, что он не отстанет, легла на спину, подтянула повыше подол.
– Токмо давай быстрее, устала я, – зевнула жена так, что скулы свело и все желание у мужа пропало. Укладываясь рядом, не выдержал, выматерился.
– Отвыкла я, – равнодушно сообщила супруга. – Ты в следующий раз, как захочешь, так по этому делу к девкам ступай. Или к Фроське. Видела, как она тебе глазки строила.
– К какой Фроське? – оторопел Иван. Даже злость прошла – законная жена посылает мужа к какой-то девке. А кто ему строил глазки, он не заметил.
– К Пашкиной Фроське, братана твоего жена. Ну, вдова уже, – поправилась Марфа, немного проснувшись. – Пашка-то в германскую сгинул. Токмо ты гляди – ежели за домом кобыла чалая стоит, не ходи. На кобыле к ней начальник из волости ездит, за самогонкой. Но было ли у них чё, врать не стану, свечку не держала. Сходи, в окошко постучи. Может, тебе и даст. А я чё? Тридцать два скоро, старуха совсем, – сказала жена, со странным прихлебывающим звуком – не то снова зевнула, не то всхлипнула.
– Брось причитать. Тридцать два! Ха! В городе-то в твои годы бабы такие расфуфыренные ходят – ого-го!
– Так то в городе. Пущай эти крали соху на себе потаскают, тогда поглядим. Без мужика-то каково ломаться…
Иван попробовал вспомнить – сколько лет его не было? Как ушел на срочную, так дома и не был. Служба у него истекала в четырнадцатом году. Понятное дело, что вместо увольнения в запас – ать-два, на войну с австрияками, с немцами. В пятнадцатом, а может, в шестнадцатом, когда в госпитале лежал, обещали, что в отпуск пойдет, но вместо отпуска наградили крестом, в запасной полк определили. В запасном было хорошо, а он, старослужащий, старший унтер-офицер и кавалер, о доме не вспоминал. Потом снова передовая. Окопы, вши… В семнадцатом, в декабре, как с фронта пришел, тоже можно не считать, не до того было. И жену толком обнять-приласкать времени не было. Спал ли тогда с женой? Вроде даже дома не ночевал – мотался то в волость, то в Череповец, в Питер наезжать пришлось раза два. Все какие-то дела – землю помещика Судакова делили по едокам, заводы Кругликова национализировали, потом волисполком создавали. И не пил тогда, а как пьяный ходил! В апреле восемнадцатого в Череповец вызвали, в трансчека определили служить. Там тоже – Череповец – Петроград – Вологда. Ну а потом Гражданская. Пожалуй, десять годков с лишком не был. Нет, все четырнадцать!
Почувствовав, что жена не спит, попытался пошутить:
– Дед мой двадцать пять лет отслужил, на молодухе женился и отца моего в пятьдесят лет сделал.
– Так это когда было-то – при царе-батюшке! – повернувшись на спину и, словно бы расхотев спать, отозвалась жена: – Тогда порядок был! И хлеба досыта ели, самогонку не жрали, в церкву ходили. Барин бы семье с голоду помереть не дал.
– Ты чё мелешь, дура? Какой барин? Бар мы в семнадцатом году вывели! Я за что воевал? Вот земля есть, лошадь как-нибудь справим.
– Да на что ее справлять-то? – горестно вымолвила жена. – Нам ить теперь продналог не с чего платить, а ты – лошадь справим! На какие шиши? Много ты в Красной Армии-то денег заработал?
– Да вы чё, сговорились, что ли? – возмутился солдат. – Если б не я, кто бы землю-то вашу отстоял, а?
– А на кой нам земля, коли пахать не на чем? Правильно, пока ты в чеках служил, нас трогать боялись. А потом, как на фронт ушел, знаешь, что было? Понаедут продотрядовцы из города, все вытрясут – и зерно и сено. Сволота окаянная, прости господи! А наша голытьба не лучше, что в комбедах была.
– Ну, какая же голытьба. Бедняки. Наши с тобой братья, – вяло возразил Иван.
– Ага, братья, – хмыкнула Марфа. – Таких братьев – за ноги да об угол. Пока ты кровь за них проливал, они тут пьянствовали, девкам подолы задирали да баб сильничали. Кого комбедовцами-то сделали?! Добро бы тех, кто безлошадный да бескоровный от беды какой, так нет же, самая пьянь в начальники вылезла. Гришка Тимофеев, помнишь такого?
– Н-ну, помню, – припоминая, отозвался муж. – У него еще батька от вина сгорел.
– Во-во, сгорел, – поддакнула Марфа. – И он в батьку пошел. А еще Гришка-то, хоть и пьянь подзаборная, а умнее, чем ты али Пашка, братан твой. Когда на германскую брали, в дезертиры подался, два года от стражников прятался. А потом, когда продразверстку объявили, первым комбедовцем стал. Самый бедный на деревне да пострадавший от царской власти. Это когда ему стражник по зубам дал, чтобы пьяным с жердью не бегал. А почему бедный – так потому, что пьяница да лодырь. А помощник его, Колька Лямаев? Ты вон, за новую власть воевал, а он по бабам ходил. А которая солдатка откажет – так вмиг до последнего зернышка выгребет. А мужики ничего и сказать не могли. Левка Тихомиров с фронта без руки пришел, сказал было, так мигом в Череповец увезли, в тюрьму. А оттуда не вернулся – не то сам помер, не то расстреляли.
Иван, осмысливая сказанное женой, напрягся. Сам не понимая – зачем он это спрашивает и, что он хотел услышать в ответ, обмирая в душе, все-таки спросил:
– Лямаев … он и к тебе приставал? А ты?
– А я что – рыжая? – огрызнулась Марфа. – Я как все.
Иван соскочил с постели, замахнулся. Хотел ударить, но удержался. Не жалость остановила, а что-то другое. Может, от того, что супруга не испугалась, а спокойно, словно с насмешкой, ждала удара.
– Была б не курвой, так с голоду бы сдохла! И не одна, а вместе с батькой да с маткой твоими, – злобно огрызнулась Марфа. – Не задирала бы подол, так все бы зерно, идол проклятущий, выгреб. Все подставляли! И не только Лямаю, а всем, кто из города приезжал. Продотрядовцы, солдаты разные. А ты-то где был в это время?! Почитай, как ушел на службу, так у меня больше и жизни не было. Ни дома своего, ничего. Думаешь, легко мне было с твоими родителями столько лет жить? Кто я им? Не дочь, не сноха. Батька твой, пень старый – а туда же, все норовил ручищу под подол засунуть да завалить где-нить! А ты… Ладно, на службу ушел, шесть лет ждала. Потом германская эта, тоже ждала. Потом пришел, так я тебя и не видела. Ушел опять. Думала, война закончится, вернешься. А ты еще год где-то болтался, а тут эта, как ее? Новая политика…. Чем мы налог-то платить станем? Вот, удавилась бы, да грех. Да будь ты проклят, со своей властью!
– Да я… – возмутился Иван, но сник, осознав, что баба как есть права.
Марфа рыдала беззвучно, словно глотала горькие колючие комки. У Ивана тоже что-то подступило к горлу. Отошел к столу, сел. Не зажигая лампы, нашарил по столам бутылки с остатками самогона, набулькал в стакан все, что осталось, выпил залпом. Сразу же обожгло рот, дыхание перехватило, но горький комок удалось перебить и сглотнуть. Переведя дух, поискал глазами – чем бы закусить, но тщетно, одни огрызки и объедки. Чуть-чуть подождав, пока скверный самогон не ударит в голову, свернул козью ножку и закурил.
– Прости. Это я так, сдуру, – нехотя повинился перед женой. И, будто оправдываясь, сказал: – Лучше б смолчала. Кто тебя за язык-то тянул? Что было – то сплыло.
Марфа вроде удивилась словам. Отсморкав сопли, вскочила и метнулась к столу:
– Что ж ты без закуски-то? У меня там огурчики оставались… Вроде, не всё гости-то сожрали.
Зашлепав босыми ногами, ушла в сени. Иван Николаев, бывший боец Красной Армии, сидел и думал. Хмель не спешил выгнать из головы тяжкие думы, а долгожданной легкости не приходило. Он ведь и сам, когда был на белогвардейском фронте, выезжал в деревни, чтобы собрать зерно и фураж для роты. Ну, чего там греха таить, деревенские бабы старались ублажить солдатиков как могли – и самогончиком поили, себя не жалели. Он с сослуживцами только похохатывал, но не отказывался. Только никак не думал, что в губернии, не затронутой войной, его супружница тоже кого-то ублажает. Ревности не было. Может, когда-то он и любил Марфу, но когда это было? Да и женился не от большой любви, а потому что у девки пузо на глаза лезло. Ждали сына, но, поднимая мешок с мукой, Марфа надорвалась и скинула. А сейчас это была не жена, чужой человек. «А что бы было, если бы робетенок родился? И на службу бы царскую не пошел? – в который раз спросил себя Иван и сам же ответил: – А было бы все то же самое, только хуже!»
Службы в армии Иван Николаев не боялся, ждал с нетерпением. Как лось, здоровый, грамоте обучен – не пропаду! Сосед, дядька Кондрат, отслужив семь лет за Веру, Царя и Отечество, пришел из японского плена с огромным сундуком всякого добра, парой медалей, определился на службу в полицию – работать не надо, а жалованье, хлебные и обмундирование идет как фельдфебелю. Сейчас дядька был бы в отставке, посиживал бы на печи за казенный счет, если бы не расстреляли его в семнадцатом году. Помнится, перед отправкой, успокаивая ревущую Марфу, небрежно цедил сквозь зубы: «Ну, дура, послужу, денег скоплю. Что там семь лет? Зато, как вернусь, коня купим, избу новую поставим. А тебя к лучшим дохтурам отвезу! Будешь рожать, как корова справная! Вон, давай на косяке зарубку сделаем. Смотри – щас девятьсот седьмой год. Семь зарубок – будет четырнадцатый. Вот к сентябрю и приду!» Но вместо сентября случился август, а там… Иван, сам того не осознавая, стал бубнить под нос:
– Брала русская бригада
Галицийские поля,
И достались мне в награду
Два железных костыля….
«Ну, вроде бы проняло!» – с удовлетворением подумал он, почувствовав, что самогонка, хоть и с запозданием, но вдарила-таки по мозгам. Песню эту можно петь лишь после хорошей выпивки. В Галиции от их полка остался батальон. Их с Лешкой Курмановым, другом и земляком, к наградам представили. Лешка, стервец, хоть и моложе годами и службу начал только в двенадцатом, но получил крест и лычки младшего унтер-офицера, а ему досталась георгиевская медаль. Ну, с другой-то стороны, Алексей заслужил – когда убило взводного командира, Лешка повел их в атаку. Свой крест Иван получил позже.
– Из села мы трое вышли,
Трое первых на селе.
И остались в Перемышле
Двое гнить в сырой земле.
А гнить в чужой земле осталось не двое-трое, а поболе. А сколько в своей земле сгноили, лучше не думать. Иван, проливая мимо, все-таки налил себе еще один стакан. Еле-еле сумел удержать его обеими руками, подумав: «Ну, наступила мирная жизнь, едрит ее в дышло!» – выпил и, уронив голову на стол, обеспамятствовал.
Декрет ВЦИК РСФСР от 21 марта 1921 г. «О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом» (Печатается в сокращении)
1. Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства на основе более свободного распоряжения земледельца продуктами своего труда и своими хозяйственными средствами, для укрепления крестьянского хозяйства и поднятия его производительности, а также в целях точного установления падающих на земледельцев государственных обязательств, разверстка, как способ государственных заготовок продовольствия, сырья и фуража, заменяется натуральным налогом.
2. Этот налог должен быть меньше налагавшегося до сих пор путем разверстки обложения. Сумма налога должна быть исчислена так, чтобы покрыть самые необходимые потребности армии, городских рабочих и неземледельческого населения…
3. Налог взимается в виде процентного или долевого отчисления от произведенных в хозяйстве продуктов, исходя из учета урожая, числа едоков в хозяйстве и наличия скота в нем.
4. Налог должен быть прогрессивным; процент отчисления для хозяйств середняков, маломощных хозяев и для хозяйств городских рабочих должен быть пониженным. Хозяйства беднейших крестьян могут быть освобождаемы от некоторых, а в исключительных случаях и от всех видов натурального налога…
7. Ответственность за выполнение налога возлагается на каждого отдельного хозяина, и органам Советской власти поручается налагать взыскания на каждого, кто не выполнил налога. Круговая ответственность отменяется.
8. Все запасы продовольствия, сырья и фуража, остающиеся у земледельцев после выполнения ими налога, находятся в полном их распоряжении и могут быть используемы ими для улучшения и укрепления своего хозяйства, для повышения личного потребления и для обмена на продукты фабрично-заводской и кустарной промышленности.
Приказ № 238 от 17.03.1922 г. по Череповецкой губмилиции
В Череповецкой губернии до сего времени существует дикий некультурный обычай – кулачные бои, которые особенно развиты в Череповецком уезде, те граждане в праздничные дни сходятся целыми деревнями и устраивают побоища, приводящие к членовредительству и убийствам.
Приказываю: начальникам милиции уездов искоренять таковые ненормальности, для чего иметь подробные списки местных престольных праздников и посылать в деревни вооруженных милиционеров для несения постовой службы…
Все железные трости от деревенской молодежи должны быть изъяты, а также огнестрельное оружие коим нет разрешения. Уличенных организаторов кулачных боев привлекать к уголовной ответственности по ст. ст. 219 и 220 УК РСФСР.
Начгубмил Цинцарь.
Глава вторая. Вдовая солдатка
Иван проснулся на кровати, раздетый до белья. Сам не помнил – ни как ложился, ни как раздевался. Видимо, перетащила Марфа. И как у бабы силенок-то хватило? В глаза нестерпимо бил луч солнца, а из переднего угла, где стоял стол, доносилось хлюпанье. Встал, отдернул занавеску и обнаружил, что отец, мать и жена пьют чай. Иван хмуро кивнул и вышел во двор. Сделав утренние дела, умылся, вернулся в дом. Заметил, что после вчерашнего наведен порядок. Верно, мать с женой с утра пораньше все почистили и помыли. Только присел за стол, как подскочила Марфа. Глядя на мужа глазами побитой собаки, спросила:
– Ванюш, оладушки картофельные исть будешь?
– Буду, какой разговор, – через силу улыбнулся Иван.
– Чаю попьешь али стаканчик поднести?
– Чаю, – решительно потребовал Иван.
Голова после вчерашнего побаливала и опрокинуть стаканчик было бы не вредно, но Иван пересилил себя. Знал, что если выпьет, так не остановится до вечера. Лучше перетерпеть да чайку испить. Зря, что ли, тащил гостинец из Крыма? А башка – хрен ли ей сделается, пройдет сама.
– Это правильно, – одобрительно кивнула мать, звякнув чашкой. – Чай-от, скусный какой! Почитай, с семнадцатого года такого не пивали!
Отец скривился. Видимо, рассчитывал на опохмелку, но ему одному бабы не наливали. Иван, поняв батькино состояние, усмехнулся:
– Старику-то налейте, – попросил он жену, и та, поморщившись, все-таки вытащила бутыль и налила свекру полстакашка.
– Ты чё, дура, краев не видишь? – возмутился старый. – Лей доверху.
– Опохмелишься – так весь день и будешь пелиться[2 - Пелиться (диалект.) – лезть.]! – пробурчала мать.
– Пошла к черту, дура, – отмахнулся отец, хватая вожделенный стакан. Отпив половину, Афиноген блаженно крякнул: – Ох, ровно боженька по душеньке моей босичком прошел!
– Ты чё говоришь-то, старый пень?! – рассердилась мать. – Неча имя Господа-то всуе поминать.
– Да пошла ты на хер, со своим боженькой, – отмахнулся отец и допил остатки.
– Ох, нехристь старый, – проворчала мать, махнув рукой. – Вот помрешь, будут тебя черти в аду мучить! Языком поганым будешь каленую сковороду облизывать за такие слова! Тебе самую большую кочергу в хлебало засунут, чтобы не матерился!
Иван, сколько себя помнил, слышал вечные упреки матери, что батька-де в церкву не ходит, батюшке руку не целует, а отец отвечал на все упреки и попреки одним: «Иди на хер, дура! Как помрем, так нам ничего не будет. Пришлепнут крышкой да землей присыплют». Вроде в старое время за такое от Церкви отлучали, к причастию не допускали. Как же это отца терпели? Или попам все равно было – верят в Бога иль нет? Сам Иван не понимал – верит он, нет ли. Но в окопах, под австрийскими, а потом белогвардейскими пулями ловил себя на том, что целовал медный нательный крестик, просил Бога сохранить ему жизнь и бормотал «Отче наш».
– Так, – поставил Иван пустой стакан и отмахнулся от жены, что порывалась налить еще чаю. – Рассказывай, что тут у вас творится-то?
– Так чё рассказывать-то? Жеребчика моего в девятнадцатом году в армию забрали, дали расписку – вот кончится война, вернут его в целости и сохранности. Война кончилась, а мне хрен на лопате, а не коняшка. Я в волисполком ходил, а там говорят – дед, мы твоего коняшку на фронт не посылали, кто забирал, с него и требуй. А кто забирал-то? А забирал его Лямаев со товарищи. Так расстреляли Лямаева за миродерство и шкурничество, а с покойника какой спрос? В уезд пошел, а мне и там отворот-поворот – мол, погиб твой жеребец за светлое будущее, так радуйся, что лошадь коммунизму послужила. Велели в кассу идти, получить деньзнаками два «лимона». Это чё, две буханки хлеба? Тьфу ты, едрит твою в дышло и с просвистом.
Услышав про расстрелянного Лямаева, Иван усмехнулся. А ведь хотел отыскать эту тварь да поквитаться… Что ж, может, оно и к лучшему. Неча о всякое такое… руки пачкать.
Не то от жалости к жеребчику, не то от выпитого у старого Николаева задрожал голос, а по небритой щеке прокатилась слеза.
Иван кивнул жене, и Марфа торопливо налила деду еще полстаканчика.
– Лошадь-то сколько нынче стоит? – Скоко-скоко, с куриное коко! – пьяно ухмыльнулся отец, которого уже развезло. – Ежели краденую у цыган сторговать за рожь, так, может, пудов за двести отдадут, а жеребенка, некраденого – так пудов за пятьсот. Если лет пять покопим – можно купить.
– Украсть, что ли?.. – в задумчивости изрек Иван.