
Полная версия:
Не спи под инжировым деревом

Ширин Шафиева
Не спи под инжировым деревом
Художественное оформление Юлии Девятовой
Иллюстрация на обложке Magdalena Pągowska
В оформлении книги использована иллюстрация:
© Kate Macate / Shutterstock.com Используется по лицензии от Shutterstock.com
© Kate Macate / Shutterstock.com Используется по лицензии от Shutterstock.com
© Шафиева Ш., 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
⁂
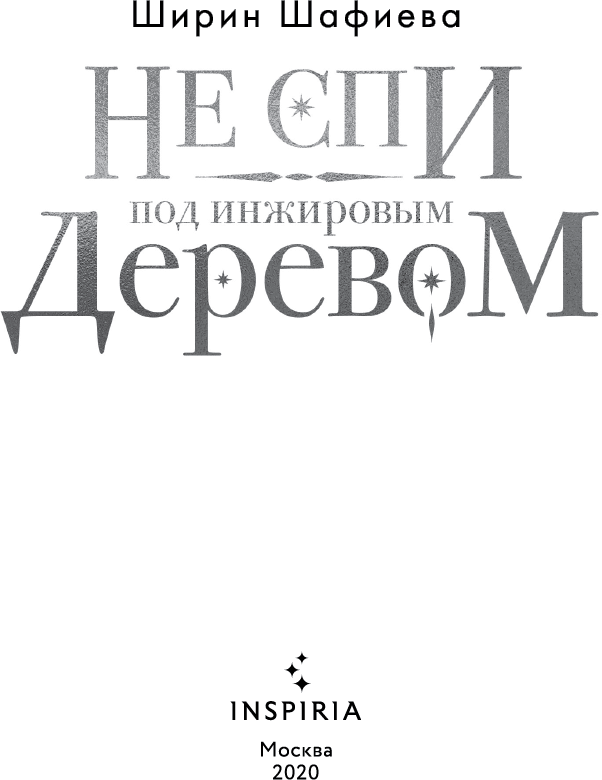
Выйдешь в город, а он встретит своей пустотой. А потом его предашь и покинешь, потому что он не родной.
Даниил Гинк «Лысый брюнет»– Вы поэт? – спросил он, улыбнувшись.
Ниточка разговора завязалась: на какую же катушку она станет наматываться?
– Да, поэт, – если быть поэтом – значит стремиться обрести искусство.
– Вы стремились обрести искусство! И обрели его?
– Ах, волей небес искусство – всего-навсего несбыточная мечта!
Алоизиюс Бертран «Гаспар из тьмы»
Глава первая
Смерть
Шёл год Первой Олимпиады.
До белизны отшлифованные улицы Баку заполнились туристами, я сдался на милость жары и начал носить шорты, став таким образом частью социологического опроса «Потребно ли мужчине показывать голые ноги?» (от создателей хита «Женились бы вы на не девственнице?»). Волонтёры Олимпиады постоянно принимали меня, высокого, светловолосого и короткоштанного, за иностранца и своими гигантскими, словно их кисти поразила слоновая болезнь, указующими перстами из пенопласта то и дело пытались наставить на путь истинный.
Именно тогда в мою жизнь ворвался Ниязи, и на этом жизнь, какой я её знал, закончилась. При воспоминаниях о Ниязи первыми приходят на ум его брови. Чёрные, кустистые и широкие, они появляются из тумана памяти свободно парящими в воздухе, словно две лигатуры над ещё не начертанными нотами. Вслед за бровями выступает лоб – такой подвижный, что кажется, будто по нему бегает рябь, отчего лицо Ниязи бывает похоже на телевизионный экран, изображение на котором искажают волны помех.
Когда я впервые увидел его, он был облачён в волонтёрскую футболку, фиолетово-бирюзовую, знойным летом напоминающую своими цветами о северном сиянии и холодных айсбергах. Под мышками и на спине темнели мокрые пятна, почти симметричные, как чернильные пятна теста Роршаха. То, что на спине, было похоже на венецианскую маску или морду козла. Ниязи много жестикулировал, чуть не задевая собеседников руками. Он пытался впарить нам билеты на пляжный волейбол – разумеется, женский. Это было первое, самое невинное проявление его неугомонной натуры, с которым я столкнулся. В голове у Ниязи постоянно толпились, словно зеваки на ярмарке, разные бредовые идеи. Сам он и не думал воплощать в жизнь большинство своих проектов, зато активно подбивал других. Например, как мне рассказывал Мика, басист нашей группы (он и познакомил нас с Ниязи), этот ненормальный придумал (или спёр у кого-то идею, не знаю) «нищего для богатых». Это такой нищий попрошайка, который надевает очень дорогую, но сильно поношенную одежду и поджидает своих благодетелей у всяких там бутиков. Идея ясна: подать такому попрошайке мало было бы просто неприлично. Ещё Ниязи придумал приходить в крупные банки, офисы операторов сотовой связи и им подобные богопротивные заведения, где люди вынуждены брать билет с номером и долго ждать своей очереди, чтобы их, наконец, соизволили принять, и продавать эти самые билеты тем, кто сильно торопится. Ну, и дальше в том же духе.
Ростом Ниязи мне по пояс, и физиономия у него мартышечья. Сайка, правда, сказала потом, что он симпатичный. Я выразил сомнение. Легко и не слишком категорично, чтобы не показать, что я задет или там ревную. Она засмеялась и начала объяснять, что парни таких вещей не понимают, и Ниязи определённо типаж, нравящийся всем девушкам. Если им, конечно, необходим карманный молодой человек, которого можно резко выпускать, когда надо напугать кого-то, подумал я, но промолчал. «Подумал, но промолчал» – это наиболее естественное для меня состояние. Иногда оно становится причиной многих неудобств. «По-моему, он немножко похож на Колина Фаррелла», – добавила Сайка, почему-то полная решимости переубедить меня, можно подумать, сосватать собралась. «Ага, только если бы мамаша Фаррелла во время беременности всю дорогу курила, бухала и употребляла запрещённые вещества», – заключил я.
В общем, дело было под Девичьей Башней, где мы с нашей группой – квинтет Death and Resurrection, всем слушать и трепетать! – собрались, чтобы вместе решить, куда пойти. Потому что пойти в этом городе некуда, особенно если вы молоды и вас распирает от мыслей, чувств и гормонов. Мы всегда так – сначала спорим, а в итоге идём туда, где на креслах уже навсегда остались отпечатки наших задниц. Предлагаю сделать гипсовый слепок с моего и, когда я наконец свалю отсюда в большой мир и стану богатым и знаменитым, выставлять в каком-нибудь малопосещаемом местном музее.
Стоим мы и вяло перебираем возможные способы провести время. Один предлагает – все остальные отвергают. Над нашими головами с яростным писком носятся чёрные стрижи. Эмиль нервничает: под летающими птицами стоять ему неуютно, он боится, что они на него накакают. Прецеденты уже были. Отчего-то птицы обожают помечать нашего барабанщика таким образом. Может быть, их привлекают его густые кучерявые чёрные волосы, похожие на лобковые. Будь я птицей, я бы тоже не удержался. Просто он такой невезучий человек. Готов поспорить, что у него даже туалетная бумага постоянно рвётся мимо линии перфорации.
Стоим мы, страдаем, и вдруг – какой-то прямо инфразвук на всю площадь:
– Мика! Микамикамикаааа! – с характерной интонацией, с какой зовут, соблазняя едой, шкодливую кошку. Мы обернулись и увидели существо, обладавшее удивительно глубоким басом для такого мелкого тельца.
– А, Ниязи, привет, – сказал Мика и немного виновато посмотрел на нас. Мы, непатриотичные неформалы, критически уставились на новоприбывшего, одетого, как я уже упоминал, в волонтёрскую футболку. Бейджик, жизнерадостная улыбка на бровастом лице – он произвёл на меня впечатление придурка. А потом просто – произвёл впечатление. Этот человек-катализатор, этот трикстер перевернул мою жизнь. Я умер из-за него. Но всё по порядку.
– Чуваки, знакомьтесь, это Ниязи, мой э-э… друг, – представил нас (как мне показалось – с неохотой) Мика. – Ниязи, это Джонни, Эмиль, Сайка…
– Да-да, – перебил его Ниязи, который, помимо прочих достоинств, страдал от преждевременного словоизвержения, – у меня есть билеты на пляжный волейбол, кому надо? Последние остались, больше нигде не найдёте.
Моего имени в тот раз он так и не узнал. Команда начала смущённо переглядываться. Я сохранял хладнокровие – у меня есть девушка, мне на женском волейболе делать нечего.
– Такое не каждый день увидишь! Последние пять мест. У меня друзья дерутся за них, а я не хочу никого обижать. Мог бы продать кому-нибудь на стороне, чтобы они не убили друг друга. Мои друзья. Вот ты, например. – Ниязи пронзил моё солнечное сплетение пальцем, намереваясь взять в маркетинговую осаду.
– Я ему пойду! – взвизгнула Сайка.
– Ой?! – Ниязи умильно сложил ладошки, склонил голову набок и уставился на нас благословляющим взглядом. – Ты его девушка? Вот ему повезло. Никакой волейбол не нужен. – И он подмигнул ей не одним только глазом, но аж всей половиной лица. Я почувствовал, что моя прозрачная кожа неудержимо розовеет от злости. – Ну что, мужики… никто не берёт? Мне идти пора.
– Я возьму. – Эмиль, внезапно решившись, вытащил бумажник откуда-то из недр своего зада. Ниязи с невозмутимым видом забрал деньги и отдал один билет.
– Рад был познакомиться с вами. Прекрасная леди! – Эта мартышка схватила Сайку за руку и облобызала её. Сайка захихикала, идиотка такая. Будто я ей рук не целовал никогда.
Ниязи обратил к нам свою спину в анималистических пятнах пота и вроде как пошёл по своим делам, но потом резко обернулся и, щурясь на солнце, спросил:
– А что это за имя такое – Сайка?
– Саялы, – ответила моя дура и обворожительно улыбнулась.
Сайка у меня красивая, как супермодель, к тому же у неё неплохой голос. Её нежное сопрано выпевает мои брутальные и, надо признать, частенько халтурные тексты о смерти, воскрешении, борьбе и любви так торжественно и важно, что я невольно начинаю чувствовать себя очень крутым поэтом. Когда мы идём вместе по улице, держась за руки и громко переругиваясь (это когда она меня злит своей тупостью), одинокие сутулые девушки смотрят на неё с голодной ненавистью в выпученных карих глазах. У Сайки глаза светлые, почти прозрачные. Если она густо обводит их чёрным карандашом, становится вылитой лайкой. Когда наши отношения только зарождались, она бомбардировала меня роскошными признаниями в любви. А потом одно из них я случайно услышал в каком-то бабском фильме. Это открытие сделало меня очень бдительным, и благодаря ему я нашёл ещё множество фильмов, которые она цитировала. Я стал настоящим специалистом в области мелодраматического кино – и всё из-за Сайки. Теперь, когда окошко нашей переписки затапливает ядовитый сироп красивых слов, я точно знаю, что это не она придумала, но ничего ей не говорю. Мне кажется, Сайкина неудержимая тяга к хаотичному цитированию – нечто вроде болезни типа синдрома Туретта. Или ей страшно, что кто-то решит, будто внутри она пустая, словно оболочка с трещиной на спине, которую оставляет после себя насекомое, превращаясь из нимфы в имаго.
В интернете Сайка ведёт себя так же. Как минимум раз в пару дней она выкладывает в Instagram своё селфи – или не селфи, а профессиональное фото, снятое другом-фотографом, неважно – сопровождённое красивой цитатой, сюжетно никак с фотографией не связанной. Значка копирайта, ясное дело, не ставит, и большинство интеллектуально продвинутых индивидов думают, что Сайка – автор сих шедевров. Меня всё это бесит. Не то что она подрабатывает фотомоделью и подписчиков у неё в пять раз больше, чем друзей, – нет! Бесит, что цитаты, чёрт возьми, не связаны по смыслу с фотографиями! А так меня всё устраивает, приятно видеть, что у моей девушки много поклонников – а принадлежит она только мне.
Первым кандидатом в бойфренды Саялы был Эмиль. Это он приметил её на Facebook, каким-то образом напросился в друзья и вступил с ней в пространную переписку. Сайка потом показала мне её, и мы вместе посмеялись.
В вечер знакомства с Ниязи я, полупьяный, возвращался домой мимо разрушенных дореволюционных кварталов. Вытерпев полтора ужасных часа во влажном, словно тропический лес, автобусе – Сайкин дом у чёрта на рогах, но не сопроводить её в дороге, полной похотливых сатиров, обитателей общественного транспорта, было бы неразумно, – я насладился пустотой этой части города. Изредка, терзая улицу звуками жуткой местной пародии на музыку, мимо меня проезжала, хромая на все четыре колеса, какая-нибудь машина, полная таких же, как я, пьяных гуляк или ведомая нетвёрдой рукой одинокого ночного романтика. В общем, всё было спокойно. Проходя мимо жалких остатков стен, я вспоминал: здесь продавались старые, населённые жучками книги и жила собака. Где она теперь? А этот, в остальном ничем не примечательный дом украшал изумительный входной портал – весь в изящных каменных розах, я ещё думал: застану, как его сносят, обязательно деталь сопру для сестры-архитектора. Не застал.
Здесь совсем недавно исторические и архитектурные памятники стояли россыпью драгоценных камней, заляпанные раковыми опухолями пристроенных балконов, утратившие свой блеск от пренебрежительного обращения, ненужные даже своим жильцам. Здесь украшал улицу четырёхэтажный дом с атлантами. Теперь на его месте разобьют парк с чахлыми деревьями, которые через месяц высохнут на солнце. Парк, оцепеневший от мрамора, отполированного до зеркального блеска, – на такой больно смотреть летом и больно падать зимой. Я видел выброшенных на улицу атлантов. Поверженные титаны лежали навзничь, открытые жестокому солнцу и дикому ветру, но лица их оставались всё такими же невозмутимыми, словно и не был разрушен небесный свод, их могучие руки всё ещё пребывали в напряжении, поддерживая то, что уже никогда не будет восстановлено. Потом их куда-то увезли, вероятно, на базар органов, изъятых у мёртвых старых зданий.
Наверное, существуют призраки снесённых домов. Идёшь себе ночью в туалет в своей несуразной новостройке, нажравшись вечером какого-нибудь арбуза, и видишь – дверь не на месте и ведёт в несуществующую комнату, с арочными окнами, четырёхметровыми потолками и обоями в цветочек. Обои в цветочек – всегда не то, чем кажутся. На таких обязательно бывает один цветок, похожий на страшное лицо, которое таращится на тебя, когда ты ложишься в постель и суёшь блудливые руки под одеяло.
Задумавшись об этом, во дворе моего дома, не добитого исполнительной властью старинного особняка, в известные времена расчленённого на мелкие квартирки без удобств, я чуть было не наступил на бросившуюся мне наперерез крысу. Раньше за ними такой наглости не наблюдалось. Мне даже показалось, что её хвост прошёлся по моей обутой в белоснежную кроссовку ноге. Дворовые кошки-тунеядки бездействовали. Я осветил телефоном ветхую дощатую лестницу, которая вела на длинный общий балкон, чтобы не навернуться на кривых ступенях в темноте, и в ответ мне засверкали три инфернальных кошачьих глаза. Четвёртый глаз был утерян в бою.
– Дармоеды, – пробормотал я, невольно содрогнувшись, и тихо проскользнул в квартиру.
Уже засыпая, я услышал привычный скрип открывающихся створок старого платяного шкафа в моей спальне. Через минуту на кухне полилась вода и робко зазвенела посуда в раковине. До нашей семьи здесь жила одинокая женщина, которая умерла, когда я ещё витал, развоплощённый, в пространстве, выбирая себе чрево, как учит Бардо Тодол, тибетская Книга Мёртвых (почему я не выбрал родиться где-нибудь в Швейцарии?!), да так и осталась здесь, не понимая, что посторонние люди делают у неё в доме, но каждую ночь покорно мыла за нами посуду, благодаря чему мать и сестра до сих пор не напустили на неё всяких мулл и бабок. По-моему, с их стороны это подлость.
Утром мама пыталась отговорить меня от запланированной поездки на дачу к Мике (он у нас единственный, у кого есть дача, землевладелец, помещик Микаил). Моя мама никогда не может удержаться от попыток испортить мне выходные.
– Ты и так не работаешь. На кой ляд тебе выходные? – нудила она в то жаркое субботнее утро. Это неправда, я работаю, просто я – фрилансер. Но ей бесполезно объяснять. Мама думает, что если человек не сидит, скрючившись, за компьютером с девяти до шести, с унизительным часовым перерывом на жалкую трапезу, то он, стало быть, не работает. Все унылые отпрыски её коллег, которыми они так гордятся, именно таким образом и существуют.
– Зато Мика работает. И соответственно на дачу его мы можем поехать только в выходные. – Мой голос был твёрд, суров и мужественен.
– Но у меня вчера было такое ужасное давление!
– Высокое? – обеспокоился я.
– Нет, не высокое. Просто… ужасное.
Я решил, что с меня хватит.
– У тебя есть дочь, она всё равно все выходные просидит дома.
– Ты это о чём? – Хриплый и тихий, но уже таящий в себе угрозу голос оповестил меня о пробуждении сестры, услышавшей мою последнюю реплику, которая, вне всякого сомнения, напомнила ей о том, что она – никому не нужная старая дева. Её возмездие мне сейчас было ни к чему, поэтому я подхватил гитару и выбежал из дома.
Мика подобрал меня, бредущего по мёртвому белокаменному Зимнему саду с закинутым за спину единственным моим достоянием – гитарой (имя её – Сиринга, и да – я выпендрёжник). Плавки для пляжа я благоразумно надел под джинсы, чтобы не возиться на берегу с переодеваниями. Усевшись на переднее сиденье, я пристроил Сирингу между ног, словно карликовую виолончель.
Мика был единственным из нас, кто имел не только дачу (вообще-то две дачи: старую, которую пощадили ради прекрасного фруктового сада, и новую, с двухэтажным домом и бассейном), но и свою собственную машину. Он – сын богатеньких родителей, наш Мика, да и сам неплохо зарабатывает. Я всегда знал, что группа Death and Resurrection вместе со всей её музыкой была для него просто развлечением, способом убедить себя и других, что он – творческая личность, а в будущем он станет толстомордым мужиком без возраста, зато в костюме и на большой машине, и жена его будет скучной и корыстной. Ну а пока мне, главному, так сказать, поршню, толкающему вперёд творческую жизнь нашей команды, было выгодно пользоваться мелкими удобствами, которые он предоставлял. В одной из комнат его старого дачного домика мы устроили студию звукозаписи. Вообще-то до зимы этого года студия находилась в его городской квартире, но потом предки взбрыкнули и нам пришлось перебраться в никому не нужный ветхий дом на даче.
– Сейчас заедем за Джонни, потом за Эмилем, а потом за Сайкой, – объявил Мика. Я с ужасом понял, что при таком раскладе Сайка будет сидеть рядом с Эмилем. Разумеется, я не опасался за свой череп, ещё не потревоженный ростом рогов, – Сайка отшила Эмиля давным-давно, почти сразу после того, как они начали переписываться. Но сам факт, что они будут сидеть сзади бедром к бедру, напрягал.
Всю дорогу Эмиль зудел. Джонни пытался курить, неистовый ветер заталкивал дым обратно в машину. Придерживающийся здорового образа жизни Эмиль театрально кашлял. Его негодующий кашель и гневные взгляды в сторону курильщика изумительно сочетались с футболкой, на которой готическим шрифтом утверждалось, что «I love violence». Эмилевская любовь к насилию, вероятно, проявилась во всю свою мощь, когда он всё-таки заставил Джонни избавиться от сигареты.
– Эмиль, тебе надо было не в рок-группе играть, а петь в церковном хоре, – не удержался я от ехидного комментария.
– Пошёл ты! – кажется, моя ненависть взаимна. – У меня нет денег всю жизнь потом лечиться.
– Это пока их нет. Скоро будут, когда выпустим альбом. – Оптимистичный, как большинство благополучных от рождения людей, Мика попытался наладить отношения в группе.
– Смотри на дорогу, блин! – рявкнул Эмиль.
Пару раз он звал Сайку на свидание, она ломалась и отказывалась, а потом, когда встреча всё же состоялась, он сразу проявил свои лучшие качества: занудство, необоснованное самодовольство и склонность к морализаторству. Сайка продолжила переписываться с ним – отчасти из вежливости, отчасти, по её признанию, из надежды подобраться через него ко мне, красавцу. Однажды она выставила новые фотографии, которые делает для неё друг-фотограф (он и правда только друг, я проверил) – в шифоновом платье до пят. В тот вечер Эмиль закидал её сообщениями, требуя объяснить, зачем такие «вызывающие» фотографии. «Ты что, начала новый призыв?» – написал он. Я видел эти «вызывающие» фотки – они ничем не отличаются от обычных рекламных снимков из модных журналов, и Сайка на них выглядит не более откровенно, чем пластмассовые плечики, на которых висит платье. Но Эмиль, у которого в голове варится и уже начинает подгорать межкультурная каша, счёл иначе. Тоже мне, панк хренов. Девственник и вегетарианец.
Дорога между четырёхметровыми каменными заборами, за которыми могли скрываться чиновничьи дворцы, трущобы, возведённые местными жителями, полигоны для испытания космических ракет, порталы в другие миры, – дорога разветвилась и истончилась, как конец секущегося волоса, начала кружить и петлять и превратилась в просёлочную, в колдобинах, укутанную густой жёлтой пылью. По обочине плелась, тряся облезлым задом с хвостом-улиткой, собака. Когда мы проезжали мимо, она косо поглядела на нас, явно думая нехорошее. Мы миновали несколько заборов с надписями типа «Того, кто мусор здесь сваливает, я маму имел» и мусорными кучами под ними. Один раз я обернулся на старинную «Волгу», пухлую и красивую, которая приткнулась у забора и была в очень запущенном состоянии. Кто-то похитил накапотного оленя. Жаль, что не я.
Трясясь, мы въехали во двор дачи и остановились. Я первым вылез из машины и вдохнул загородный воздух. Кругом стояла благодатная тишина. Спрятавшись от солнца на окружающей дом веранде, опутанной виноградником, я ждал, пока остальные насуетятся всласть, перетаскивая вещи из багажника. Когда хибарка, построенная ещё во времена Микиного прадедушки, была откупорена после нескольких холодных месяцев, изнутри потянуло приятным запахом сырости и прохладным воздухом. Я вошёл в дом, и на меня навалилось сонное дачное безмолвие. По стене с осыпающейся штукатуркой пробежала вспугнутая нами ящерка.
Это была настоящая, традиционная апшеронская дача, с плоской крышей, маленькими тёмными комнатами и совершенно особенной магией лета, солнца, моря и деревьев: граната, миндаля, инжира. Мика был бы рад устроить нас в новом дачном доме, но тут я был согласен с его родителями – правда, они считали, что новая дача для нас слишком хороша, я же решил, что она ужасна: почти весь участок выложен уродливой плиткой, а из развлечений – только кондиционированный воздух да хлорированная вода в бассейне.
Мне хотелось как можно скорее оказаться на море, но остальные, с трудом проснувшиеся утром и не успевшие позавтракать, устроили возню с чайником, горячим тендиром, копчёной колбасой и ещё чёрт знает с чем. Пока они там суетились вокруг стола, мешая друг другу, я лежал на кушетке, закинув руки за голову, а друзья бросали на меня укоризненные взгляды, впрочем, не пробивавшие мою броню.
Обстоятельный завтрак занял не меньше сорока минут, и когда мы вышли на дорогу к морю, солнце успело забраться довольно высоко. По словам Мики, дорога должна была за пятнадцать минут вывести нас напрямую к дикому пляжу. Я удивился, услыхав про дикий пляж; мне казалось, что всё побережье давным-давно захвачено, нарезано на куцые, нагоняющие клаустрофобию куски, перегорожено и застроено ресторанами. Но, судя по дороге, пляж и правда мог оказаться диким. Большая часть участков были заброшены. Кое-где попадались старые полуразвалившиеся дома. На некоторых участках не было даже домов – только сорняки да крадущиеся, припадающие к земле виноградники.
Через десять минут дорогу нам куртиной перегородил чей-то забор. Мика клялся, что его здесь раньше не было и по закону быть не могло. Нам пришлось сделать крюк, а потом и вовсе идти через один из заброшенных участков по колючкам. Сайка всю дорогу ныла, теряла шлёпанцы и просилась на руки. Сжалившись, я посадил её себе на закорки.
Наконец показались шелковистые, блестящие песчаные дюны, поросшие серо-зелёными «заячьими ушами». Границу между дорогой и дюнами охраняли странные останки индустриальных сооружений – какие-то широченные короткие трубы, уложенные на манер олимпийских колец, похожие на зловещие бетонные соты гигантских пчёл-мутантов. Слева от труб лунным кратером зарылся в песок огромный, метра четыре в диаметре, колодец. Удивительно, но никого, кроме меня, этот колодец не заинтересовал. Они так и прошли мимо, не взглянув в его сторону, опустив головы к раскалённому песку. Я осторожно подкрался к колодцу и слегка наклонился над ним, но дна не увидел. Я наклонился ещё больше, но дна всё ещё не было видно. Тогда, собравшись с духом, я наклонился совсем низко и, обмирая, увидел далеко внизу чёрную воду. В этой воде могло плавать всё что угодно. Из колодца странно пахло, кажется, серой.
– Сайка, иди сюда! – позвал я, и эхо из колодца многократно усилило мой зов – «Иди сюда! Иди сюда!». Сайка неохотно вернулась, удивляясь, зачем это я остановился. Я предложил ей заглянуть в колодец. Она боялась и отказывалась, но в итоге согласилась, при условии что я подержу её.
– Ой! Это жесть какая-то, – сказала Сайка, нагнувшись над этой бездной, и вдруг с её шеи соскользнула золотая цепочка с кулоном, которую я подарил ей на Новый год, и улетела прямо в воду. То было особое украшение, заказанное мною у ювелира: замысловато переплетённые N и S – первые буквы наших имён. Послышался громкий всплеск, а вслед за ним – я готов поклясться, что слышал его, – тихий смех, раздавшийся из колодца. Сайка немедленно устроила истерику по поводу утерянного сокровища.
– Не переживай ты так, – утешал я её, сильно озадаченный услышанным (или послышавшимся?) смехом. – Куплю я тебе новую цепочку, и кулон закажу ещё лучше.
Она так и дулась на меня остаток пути, но, увидев море, мы забыли и о колодце, и о цепочке, и обо всём на свете.
Время до обеда пролетело приятно и незаметно. Побережье ещё не успели замусорить до такого состояния, когда некуда бывает поставить ногу: пляжный сезон начался не так давно, да и место было не слишком посещаемым. Мы с Сайкой гуляли вдоль линии прибоя и искали в выброшенном морем мусоре отшлифованные осколки стекла, но, к сожалению, так ни одного и не нашли. Джонни курил, сколько хотел. Эмиль сильно обгорел на солнце и отказался от крема заботливой Сайки, заявив, что лучшее средство от солнечного ожога – спирт. Со сладостным томлением я предвкушал, как этот остолоп намажется жгучим иссушающим этанолом. В общем, удачный выдался денёк.



