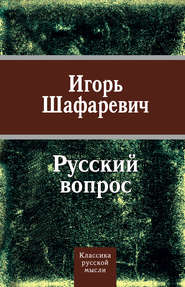
Полная версия:
Русский вопрос (сборник)
Дело с предоставлением евреям политического равноправия двигалось медленнее. В Англии в 1753 году парламент принял закон, разрешающий евреям (т. е. лицам иудейского вероисповедания) натурализоваться в Англии и приобретать английское гражданство. Однако это решение вызвало столь многочисленные и бурные протесты, что правительство, опасаясь исхода предстоящих выборов, провело через парламент новый билль, отменяющий только что принятый. Французская революция с ее принципами равенства и братства, естественно, породила у евреев надежды на приобретение равноправия. В основных провинциях Франции число евреев было очень не велико – около 10 тысяч, но в примыкающих к Германии Эльзасе и Лотарингии их проживало около 40 тысяч. Обращенная в Национальное Собрание просьба евреев о предоставлении им равноправия натолкнулась на сопротивление депутатов от Эльзаса и Лотарингии, наказы которых требовали от них бороться против этой меры. Обсуждения возобновлялись несколько раз и были очень бурными. Статья «Еврейской Энциклопедии» сообщает об особых наказах от городов Эльзаса и Лотарингии. Так, наказ от граждан Метца содержал жалобы на «вред, происходящий от евреев»; Страсбург требовал особых правил для еврейской торговли; Гаген – законов против еврейских ростовщиков; Нанси, Номени, Диез и Миркур – ограничения числа евреев в области и т. д. В 1789 г. решение о предоставлении равноправия не прошло одним голосом. В прениях аббат Мори говорил: «Евреи – люди и, следовательно, наши братья. Пусть же им покровительствуют, как людям вообще, но не как французам». Вопрос опять дебатировался в 1790 г., и предоставление равноправия опять было отклонено. Предоставление равноправия поддерживал клуб якобинцев и Коммуна. Оно было провозглашено декретом от 27 сентября 1791 г., хотя одновременно был принят и декрет о пересмотре долгов еврейским ростовщикам. То же положение сохранилось и в Конституции эпохи консульства и в начале Империи. Во время революционных и наполеоновских войн эмансипация распространялась и на другие завоеванные Францией или находящиеся под ее влиянием территории. Так, она охватила всю Германию, закон об эмансипации евреев в Пруссии, в частности, был принят в 1812 году. Идею предоставления евреям полного равноправия поддерживал влиятельный канцлер Гарденберг.
Такие бурные изменения, как всегда, вызвали и реакцию – как идейную, так и политическую. Например, Фихте писал в 1793 году: «Почти все страны Европы охватывает мощное, враждебно настроенное государство, находящееся в состоянии войны со всеми остальными государствами, и в некоторых из них чудовищно угнетающее граждан. Это государство основано на ненависти ко всему человеческому роду». Такой идеологической реакции на эмансипацию параллельна позиция практического и прагматического деятеля Наполеона. В 1806 году он созвал заседание Государственного Совета для обсуждения вопроса о положении евреев во Франции.
Поводом были жалобы на то, что в Эльзасе еврейские ростовщики и спекулянты оказались хозяевами почти всех земель и скота (даже Гретц допускает, что «некоторые еврейские ростовщики, возможно, проявили большую жесткость»). Наполеон сказал:
«Французское правительство не может быть равнодушным к тому, что нация, способная на любые низости, стала безраздельно господствовать над двумя прекрасными департаментами Эльзаса. Целые деревни обращены евреями в свою собственность, они заменили феодалов. Они рискуют однажды быть перебитыми возмущенным населением Эльзаса, как это уже столь часто случалось, и почти всегда по их вине.
Опасно оставлять ключи к Франции: Эльзас и Страсбург в руках нации шпионов, нисколько не привязанной к этой стране.
Это нация внутри нации. Евреи не относятся к той же категории, что протестанты и католики. Они должны быть подчинены политическому праву, а не гражданскому праву, так как они не граждане».
В результате права евреев во Франции были ограничены законом от 30 мая 1806 года. Евреи, не жившие в департаменте Верхнего и Нижнего Рейна, не могли в них селиться. В других департаментах они могли селиться, только если приобретали землю и занимались земледелием. Они лишались права выставлять заместителей по рекрутскому набору. Статья 18 говорила:
«Настоящий декрет имеет силу в течение 10 лет, так как мы надеемся, что по истечении этого срока не будет разницы между евреями и другими гражданами. Если же наша надежда нас обманет, то срок действия декрета будет продлен на столько, на сколько мы найдем нужным».
Поражение Наполеона привело к тому, что права, предоставленные евреям в других странах, были взяты назад почти повсюду. Но это была попытка бороться с общей тенденцией истории. С каждой революцией (1830, 1848 гг.) права евреев увеличивались – и это было связано с тем, что евреи революции энергично поддерживали. В Англии равноправие было предоставлено в 1825 г., тогда же в Португалии, в Бельгии – в 1830 г., в Канаде – 1832 г. В Германии революционный франкфуртский парламент принял закон об эмансипации в 1848 г. (он был распространен в том же году на Кассау и Гановер, в 1861 г. – на Вюртемберг, 1862 г. – на Баден, 1868 г. – Саксонию, и с образованием 11870 г. Германской империи – на всю нее). В Дании равноправие было дано евреям в 1849 г., Норвегии – 1851 г., Швеции и Швейцарии – 1865 г., Испании – 1858 г., Австро-Венгрии – 1867 г., Италии – 1870 г., Болгарии – 1878 г., Турции – 1908 г., России – в феврале 1917 г.
Еврейская эмансипация является поразительным историческим явлением. В исторически очень короткий срок (один век) большой слой европейского еврейства отказался от своего образа жизни, как бы специально созданного, чтобы отгородить его от других народов, и принял образ жизни окружающего европейского населения. Создается впечатление, что история сжимала пружину отчуждения вокруг еврейства, чтобы тем сильнее дать ей распрямиться. Это был переломный момент в истории взаимоотношений евреев с другими народами. Может ли такой внезапный переворот быть полностью объяснен ростом экономического влияния и более тесными экономическими связями, на которые мы указывали в начале параграфа? Вряд ли! Богатым, а особенно богатейшим евреям эмансипация не очень-то была нужна. Например, основатель банкирского дома Ротшильдов, Амшель Ротшильд, был принят при дворе в Вене, при этом подчеркивая свою верность всем ортодоксальным ритуалам – и это вызывало некоторое любопытство, но и уважение. От эмансипации выиграли скорее бедные евреи типа Мендельсона.
Очень скрупулезный исследователь духовной жизни еврейства Гершом Шолем положил начало изучению другого, религиозного и духовного, аспекта этого движения. Он связан с одним религиозным движением того времени, с так называемым саббатианством. В 1665 г. еврей из Малой Азии Саббатай Цви объявил себя Мессией и имел довольно большой успех, вызвал значительное движение, причем не только в Оттоманской империи, но и в Европе. Многие евреи в Амстердаме и Гамбурге продавали свое имущество, чтобы отправиться на Восток и примкнуть к новому Мессии. Были распространены различные ожидания, связанные с 1666 г. Но существовало течение, которое, основываясь на книге Зогар, предсказывало появление Мессии в 1648 г. – время успеха Саббатая Цви. Это было время всеобщих религиозных исканий в Германии, только что кончилась 30-летняя война, в Англии начиналась революция, в России назревал раскол. Мистические течения разных стран и народов влияли друг на друга. Секретарь Лондонского Королевского Общества Ольденбург писал Спинозе: «Здесь все говорят о возможности возвращения евреев на свою родину. Если эти надежды сбудутся, то это произведет переворот». На волне этого возбуждения Саббатай Цви направился в Турцию, чтобы обратить в свою веру султана. Но там он был схвачен турецкими властями, посажен в тюрьму, в результате отрекся от своих притязаний и даже перешел в ислам, приняв имя Мухамед Эфенди. Новое направление всему течению дал известный тогда молодой талмудист Натан из Газы. Он выдвинул мистическую концепцию, согласно которой Мессия, прежде окончательного торжества, должен совершить труднейший из своих подвигов: сойти в царство Зла и Нечистоты, чтобы извлечь плененные там божественные «искры». Этот подвиги совершил, по его мнению, Саббатай Цви, не только не опровергнув этим, но именно подтвердив свое избранничество. Более радикальные выводы из этого учения заключались в том, что все евреи должны стать марранами (марраны – испанские евреи, внешне принявшие христианство, но тайно продолжавшие следовать иудаистическому Закону). Все должны спуститься в бездну Зла, чтобы преодолеть его изнутри. Последователем этого учения был еврей из Салоник Яков Франк, переселившийся в часть Польши, принадлежавшую Австрийской империи, основатель секты «франкистов». (Франками назывались в Турции евреи из Салоник, так что его имя собственно означает «Яков из франков».) Следуя примеру Цви, Франк принял католицизм вместе с большой группой последователей, которые все получили польское дворянство высокого ранга. Он учил, что теперь отменяется старая Тора, грех может быть свят, приобретает новый смысл высказывание Мишны, что Бога надо почитать и «дурными страстями». Каждый должен взять на себя грех марранства, сердце и уста не должны говорить одно и то же. Франк учил: как праотец Иаков обманул своего отца, надев звериную шкуру, так и мы должны надеть одежду христианина, чтобы быть успешнее в нашем обмане. То, что в учении саббатиан называется «бездной Зла и Нечистоты», вполне соответствует представлению ортодоксального еврейства об окружающем мире и населяющих его народах. Тогда «погружение в Бездну» представляется мистическим аналогом эмансипации, ее духовным предвидением. Или наоборот, эмансипация – практической реализацией мистического видения.
Близкую мысль высказывает Гершом Шолем. Он считает, что саббатианство сыграло большую роль в подготовке реформы иудейства и приобщения его к идеям просвещения в XIX в. Шолем пишет: «Теперь (конец XXI и XIX в.) стремление к революционизированию не должно было искать выхода в практике “святого греха”, но могло найти выход в перестройке жизни».
Сам Франк известен только как пророк или идеолог. Приняв католичество, он продолжал проповедовать свое учение, имел последователей, тайно следовавших его доктрине, но принадлежавших и к ортодоксальному иудаизму. Его учение было смесью иудейской мистики с нигилизмом: предсказаниями и призывами к уничтожению, нисхождению в бездну так, чтобы ниже уже нельзя было опускаться. Он учил, что пути вверх и вниз сходятся, святое и грешное не различаются (в частности, это выражалось в нарушении сексуальных норм). Хотя сам Франк периодически посещал мессу, его учения всплыли наружу, и он был приговорен к заключению в крепость в Ченстохове. Оттуда его освободила война, и после очередного раздела Польши он переселился в местечко Офенбах в Австрии. Он умер в 1788 г. и еще перед смертью говорил: «Я пришел, чтобы освободить мир от всех законов и заповедей. Все должно быть разрушено, чтобы бог явился». Уже поколение младших последователей Франка принимало участие в движении эмансипации. Это, как говорят исследователи, является сильным затруднением при исследовании всего течения. Именно желая быть настоящими «просвещенными» (в принятом тогда смысле этого слова) европейцами, они не только стремились всячески скрыть свои франкистские истоки, но и даже уничтожили ряд франкистских документов, стыдясь их мистического радикализма.
Шолем детально восстановил биографию одного такого выходца из франкистской среды Мозеса Добрушка. Он родился в 1753 г. от родителей, связанных с франкистской средой (или даже прямо принадлежавших к секте). Он, во всяком случае, приходился родственником Франку. В 1775 г. он крестился вместе с несколькими братьями и сестрами (может быть, под влиянием франкистских идей). При этом он принял имя Франца Томаса Шенфельда (а его жена Элька – Вильгельмины). Крещение, видимо, не нарушило его тесных связей с франкистами. Он играл видную роль в поставках в австрийскую армию, что говорит о его значительном состоянии. Состоятелен был и его отец, вместе с Франком, Поппером и Хенигсбергером имевший монополию на всю табачную торговлю в Австрии. На период после крещения приходится активная деятельность Шенфельда-Добрушки в распространенном тогда масонском ордене «Азиатских братьев». Видимо, благодаря ему был открыт доступ евреям в этот орден (в то время как раньше германское масонство было закрыто для евреев). В те времена участие в масонских ложах было очень существенным этапом при вхождении в «просвещенную» европейскую среду. Другим активным деятелем того же ордена был Гиршфельд. С другой стороны, под их влиянием орден воспринял такие иудаистские элементы символики, как шестиконечная звезда и семисвечник.
Тут наступает некоторый оставшийся загадочным эпизод. В 1788 г. умирает Франк. В кругах его сторонников распространяется слух, что его наследником будет Добрушка. Неясно, то ли ему это положение предлагали, но он отказался, то ли он его добивался и не получил. В любом случае его судьба радикально меняется: он уезжает во Францию и принимает опять новое имя – Юниуса Фрея. Там он отдается революционным идеям (но и спекуляциям). Он держит дом на широкую ногу, его сестра выходит замуж за ближайшего соратника Дантона – Шабо. Но когда кружок Дантона был разгромлен, с ними погиб и Добрушка. Он был гильотинирован в 1794 г. Во избежание недоразумений следует заметить, что это был единственный еврей, про которого известно, что он играл активную роль во Французской революции. Но символическую тонкую нить можно проследить: классический иудаизм – саббатианство – идеология европейского Просвещения – Французская революция.
Литература
Roth С. The Jews in the Renaissence. N.-J., 1959.
Sombart W. Цит. в Гл. 6.
Graetz H. Geschichte der Juden. Bd. II.
Berne L. Briefe. 1927.
Bartels A. Lessing und die Juden. Leipzig, 1922.
Bartels A. Geschichte der deutschen Literatur. Bd. II. Leipzig., 1905.
Fichte Johann Gottlib Beitrag zur Berichtung der Urteile des Publikums uber Franzosische Revolution. Leipzig, 1922.
Perry Thomas W. Public Opinion, Propaganda and Politics in Eigteenth-Century England. Cambridge, Mass, 1966.
Scholem Gerschom Die jbdische Mystik in ihrer Hauptstrumungen. Zurich, 1957. Gerschom Scholem Du Frankisme au Jacobinisme. Paris, 1981.
Mandel Arthur Le Messie Militant. Milano, 1989.
Америка. «Еврейская Энциклопедия». СПб., 1911. Т. II.
Антисемитизм. «Еврейская Энциклопедия». СПб., 1911. Т. II. Масонство. «Еврейская Энциклопедия». СПб., 1911. Т. X.
Саббатай Цеви и саббатианское движение. «Еврейская Энциклопедия» СПб., 1911. Т. XIII.
Пруссия. «Еврейская Энциклопедия». СПб., 1911. Т. XIII.
Глава 8
Золотой век ассимиляции
(От наполеоновских войн до первой мировой войны)
XIX век (а точнее, период, указанный в заголовке этой главы) является периодом массового вхождения западноевропейского еврейства (а к концу века – восточноевропейского) в европейскую культуру. Это эпоха усвоения подавляющим большинством еврейства европейского образа жизни, в основном, еще ничем не омраченного вхождения евреев и все растущего их влияния почти во всех сферах деятельности европейского общества. Казалось, что изолированности еврейства в европейском обществе приходит конец, хотя предвестники заложенных в этом процессе трудностей появились тогда же.
Можно все же выделить несколько областей, в которых еврейское влияние становится особенно заметно и эффективно. Особенно важно, что к традиционной сфере приложения еврейских сил – финансам – присоединяются новые: искусство (особенно литература) и пресса. Благодаря этому еврейское влияние перестает быть внешним, центр тяжести переносится на идеологию, точкой приложения этого влияния становится не столько материальная, сколько духовная жизнь европейских народов.
О большом количественном участии евреев в западноевропейском искусстве можно судить по знаменитым, всем известным именам. Таким, например, как композиторы Мейербер, Мендельсон, Малер. В более легком и доходчивом стиле по всей Европе гремел Оффенбах (а либретто его опереток писал Галеви). Мировой славой пользовались великие актрисы Сара Бернар и Рашель. Но, пожалуй, наиболее сильным было влияние евреев в литературе, и наиболее ярким эпизодом – их участие в течении немецкой литературы, сложившемся в 20-е годы и получившем название «Молодой Германии». Историк немецкой литературы Бартельс говорит о нем:
«“Молодая Германия” – это по существу берлинско-еврейский продукт, возникший в салоне Рахель Левин».
Самыми известными деятелями этого течения были Генрих Гейне и Людвиг Берне (Леб Барух).
В Гейне особенно ярко проявились те противоречия, с которыми приходилось сталкиваться европейским писателям-евреям. С одной стороны, был вынужден творить и добиваться успеха в немецком национальном искусстве, как немецкий поэт, пишущий на немецком языке. Его яркий талант мог проявиться только в этой форме, а талантливость его несомненна – недаром его переводили и Лермонтов и Тютчев. Но, с другой стороны, он был продуктом еврейского духовного мира, и еврейские традиции не только мешали ему стать выразителем немецкого мироощущения, но и отталкивали от него. Не обладая непосредственными чувствами, открывающими красоту немецкой природы, языка и культуры, он вынужден был воспринимать их через других. Так, он писал своему другу Мозеру:
«Я могу передавать только восприятие прекрасного другими людьми».
Благодаря этому его стихи лишались непосредственности, были часто подражательными. Даже знаменитая «Лорелея» по фабуле, образам, ритму почти точная копия стихотворения Брентано. Те же причины приводили к тому, что в стихах Гейне такое место занимает высмеивание, переходящее в ругань, часто мало чистоплотную, – элемент, совершенно чуждый поэзии. Его поэмы «Аттатроль», «Германия. Зимняя Сказка» и др. – лишь зарифмованные фельетоны. Этот фельетонный стиль он первый внес в поэзию.
Гейне были присущи очень сильные еврейские национальные чувства, а в то же время он мог реализовать свой яркий талант только как немецкий национальный поэт. Это порождало в его душе раздвоенность и конфликт. Все это накладывалось на страстный и раздражительный темперамент и было источником чувства ненависти, все более подчинявшего себе поэта.
Два предмета ненависти всю жизнь мучили Гейне: немцы и христианство. Он упражнялся, придумывая для немцев клички пообиднее, которые приставали бы, как плевок, вроде «народ-лакей» или «народ-пудель» (Bedientenvolk, Pudelvolk). Он писал, например:
«Геттингенские жители разделяются на студентов, профессоров, филистеров и скотов. Все они не многим отличаются друг от друга».
Ведь это лишь другой способ сказать, что немцы – скоты. По существу – что в этом остроумного? Одно из его последних произведений, поэма «Германия. Зимняя Сказка» – кончается тем, что богиня города Гамбурга предлагает ему открыть будущее Германии, но вместо кофейной чашки гадает на ночном горшке. Не в силах выдержать этот «запах немецкого будущего», Гейне бежит. Не раз он высказывает мысль, что все его несчастья произошли из-за того, что борьба Германии за освобождение от Наполеона увенчивается успехом. Ватерлоо – вообще всемирно-историческая катастрофа: «Куда лучше, если бы поколотили нас». В письме к своему другу Сете он говорит:
«Все немецкое мне противно, а ты, к сожалению, немец. Все немецкое действует на меня как рвотное. Моим ушам отвратителен немецкий язык. Мои стихи противны мне, потому что они написаны по-немецки. Даже писание этого письма мне тяжело, ибо написание немецких букв болезненно действует на мои нервы».
Гейне крестился, как он говорит, «чтобы получить входной билет в европейскую культуру», и это сделало его положение еще более двусмысленным. Он писал своему другу Мозеру:
«Уверяю тебя, если бы закон не преследовал кражу серебряных ложек, я бы не крестился».
В дневнике он записал стихи:
«И ты приполз к кресту, который ты презирал, который еще несколько недель назад надеялся втоптать в грязь».
Его первая же трагедия «Альманзор» была, по его собственным словам, неудачной, так как уж слишком проникнута ненавистью к христианам. Первая попытка ее поставить кончилась скандалом. В письме Мозеру он говорит:
«Меня одновременно преследуют христиане и евреи. Последние за то, что я не отстаиваю их равноправие в Бадене, Нассау и других дырах. О, близорукие! Лишь у ворот Рима можно защищать Карфаген».
Кто же этот «Рим», от которого он хочет спасти «Карфаген»? Историк Трейчке приводит слова Гейне:
«Есть такие разновидности идей-насекомых, которые долго смердят, если их раздавить. Таково христианство. Этот духовный клоп был раздавлен 1800 лет назад (распятие Христа?!), а до сих пор отравляет нам, бедным евреям, воздух».
Национально-еврейские чувства так часто прорывались в течение всей его жизни, что несомненно, некоторые презрительные выпады против еврейства (обязательно уравновешивавшиеся такими же выпадами против христианства, вроде: «Раввин и капуцин одинаково воняют») не были искренними. Он писал, например:
«О Моисей, рабби Мойше, великий борец с рабством, дай мне гвозди и молоток, чтобы я смог прибить уши наших уютных рабов в черно-красно-золотой ливрее к Бранденбургским воротам».
Или уверял, что если бы на свете остался только один еврей, то каждый должен был бы почесть за счастье ехать 100 часов, чтобы только пожать ему руку. Он пишет другу:
«Любовь к строгому и последовательному раввинистическому духу уже много лет таится во мне».
Незадолго до смерти Гейне сказал: «Я вернулся к Иегове». «Краткая еврейская энциклопедия» так характеризует Гейне:
«Его произведения меньше всего представляют собой воплощение немецкого национального характера или духа».
Против этого трудно что-либо возразить, но мы сталкиваемся с загадкой, столь часто потом встречающейся, что сейчас уже и не кажется загадочной: как, какими методами и силами удалось выдать черное за белое? Убедить немцев, да и все человечество, что Гейне, враг всего того, что (правильно или неправильно) было дорого немецкому национальному сознанию, по его собственным словам, ненавидевший все немецкое, – был величайшим, да еще именно немецким поэтом?
Берне сейчас почти забыт, но тогда его имя произносилось наравне с именем Гейне (и оба были смертельными врагами, раздраженно понося друг друга, вытаскивая на всеобщее обозрение неприглядные подробности личной жизни соперника). Лишь с несколько иными оттенками, Берне мучили те же проблемы, что и Гейне. Один из представителей «Молодой Германии» Вольфганг Менцель писал о нем:
«Для него оправдано все, что действенно как разлагающий Германию элемент. Он не говорит нам, что же он хочет основать, когда он все разрушит. Он думает, что об этом позаботятся французы. Нужно лишь сломать эту стену, сделать немцам все немецкое ненавистным, презренным, смешным, все французское желанным и помочь чем только возможно тому, чтобы французы стали господами Германии, сначала путем братания, потом – вторжения».
И действительно, Берне, например, всю жизнь ненавидел Гёте. Он писал:
«С тех пор как я себя помню, я ненавижу Гёте».
Он цитирует одно письмо, якобы полученное им:
«Этот Гёте – раковая опухоль на германском теле, а что всего хуже, все считают болезнь за высшее здоровье».
Берне комментирует:
«Как это все справедливо! (…) Гёте – король своего народа: свергнув его, легко справиться с народом».
С другой стороны, он делится своими мыслями:
«Дурные евреи не хуже дурных христиан (…). Они даже имеют то преимущество, что умнее их (…). У них есть кровь или нет ее, но у них нет водянистого сока улиток. Одним словом, они не филистеры. О, горе филистерам…»
В одном письме Берне рассказываете о юношеском переживании, по-видимому, сильно повлиявшем на его жизнь. Во время оккупации Германии французами он должен был куда-то ехать из родного Франкфурта и для этого получить паспорт. Французский офицер, взглянув на него, написал «еврей из Франкфурта».
«Кровь моя остановилась (.). Тогда я поклялся в сердце своем. Погодите! Когда-нибудь я вам пропишу паспорт, и вам, и всем прочим! И не правда ли, не правда ли, я свою клятву выполнил?»
В другом месте он пишет:
«Ничего не забыть, ничего не простить, никакого примирения, кладущего границу ненависти! Все наши мысли – с останками наших отцов. Лишь в будущем будем мы жить, лишь за будущее – умирать».



