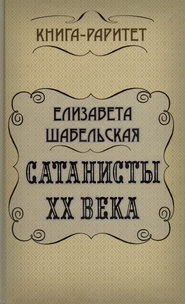скачать книгу бесплатно
– И вы не побоялись порвать с этими извергами, ежедневно рискуя жизнью?
– Не мог же я идти с ними дальше по пути святотатства и преступлений!.. Я решился выйти из ордена, пользуясь предлогом отбывания воинской повинности, с которой они пока еще, в Пруссии по крайней мере, должны считаться. Впрочем, членов первых трех посвящений масоны исключают легко, так как они не могут повредить ордену, не зная ничего серьезного. Скорей, наоборот: разнося по белу свету молву о добродетели и благотворительности различных «лож», приносят ему пользу. Опасны только знающие, дальновидные или догадывающиеся о действительности. За такими устанавливается «наблюдение», и если подозрение об их «ненадежности» подтвердится, то их немедля перечисляют в разряд «минеев», то есть доносчиков и… «устраняют» при первой возможности… Талмуд называет подобные убийства «богоугодным делом»…
Профессор замолчал. Негодование – давнишнее глухое и бешеное негодование, сдерживаемое целыми годами, прорвалось, наконец, и душило его, сжимая горло и ложась свинцовой тяжестью на грудь.
Ольга со страхом глядела на человека, всегда такого сдержанного и спокойного. Она начала понимать страшную силу и страшное влияние масонства, как и ту бешеную ненависть, которую должен чувствовать к тайному обществу человек, узнавший правду и вырвавшийся из его сетей. И вдруг ей припомнилась рукопись профессора, готовая к печати.
– Боже мой! – невольно воскликнула она. – Ведь если эта рукопись будет напечатана, если масоны узнают о ее существовании и содержании, они убьют вас как изменника…
Молодой ученый грустно улыбнулся.
– Потому она и не напечатана еще. Не сочтите меня трусом, Ольга, за то, что я боялся за своего старика-отца, которого моя смерть убила бы. А затем и за вас, Ольга… Мне не трудно было догадаться о планах масонов относительно вас по первым вашим словам. На женщин масоны действуют иначе. Примени они к вам те же способы, которыми они совращают мужчин, – жаждой широкой и светлой деятельности, быть может, и вы попали бы в адскую сеть, как попался я, как попадались многие другие… по всему миру… Да и мог ли я не поддаться влиянию такого человека, как доктор Менцерт…
– Как?.. – чуть не вскрикнула Ольга. – Знаменитый Менцерт? Великий естествоиспытатель, психиатр и историк?..
– Вы знаете это имя, оставшееся и поныне гордостью и славой. Профессор Менцерт увлекал тысячи слушателей всех национальностей, собиравшихся со всех концов мира послушать его лекции. Могли ли они не увлечь меня?.. Когда и как я стал масоном, вы знаете из моих воспоминаний. Но о Менцерте и его роли в моем вступлении в число свободных каменщиков я не сказал ни слова… Не посмел я написать и того, что тот же Менцерт, погубивший меня, стал моим спасителем… Он раскрыл мне впоследствии настоящую цель и средства…
– Как же могла произойти такая перемена? – спросила Ольга.
– Зная, что вы можете быть окружены шпионами, я боялся сообщить вам ту правду, знание которой составило бы для вас страшную опасность. Но я заранее решил передать вам остальное на словах.
– Вы говорите о Менцерте? – спросила Ольга.
– Да, о Менцерте, бывшем масоном 33-го посвящения… Это последняя степень, дающая звание «великого мастера и члена верховного синедриона», т. е. возможность быть одним из нескольких сот человек, не более того, на весь мир, знающих истинные цели и истинные средства всемирного масонства, знающие также его неразрывную связь с жидовством, верней сказать – его происхождение от жидовства, создавшего в отдаленные века древности страшное орудие «тайного общества», называвшегося с XVI века масонством. Надолго ли еще останется это имя? Как знать…
– Об этом говорит Конон Дальбанчелли, смелый француз, образовавший пять лет назад антимасонскую лигу во Франции. Вы дали мне читать одну из его брошюр, Рудольф.
– Да, благодаря Богу историю существования тайных обществ начинают понемногу раскрывать добросовестные историки. Школа Тэна сделала свое дело, ученики его смело идут по указанной им дороге, называя вещи своими именами. Но внутренний строй масонства и, главное, средства его влияния на судьбу современных государств и народов остаются покрытыми непроницаемой тайной, уже потому, что всякого, кто осмелился бы приподнять завесу, скрывающую эту сторону масонского вопроса, ожидает смерть… быстрая и неизбежная.
– В таком случае, молчите… Ради бога, молчите, Рудольф. Я не хочу ничего знать… не хочу подвергать вас опасности.
Красивое молодое лицо серьезного ученого осветилось.
– Ольга… Эти слова… этот тон… Они заплатили мне вперед за все опасности будущего.
Молодая женщина опустила глаза. Быть может, вырвавшиеся из ее души слова сказали больше, чем она хотела…
Рассказав историю своего знакомства с гениальным ученым, которого обожали студенты и уважал весь образованный мир, Рудольф Гроссе пояснил, как сильно был польщен молодой студент вниманием и дружбой такого человека. Менцерт был уже стариком. Его двадцатипятилетний профессорский юбилей только что был отпразднован в Бонне всей Европой. Но окруженный славой и почетом пятидесятилетний ученый не был счастлив. Одинокий, разбитый разочарованием в идеалах своей юности и изверившийся в человечестве, лишенный семейного счастья, он испытал последнее горе, смерть единственного любимого им существа, – незаконного сына. Юноша двадцати двух лет умер от мучительной и неизлечимой болезни.
– И вот, на этого-то юношу я оказался похожим. Странная игра судьбы дала мне черты лица, одинаковую фигуру, рост и манеры человека, совершенно чуждого мне по крови. И это-то сходство завоевало мне любовь старого ученого и старого масона, обязанного страшной клятвой не любить никого и ничего на свете, кроме тайной цели ордена, о которой я тогда и понятия не имел… Не стану передавать вам подробно, Ольга, каким образом знаменитый ученый, обязавшийся завоевать меня для масонства, почему-то обратившего на меня внимание, оказался не только неспособным выполнить свое обязательство, но даже, больше того, счел своим священным долгом спасти дорогого ему молодого человека от страшного раскаяния, сжигавшего старость Менцерта бесплодными сожалениями и мучительным ужасом… Не стану передавать вам всего, что я узнал от великого ученого. Он должен был рассказать всю страшную правду о действительных масонских идеалах, для того, чтобы разрушить мою веру. В конце концов ему, конечно, удалось заставить меня ненавидеть и презирать союз, который так недавно еще казался мне святым и чистым. Он сделал больше того. Он доставил мне свободу, воспользовавшись знанием статутов, разрешающих выход из ордена масонам первых посвящений. Но я слышал от Менцерта, что и после выхода за мной учрежден будет тайный надзор, и остерегался подать повод предполагать, что знаю о масонах больше, чем любой «ученик» свободных каменщиков. Благодаря этому конечно, меня до сих пор оставляли в покое… Но мой бедный друг и учитель… – голос профессора дрогнул и оборвался. Он закрыл лицо руками, скрывая навернувшиеся на глаза слезы.
Ольга сострадательно взяла его за руку.
– Я знаю, бедный друг… Он сошел с ума и застрелился.
Профессор Гроссе сверкнул глазами.
– Так говорит вся Европа, оплакивающая смерть великого соперника Гумбольдта… Но вся Европа ошибается. Я знаю иное… Мой великий учитель никогда не был безумным, и не самоубийством покончил он… Я видел его за два часа до смерти. Он пришел ко мне украдкой, в черном парике, скрывавшем его серебряные локоны, с привязанной бородой и синими очками на блестящих умом вечно юных глазах. Он принес мне рукописную книгу, – свои записки о масонстве, все, что он видел и узнал, все, о чем догадывался… Я не читал ничего ужасней этой холодной и беспощадной исповеди. Эта книга, написанная великим ученым, могла бы иметь громадное и спасительное влияние на отношение человечества к масонству… Терзаемый мрачными предчувствиями, знаменитый ученый давно уже собирался написать все, что знал о злодейской международной секте поклонников сатаны… В последнее время его предчувствия стали действительностью. Его заподозрили в измене ордену и вызвали на суд «верховного синедриона». Вместо того, чтобы исполнить это предписание, он прокрался ко мне с книгой своих записок в кармане… «Опубликуй эту книгу, когда нужно будет спасать христианство». Это были его последние слова. «И что бы со мной ни случилось, – молчи!.. Не лишай меня последнего утешения: сознания, что я спас тебя, глядевшего на меня глазами моего бедного сына. Дай мне слово молчать, что бы ты ни слыхал о причинах моей смерти. Я требую этого во имя моей любви к тебе»… Мог ли я отказать такой просьбе?.. Я дал слово и исполнил его. Старик ушел, а я просидел целую ночь за чтением страшных записок, и не раз, Ольга, чувствовал, переворачивая страницы, как волосы шевелились на моей голове и ужас леденил мою душу… А на другое утро я прочел в газетах о «внезапном припадке сумасшествия» нашего знаменитого Менцерта, во время которого «несчастный ученый» нанес себе семь смертельных ран в грудь и голову. Револьвер моего бедного друга был найден в его окостенелой руке, и никому не пришло в голову обратить внимание на то, что револьвер этот был шестизарядный… Откуда же взялась седьмая пуля в груди «застрелившегося»?..
Масоны были неосторожны на этот раз… Но я промолчал, помня мое слово и зная, что все мои старания раскрыть истину окажутся тщетными, или, в крайнем случае, при необычайной удаче, пострадает какой-нибудь «козел отпущения», т. е. один из членов первых посвящений, всенепременно христианин, – избранный всесильным жидо-масонским кагалом для того, чтобы удовлетворить не в меру любопытных судей, желающих находить виновного при каждом преступлении. Зная все это, я молчал целых пять лет… Не презирай меня за это, Ольга…
Молодой ученый закрыл лицо руками, едва удерживаясь от рыданий. Ольга тихо плакала.
– Бедный друг, сколько вы выстрадали.
– Ах, что мои страдания… Я искупаю свою вину, бессознательную, конечно, но все же тяжелую вину перед Богом и родиной потому, что каждый, поступающий в масоны, в сущности отрекается от Христа и изменяет своей родине… Я виноват… но вы, Ольга, ни перед кем и ни в чем не виновны, а между тем я боюсь за вас, зная, что на вас «обратили внимание» масоны. И, несмотря на это, я все же должен просить вас быть моим душеприказчиком и исполнить за меня обещание, данное мною Менцерту, в случае, если наступит моя очередь умереть… от масонского «самоубийства». Обещайте мне, так или иначе, войти в мой кабинет и взять книгу Менцерта. Вы найдете ее по записке, которую я заранее оставил моему отцу.
– Но почему бы вам сейчас не принести этой рукописи мне? – спросила Ольга. – Это было бы проще всего.
– Потому, что я не хочу подвергать вас преждевременной опасности. Одно подозрение о существовании подобной рукописи было бы смертельным приговором для каждого. Уже мои «признания» опасны, но вы можете уничтожить их, так как у Менцерта найдете подробную историю моего совращения в масоны. Книга же, написанная рукою великого ученого, имеет такое громадное значение, что в случае моей смерти я прошу вас передать ее императору. Император Вильгельм знает почерк Менцерта, лекции которого он сам слушал в университете в Бонне. Он узнает его рукопись, поверит убитому масонами гениальному ученому и, может быть, спасет христианский мир от порабощения армией сатаны…
Когда я узнал о внимании к вам императорской четы, я понял, что Господь послал вас мне в помощь, и решил немедленно довериться вам. Но вы ничего не знали о масонстве и могли просто не понять моей просьбы. Вот почему мне пришлось подготовлять вас, объясняя вам причины опасностей, окружающих вас самих… А за это время человек, видевший вас чуть не каждый день, мог ли не полюбить вас, Ольга… И вот эта-то любовь заставила меня колебаться и откладывать… Если это был эгоизм, то не презирайте меня за него. Я боялся за вас, а не за себя…
Ольга молча протянула руку ученому, остановившемуся перед ней с лицом человека, ожидающего приговора: «Жизнь или смерть»? Этот вопрос был так ясно написан на побледневшем красивом лице молодого человека, что сердце женщины сжалось нежностью и болью.
Замужество
Молодой ученый осторожно поднес к своим губам холодную белую ручку.
– Я понимаю вас, Ольга, и потому-то я и полюбил вас, что понял ваше сердце и вашу душу раньше, чем даже увидел ваше прекрасные светлые глаза… Я знаю, что вы много страдали в вашей короткой жизни.
– Да, Рудольф… Вы правы. Я много страдала. Сначала почти бессознательно, как страдают дети. Но потом я поняла, что было так мучительно в моем коротком супружестве… Вы знаете, что я была замужем, но не знаете подробностей этого брака. А между тем он положил неизгладимую печать на мою душу. Не потому, чтобы я не любила мужа. Хотя он и был ровно втрое старше меня, но 15-летняя девочка искренно восторгалась сорокапятилетним генерал-адъютантом, таким красивым, изящным и богатым; если бы он захотел, то ему не трудно было бы навсегда привязать меня к себе. Бедной сироте, воспитанной из милости дальними родными, холодными и сухими эгоистами, так хотелось любви и ласки… О, да, я любила моего мужа в день нашей свадьбы, наградив его всеми качествами институтского идеала. И весь институт завидовал мне, делающей такую блестящую партию. Но мой муж смотрел на меня так, как смотрят знатные турки на дорого купленных одалисок. Нас венчали в церкви Зимнего дворца, в присутствии всего придворного общества, причем сама государыня была посаженой матерью сиротки-институтки… В этот день я была безмерно счастлива и любила своего мужа всем своим детски чистым и детски доверчивым сердцем.
Невольно увлекаясь, она передавала картины прошлого подробней и горячей, чем хотела вначале:
– Тотчас после свадьбы мы уехали за границу, в Италию, посетили Монте-Карло, где и остались надолго. Муж сильно играл, а я целые дни проводила на моем балконе, или в маленьком отдельном садике, прилегавшем к занимаемому нами павильону, составлявшему одно из «отделений» первоклассного отеля, за книгой или вышиванием. Завтракала я одна в нашей маленькой столовой. Но к обеду муж всегда возвращался и находил меня в парадном туалете, как подобает для аристократического «table d’hote». Нас знали все решительно. Муж не впервые «играл» в Монако, и потому «la petite contesse Belsky» пользовалась общим вниманием… Это было лучшее время моей замужней жизни. Только после возвращения в Петербург начались мои испытания.
Позвольте мне пропустить подробности моего первого петербургского «сезона». За мной ухаживали, мною восхищались, обо мне сплетничали… и злословили… Все, как быть должно… Отрадно вспомнить мне только милостивое внимание государя и государыни, да и доброту всей царской семьи. Мы все, «смолянки», издавна пользуемся особым покровительством русских государей. Это, так сказать, историческая традиция. Это единственное светлое воспоминание того времени, а остальное? Каждый выезд кончался сценой, мучительной и… унизительной… Прекратить же выезды, как я не раз хотела, мне не позволяли, ибо они были «необходимостью нашего положения в свете». А между тем на каждом балу за мной ухаживали все, кому не лень было. Молодая жена стареющего мужа казалась всем светским донжуанам «легкой добычей»…
Всего обиднее, что мой муж, перед которым я благоговела вначале, ревновал меня не из любви, даже не из-за страсти – грубой, но, пожалуй, естественной, а только из самолюбия. Ему обидно было, что мои ухаживатели безмолвно причисляли его к старикам, предполагая, что года успехов для него окончились. Не сразу разобрала я, что мой муж подозревал, будто и я думаю так же, как и общество, причисляя его к «развалинам» и ценя в нем только его имя и состояние. Для того, чтобы «разбудить» меня и доказать мне свою… молодость, мой муж рассказывал мне о своих успехах у женщин, об успехах прошедших и… настоящих. Особенно подчеркивал он то, что его «победы» ему «ничего не стоили», или только «самые пустяки»… Для подтверждения он приводил имена и цифры своих расходов на ту ил иную «авантюру». Сколько раз выслушивала я от своего мужа, что в сущности я «единственная женщина, которую он купил так дорого»… Сколько раз он уверял меня, что за мной ухаживает тот или этот только потому, что я «обойдусь дешевле» какой-либо танцовщицы или французской актрисы. Сколько раз бросал мне в глаза обвинение в гадком расчете, в том, что я «завлекала» его в институте «своими опущенными глазками и стыдливым румянцем», осведомившись заранее о полутораста тысячах годового дохода генерала графа Бельского. Друг мой, простите эти унизительные подробности. Но должны же вы понять, откуда у меня эта ненависть к «ухаживателям», эта боязнь любви. Теперь вы поняли, не правда ли?
– Бедная Ольга… – прошептал Рудольф. – Вы много страдали.
Ольга только рукой махнула.
– Я выносила свои светские «успехи» всего полтора года, – три «сезона». – В начале четвертого, весной, я уехала за границу из великолепной дачи мужа на Каменном острове, имея в кармане 300 руб., полученных от заклада моего институтского «шифра» и нескольких свадебных подарков царской семьи, которые я имела право считать своей личной собственностью.
Надо вам сказать, что мой муж сам предоставил мне возможность уехать за границу, т. е. за пределы его досягаемости. Собираясь на воды, в Карлсбад, он заранее взял заграничные паспорта для нас обоих. Но, имея особые причины остаться некоторое время в Петербурге без меня, он приготовил на этот раз для своей жены отдельный заграничный паспорт. Таким образом, я уехала совершенно официально, в назначенный день и час, сопровождаемая мужем до вокзала, а затем курьером и горничной. До границы я доехала с этой «свитой», но затем курьера просто отпустила, горничную же послала обратно в Петербург с письмом к мужу, в котором объясняла ему мое решение и его причины… В Берлине я остановилась всего на один день, чтобы повидать нашего священника, о котором я слышала много хорошего, и, рассказав ему мое положение, просить у него совета, куда двинуться и что начать. Дело о разводе я заранее поручила вести знаменитому петербургскому адвокату Неволину, которому и выдала доверенность перед отъездом, пользуясь тем, что меня «эмансипировали» от опеки перед свадьбой. Правда, муж оставался моим попечителем до моего совершеннолетия, то есть до 21 года, так что положение мое было не из приятных. Но… все спорные вопросы зависят от «судоговорения», смеясь пояснил мне опытный адвокат. Именно поэтому я и предпочла ожидать заграницей моего развода.
По совету добрейшего отца Алексея, нашего берлинского священника, я доехала до Гамбурга и села на первый попавшийся пароход, уходивший в дальнее плавание. Это было маленькое 900-тонное суденышко фирмы Вермана, отвозящее еженедельно почту и грузы к западноафриканскому берегу. Пассажиров его более чем просто обставленные суда принимали очень немного, за неимением кают с одной стороны, за малонаселенностью немецких колоний Камеруна, – с другой. Для меня все это было находкой, и я весело отправилась в путь на маленькой вермановской «Гедвиге», которая довезла меня через десять дней благополучно до Мадеры, откуда я и телеграфировала своему поверенному и своему мужу, прося их адресовать ответы на остров Тенериф, куда отправилась со следующим пароходом той же компании, прожив на Мадере десять дней. В Тенерифе мне пришлось пробыть дольше, почти месяц, ожидая ответов, по получении которых я направилась уже с другой «линией» пароходов, в Бразилию… Таким образом пространствовала я из одного порта в другой почти два года, чуть ли не самых интересных в моей жизни. В каких только государствах я ни перебывала, сколько портовых городов осмотрела – и не запомню… За два года путешествий я не издержала и половины суммы, любезно выданной мне отцом Алексеем заимообразно. Правда, я многому научилась и еще больше позабыла, научившись считать и «по одежке протягивать ножки» с одной стороны, а с другой, позабыв командовать батальоном прислуги и входя в магазин бесцеремонно говорить: «пришлите мне того-то, туда-то»… Я называю эти два года моей «высшей школой практической жизни» и могу вас уверить, Рудольф, что я времени не потеряла в этой школе, и если могу теперь быть приличной хозяйкой дома, даже немецкого, то только благодаря пройденному курсу…
Ольга запнулась и густо покраснела при мысли, что ее собеседник мог принять эти последние слова за кокетливый намек…
Рудольф Гроссе прочел ее мысли в ее глазах и грустно улыбнулся…
– Как вы напуганы, Ольга, – печально произнес он. – Я понимаю, что вам трудно будет решиться отдать свою руку кому бы то ни было. Ваш муж сделал настоящее преступление, отравив вашу душу недоверием и подозрительностью… даже к самой себе…
Ольга быстро перебила его:
– Не говорите дурного о моем бедном муже, Рудольф. Вы не знаете, как жестоко покарала его судьба за ошибки, в которых он был виноват только отчасти, так же, как и девять десятых мужчин на всем земном шаре. Но, в конце концов, он искупил свою вину… даже передо мною…
– Великодушно согласившись дать вам свободу? – с невольным раздражением спросил профессор.
Ольга улыбнулась этому раздражению и этому вопросу.
– О, нет, мой друг. На подобное великодушие граф Бельский способен не был. Бегство молодой жены слишком больно резануло его по нервам и, главное, по самолюбию. Граф Бельский вознегодовал при неожиданном известии о том, что его жена могла бросить своего мужа. Такого мужа, как он! И какая жена! Безродная сиротка, воспитанная из милости. «Девчонка», которую он взял буквально «без рубашки», за ее «смазливую рожицу», и которой дал свое знаменитое имя, графский титул, положение в свете, приезд ко Двору, словом все-все-все, чуть ли не блаженство. Впрочем, раздражение моего мужа было понятно. Я ведь знала злорадство столичного общества и легко могла себе представить из сообщений моего адвоката и отца Алексея, единственных моих корреспондентов из России и Европы, – сколько колкостей и шпилек приходится выслушивать моему бедному мужу… Какой сюжет для сплетен светских кумушек обоего пола! Поняла я и то, что мое имя смешивают с грязью, обвиняя меня Бог знает в чем. Светское общество торжественно «вычеркнуло меня из списков» порядочных женщин. Говорили, конечно, что я уехала с любовником, если не с двумя, и что я «воспользовалась деньгами мужа», попросту обокрала его, чуть не взломав его кассу… Совесть моя была спокойна, а между тем мне было больно… Мысль о том, что государь и государыня, бывшие ко мне так милостивы, теперь станут презирать меня, была так невыносимо тяжела, что я не выдержала и, пользуясь драгоценным правом «смолянок» обращаться с письменной просьбой к Августейшей покровительнице института, написала государыне всю правду, откровенно прося ее Величество, мою обожаемую и Богом данную «Мать», не верить злым сплетням. Должно быть, правда имеет свой особенный голос, внушающий доверие, так как через два месяца я получила письмо от любимой фрейлины императрицы. «Ее Величество, писала графиня Аникина, была сердечно рада узнать, что ее «посаженая дочь» не нарушала святости брака и не виновна ни в чем, кроме легкомыслия. И хотя государыня не может оправдать жену, покидающую мужа, хотя бы и виноватого перед ней, но государыня сохраняет графине Ольге Бельской свое милостивое благоволение, от души желая скорейшего и, по возможности, мирного окончания семейного недоразумения, вдвойне тягостного, когда оно происходит в среде высшего дворянства, долженствующего служить примером благочестия и чистоты семейной жизни».
Письмо графини Аникиной было величайшей и незаслуженной милостью и спасительным уроком, которым я воспользовалась при получении известия о смертельной болезни моего мужа.
– Значит, вы не разведенная жена? – быстро спросил молодой ученый, и в его голосе было столько бессознательной и наивной радости, что Ольга невольно засмеялась.
– Ах, друг мой, какой вы… немец… Сознайтесь, что в качестве разведенной жены я потеряла бы часть моего ореола в ваших глазах, хотя в Германии развод допускается законом и достигается несравненно легче, чем у нас в России.
В свою очередь профессор покраснел.
– А вы сознайтесь, что все еще не доверяете моей… привязанности, Ольга, – уклончиво ответил он. – Впрочем, я и не скрою, что лично не одобряю развода в принципе, хотя конечно допускаю исключения, для которых, в сущности, и создан закон о разводе. Соединенных Богом человеку разъединять не следовало бы…
Ольга протянула ему руку.
– Кто же или что освободило вас от несчастного брака? – спросил профессор.
– Бог… – серьезно ответила Ольга и перекрестилась широким православным крестом. – Прости, Господи, моего мужа, как я его простила… Он умер во время процедуры развода, раненный мужем француженки-кокотки, – последней его любовницы. Я была в Сен-Пьере, на Мартинике, когда получила телеграмму, сообщающую мне о неизлечимой болезни мужа и о его желании примириться со мной перед смертью, и благодаря встрече быстроходного трансатлантического парохода, была в Петербурге уже через 12 дней… Мужа я нашла умирающим… То, что с ним случилось, поистине ужасно. Кокотка, у которой он бывал, имела особенного любимца, с которым была даже обвенчана. Это был татарин, лакей, превратившийся в профессионального «борца», когда у нас вошла в моду так называемая «атлетика». Однажды, будучи в нетрезвом виде, он встретился с графом Бельским, причем мой муж обошелся с ним так, как заслуживают люди этого сорта. Но для пьяного «артиста» дерзость графа показалась обидной. Прежде чем мой несчастный муж мог опомниться и выхватить шашку, татарин схватил его поперек туловища и вышвырнул из окна третьего этажа на улицу… Графа подняли без чувств, с переломанными ребрами, с размозженными ногами и разбитой головой… Когда я приехала, он был в полной памяти, хотя весь забинтован и страдал невыносимо. И агония эта тянулась полгода. Сколько мы изъездили курортов, сколько перевидали профессоров, но спасти графа было уже невозможно из-за внутренних повреждений. Я была верной и преданной сиделкой моего мужа. Мое присутствие было последней его радостью. Он полюбил меня искренней и глубокой любовью. Увы, слишком поздно…
Перед смертью он исповедовался, прося у меня прощения, снял с меня всякую тень подозрения. Я просила его передать все состояние детям, а мне оставить пенсию, – ровно столько, сколько надо для скромной жизни. Муж беспрекословно исполнил мою просьбу, оставив мне сумму, сравнительно, конечно, позволяющую мне быть независимой… Через два дня его похоронили… – Ольга замолчала и задумалась.
– И вы остались вдовой в двадцать лет?
– Да. Мне было ровно 21 год, – подтвердила Ольга, – и в качестве совершеннолетней, я оказалась вполне независимой, – и по правде сказать, в очень тяжелом положении – почти одинокой. Жить в доме моего пасынка я не могла уже потому, что знала, что предложение было сделано только в надежде на мой отказ. Куда мне было деться и что с собой делать? Продолжать мою бродячую жизнь?.. Я попробовала это, проведя год обязательного траура за границей. Я проехала в Индию и Японию и вернулась через Владивосток и Сибирь. Но как ни интересны были страны, которые я видела, но я уже не чувствовала полного удовлетворения. Любопытство притупилось.
Кошмар
– Через полгода, продолжала Ольга, – я вернулась в Питер. Давно я имела влечение к сцене, у меня был выдающийся голос, я считалась первой солисткой в Смольном. Мне не трудно было поступить в Мариинский театр, в русскую оперу, где я имела успех. Публика сразу полюбила меня, полюбил и наш капельмейстер, ценящий таланты, откуда бы они ни приходили… Но я скоро заметила, что я, как говорит русская пословица, «от одного берега отстала, к другому не пристала». Для артисток я оставалась аристократкой, графиней Бельской. Для общества же, т. е. для того высшего круга, в котором еще так недавно я была «своей», я превратилась в оперную певицу, Ольгу Бельскую, получающую (fi donc) жалованье, и которую каждый мужчина имеет право… пригласить ужинать… Вот эти-то «приглашения» были так же оскорбительны, как и насмешливо-завистливое отношение моих товарищей по театру. Я решила испытать счастья в Италии. Приехав в Рим, я получила приглашение петь в театре Сан-Карло, где мой успех был велик. Но какой-то злой рок преследовал меня… Пропев немного более месяца, я заболела дифтеритом и мой голос, хотя и не пропал совсем, но ослаб…
Далее Ольга передала о своих триумфах, заканчивавшихся такими же неудачами. Профессор заметил, что это дело масонов.
– Знаете ли что, Рудольф?.. Я бы должна бояться этих масонов после всего, что вы говорили и что я читала, но, представьте себе, мне почему-то кажется, что вы преувеличиваете, вы, ученые историки и политические журналисты. Право, дорогой друг, ваши масоны не так умны, как вы думаете. Ведь уже одно то, что они выбрали меня орудием… Ведь это же глупо…
– Но я не понимаю, почему? – с некоторым недоумением заметил профессор.
Ольга улыбнулась.
– Потому, что дипломатические способности наших масонов и их всеведение не особенно велики, раз они избрали именно меня орудием своих планов, не догадываясь, что я менее чем кто-нибудь гожусь на роли соблазнительниц.
– Но… вы не знаете того, как эти люди умеют играть душами, переделывая их на свой лад. Уж если они играют, как пешками, серьезными и гениальными мужчинами, каким был Менцерт, то трудно ли им справиться с женщиной, существом нервным и увлекающимся. Я по опыту знаю их адское искусство заставлять каждого глядеть их глазами и думать их мыслями. Не говоря уже о чисто дьявольском средстве – гипнотизме, который изучается, к несчастью, до сих пор только злодеями… Вас охраняла до сих пор невидимая сила креста, но сколько гибнут не веря, или недостаточно веря… Маловерие – опаснейшая духовная болезнь нашего времени и…
– Я очень счастлива, слыша эти слова от вас, Рудольф…
Ольга взглянула на профессора с нескрываемой нежностью.
– Я так боялась, что наука, особенно протестантская, создает неверие, или по крайней мере пренебрежение к нашей православной вере, с ее поклонением Богоматери, со всем тем, в чем находят отраду сотни миллионов верующих православных и без чего я не понимаю, как могут жить ваши лютеранские жены и дети… И я очень счастлива, видя ваше отношение к религии вообще, и к моей русской церкви – в частности…
– Ольга, великая и настоящая наука не только не противоречит религии, но подтверждает ее. Это так верно, что когда мы с Менцертом были в Париже, у Ренана, то он согласился с нами.
– Ренан?.. Этот кощунник, отвергающий божественность Спасителя? – с негодованием и с недоумением вскрикнула Ольга. Профессор улыбнулся.
– Ренан последних лет не тот, каким был в начале своей карьеры. Прочтите его «Историю израильского народа», и вы найдете на последней странице признание божественности Христа, которую он отвергал в своей первой книге «Жизнь Иисуса»… Но такова сила влияния масонства, что кощунственная книга известна всему миру, а страницы, опровергающие ее, неизвестны… Если бы вы еще сомневались в могуществе масонов, то припомните этот пример и не смейтесь больше над опасностью, угрожающей всему христианскому миру. Вспомните, что уже более ста лет Европа читает только то, что угодно масонам; молодые поколения христиан воспитываются в поклонении тайным обществам, карбонариям, иллюминатам, розенкрейцерам и так далее… без конца. Даже всемирную историю подделывают, превращая чернокнижников и сатанистов-тамплиеров в мучеников, короля же и папу, спасших христианство от слуг антихриста, – в злодеев. Вспомните, Ольга, в каком духе написаны известнейшие и популярнейшие руководства всемирной истории Шлессера, Ранке и т. д. С каждой страницы так и пышет ненависть к монархизму, патриотизму и… христианству. С начала XIX века всех заговорщиков и революционеров открыто прославляют популярнейшие писатели Европы: Виктор Гюго, Жорж Занд, Бальзак, Дюма-отец, Эжен Сю, Понсон дю Герайль и Густав Эмар, иногда даже не подозревающие, что они служили целям масонов, стремившихся погубить их родину… Это ли не доказательство силы масонства. И страшней всего, что никто не замечает этого. Вот почему я и не решаюсь опубликовать вторую часть моей истории тамплиеров. Слишком рано… ее похоронят под гнетом молчания, как похоронили много других книг, написанных против масонов. Именно поэтому я и прошу вас не печатать рукопись Менцерта, а передать ее германскому императору. Если она убедит только одного этого человека, то цель моего несчастного друга будет достигнута, и христианство – спасено.
Ольга на минуту задумалась.
– Вы правы, друг мой. Теперь я и сама думаю, что Провидение привело меня в Берлин, чтобы помочь вам в этом великом деле. Император так милостив ко мне, что я не сомневаюсь в том, что он примет от меня рукопись хоть завтра.
Профессор вздрогнул.
– О нет, Ольга, ради бога, не так скоро… Вы не знаете, какой страшной машины собираетесь коснуться. Одно подозрение о существовании откровенных признаний масона 33-й степени будет смертным приговором вам и мне, и всякому, подозреваемому в том, что он знает содержание подобных признаний. Мне же хочется пожить еще немного и быть счастливым, если… можно… Простите мне этот эгоизм ради моей… любви к вам. Вот, если со мной случится несчастье, тогда другое дело…
– Не накликайте беды, Рудольф, – проговорила Ольга. – Я не хочу слушать мрачных предчувствий. Лучше скажите мне, как вы могли спрятать эту страшную рукопись от масонских шпионов?
– Не беспокойтесь, Ольга. Рукопись Менцерта сможете найти только вы, вместе с моим отцом, которого я предупредил уже, оставив ему нужные указания. Но не расспрашивайте меня об этом… Забудьте покуда эту страшную тайну. Мне не хочется думать о ней теперь, когда я смею надеяться…
Рудольф замялся, не решаясь договорить слов надежды, проснувшейся в его душе.
Но Ольга прочла его мысль в полном любви взгляде и, подняв на него глаза, медленно и спокойно проговорила, протягивая ему руку:
– Надежда – счастье семейной жизни? Не так ли, друг мой?
Красивое лицо молодого ученого просияло.
– Ольга… обещайте мне постараться полюбить меня хоть немного…
– Я скажу вам больше этого, друг мой, – тихо ответила Ольга. – Но дайте мне время привыкнуть к мысли о многом… Хотя бы о потере свободы, бывшей до сих пор милей всего необузданной дочери казачьих степей… Прошу вас, подождите. Не очень долго… пока я сама скажу вам… когда наша свадьба…
На следующий день Ольга вечером играла во второй раз «Иоанну д’Арк». Во время спектакля, во втором акте император заехал в театр на минуту, как делал нередко, и зайдя за кулисы, заговорил с Ольгой.
– А я нечто слышал о вас, прекрасная Иоанна д’Арк! – начал он с милостивой улыбкой. – Русский посол, у которого я только что обедал, сообщил мне романическую историю молодой жены старого генерала, ухаживавшей так самоотверженно за больным мужем, умиравшим из-за другой женщины…
Забывая этикет, Ольга перебила императора:
– Ради Бога, ваше величество, не превращайте в заслугу простое исполнение долга.
Император улыбнулся.
– Вы всегда судите здраво, честно и бескорыстно. Это хорошо… но редко. Если когда-нибудь вам нужен будет защитник, то прошу вас обратиться ко мне графиня.
Ольга вздрогнула…
Такой удобный случай мог никогда больше не представиться. Император так милостив сегодня. Рассказать ему немедля о рукописи Менцерта?..
Но какое-то необъяснимое чувство удержало Ольгу от полной откровенности, и она сказала только часть того, что хотела.